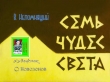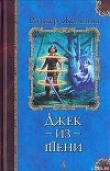Текст книги "Три страны света"
Автор книги: Николай Некрасов
Соавторы: Авдотья Панаева
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 56 страниц)
Глава III
КАРТЫ СКАЗАЛИ ПРАВДУ
Поступок горбуна расположил в его пользу даже недоверчивую Надежду Сергеевну. Впрочем, горбун сначала не часто ходил к Полиньке и даже не всегда являлся на приглашения.
Полинька не скучала с ним, его рассказы, то страшные, то веселые, сокращали время, которое без Каютина казалось ей слишком длинным. Наступили бесконечные зимние вечера, и Полинька часто сама упрашивала горбуна посидеть подольше. Горбун много видел, много испытал, и разговор его не мог скоро наскучить. Все чаще и чаще посещал он Полиньку, и нередко ему случалось просиживать с ней целые вечера с глазу на, глаз. В такие дни он делался особенно весел, шутил, показывал разные фокусы на картах, гадал Полиньке, и всегда так удачно, что она иногда сама просила его погадать. Иногда он показывал ей золотые и брильянтовые вещи, говоря, что несет их заложить или продать, и просил ее примерить серьги или браслет. Полинька, любившая наряды, засматривалась на себя в брильянтах и с грустью расставалась с ними. Горбун позволял ей иногда оставаться в них целый вечер, и странно было видеть девушку, очень просто одетую, с работой в руках – и в таких дорогих украшениях. Глаза Полиньки еще ярче горели от удовольствия, и горбун, будто любуясь игрою и блеском своих брильянтов, не сводил с нее глаз.
Горбун умел так хорошо поставить себя в ее маленьком обществе, что примирил с собой всех. Он при случае льстил с такою искренностью, что нельзя было не верить ему, – с Полинькой же обходился очень просто, при посторонних не пропускал случая сделать ей наставление и вообще принял с ней тон отца. Случалось, и то очень редко, он делал ей подарки, но всегда незначительные; когда же она отказывалась, он с грустью говорил:
– Палагея Ивановна, у меня нет дочери, которую я мог бы любить и баловать.
С хозяйкой дома он также сдружился. Они беседовали иногда по целым часам; но их трудно было понять: неоконченные фразы дополнялись улыбками, выразительными жестами и прищуриваньем глаз. Горбун заметно худел; что-то тревожное проявлялось в его движениях и взглядах. Иногда он приходил одетый очень тщательно; его прекрасные вьющиеся волосы блестели, и в комнате при его появлении распространялся запах нежных духов. Зато бывали дни, когда он являлся нечесаный, небритый, с глазами впалыми и блуждающими. Его движения были порывисты и судорожны; он больше молчал, а если говорил, то слова его отзывались такою желчью и горечью, рассказы были так мрачны, что По-линька в такие дни боялась его.
Так прошло много времени. Наступила весна.
Уже несколько дней сряду горбун ходил как потерянный: то нападали на него припадки исступленной веселости, то вдруг брови его хмурились, он смотрел угрюмо и молчал. С некоторого времени он уже постоянно посещал Полиньку каждый вечер, а если не заставал ее, то дожидался, расхаживая по Струнникову переулку.
Было около осьми часов вечера; девица Кривоногова сидела перед столом и гадала: сложив свои масляные руки на животе, она глядела на разложенные карты и кого-то энергически бранила. Это занятие до того поглощало ее внимание, что она не заметила прихода горбуна. Мрачный, нечесаный, он стоял перед ней и вслушивался; лицо его было бледно, и злая улыбка дрожала на его синих губах.
– На кого вы это сердитесь? – спросил он с усмешкой.
Хозяйка вздрогнула, вскочила и с удивлением смотрела на горбуна.
– Ну, о чем гадаете? а?
– Как вы тихо вошли: я и не слыхала!
– Еще бы вы громче бранились!
– Да что, прости господи, чего только ей не лезет! посмотрите!
И хозяйка указала на карты.
– Эва! свадьба, нежданное богатство, деньги, пиковый король крепко думает о ней, перемена… тьфу!
Хозяйка в негодовании плюнула; но вдруг лицо ее просияло.
– Ах, боже ты мой! – воскликнула она: – я туза-то и проглядела! да! ну теперь не то: ей будет большая неприятность! слезы, слезы!
И хозяйка била кулаком по карте, которая предсказывала слезы.
– Где вы научились гадать? – насмешливо спросил горбун. -
– Самоучкой! – с гордостью отвечала девица Кривоногова.
– Да-с! и моя покойница матушка мастерица была гадать; я около нее и понаторела.
– Хорошо. Ну-с… дома?
– Дома.
– Одна?
И горбун глазами указал на потолок.
– Одна! – быстро отвечала хозяйка, смешивая карты.
Горбун нахмурил брови, стиснул зубы и судорожно сжал свою палку, потом стукнул ею об пол, поднял голову и прошептал дрожащим голосом:
– Если спросят…
– Дома нет! – отвечала хозяйка.
Горбун одобрительно кивнул головой.
– Мне нужно… – заговорил он.
– Переговорить? – подхватила хозяйка, улыбаясь своей проницательности.
– Хорошо! – благосклонно заметил горбун.
Он походил в ту минуту на учителя, который экзаменует своего ученика и, довольный его ответами, улыбается и потирает руками. Оглядев комнату, горбун привстал на цыпочки; хозяйка проворно подставила ему ухо: горбун что-то шепнул ей и сунул в руку что-то звонкое.
Лицо хозяйки покрылось фиолетовыми пятнами; глаза подернулись маслом; она крепко сжала свою руку. Горбун медленно вышел из кухни и побрел на лестницу; почти на каждой ступеньке он останавливался, будто не решаясь итти далее, но вдруг разом перескочил несколько ступенек и с шумом отворил дверь. Полинька встала принять гостя; горбун, по своему обыкновению, подошел к ее руке и, поцеловав ее, медлил оставить. Полинька покраснела и поспешила высвободить свою руку.
– Как вы поживаете? – рассеянно спросил горбун и сел.
– Я здорова, – отвечала Полинька и с любопытством смотрела на горбуна, который потупил голову и задумался.
Так прошло с минуту. Вдруг он неожиданно поднял голову, глаза их встретились. Полинька быстро наклонилась к своему шитью; щеки ее вспыхнули ярким румянцем. Горбун приподнялся на своем стуле; глаза его страшно блестели; он весь превратился в зрение.
Полинька в ту минуту была необыкновенно привлекательна; краска, мгновенно вспыхнувшая, оставила в ее лице легкие следы и придавала особенную живость ее нежной коже. Опущенные глаза в полной красе выказывали ее длинные и густые ресницы; черные волосы с влажным отливом до того блестели, что горбун мог бы увидеть в них свое уродливое изображение. Она низко нагнулась к шитью, чтоб укрыться от глаз горбуна. Платье резко обрисовывало ее грациозные формы, и ускоренное дыхание придавало жизнь каждому ее волоску.
Горбун быстро встал и начал ходить по комнате. Полинька боялась поднять голову, чтоб опять не встретиться с его глазами.
В нем заметно было страшное волнение; горб его, казалось, колыхался от судорожных движений. Мерно и тоскливо прохаживался он по комнате, как медведь в клетке.
Вдруг он остановился среди комнаты, как окаменелый, и не сводил глаз с Полиньки, – наконец молча подошел к ней и стал гладить ее по голове. Полинька с удивлением подняла голову; но, не обратив внимания на ее движение, он спокойно продолжал ласкать ее, как маленького ребенка. Полиньке были неприятны и страшны его ласки; но она боялась обнаружить ему свое неудовольствие и снова наклонилась к шитью. Горбун переродился: его лицо приняло нежное и кроткое выражение; вглядываясь в густые и роскошные волосы Полиньки, он то бледнел, то краснел; руки его дрожали, дыхание было тяжело и прерывисто. Полинька чувствовала сильное смущение и уклонилась головой от его ласк. Горбун как бы испугался; он судорожно прижал ее голову к своей груди и горячими губами коснулся ее волос. Слабо вскрикнув, Полинька вскочила с своего места, остановилась в недоумении и с отвращением смотрела на горбуна. Он пошатнулся и, прислонясь к стене, закрыл лицо руками и дрожал всем телом, как в лихорадке. Вдруг едва слышный стон вырвался из его груди. Сделав шаг вперед, он дико и проницательно осмотрелся, но тотчас же с ужасом потупил глаза. Так он стоял, сохраняя совершенную неподвижность.
Полинька не могла понять, что с ним делалось; ей стало жаль горбуна и, помолчав, она робко окликнула его:
– Борис Антоныч!
Горбун с испугом поднял голову.
– Не случилось ли с вами какого несчастия?
– Несчастия? – повторил он, странно улыбаясь, и снова стал смотреть в пол.
– Вы очень скучны; что с вами?
Горбун посмотрел на нее, и в его глазах Полинька прочла бесконечную благодарность за свое ласковое слово. Она ободрилась и свободно продолжала:
– Право, вы сегодня на себя не похожи: отчего вы такой печальный?
Горбун грустно улыбнулся и проговорил слабым голосом:
– Для чего я вам буду рассказывать мои страдания? разве их весело слушать?
– Вы прежде были такой веселый.
– Я был весел для вас… но мне очень тяжело жить. В мои лета невозможно выносить…
– Что же такое случилось! – перебила его Полинька и, отбросив шитье в сторону, с любопытством ожидая ответа.
Горбун молчал. Наконец он с испугом схватил себя за голову и протяжно произнес:
– Меня давит, мне душно!
– У вас болит голова?
– Я весь болен, – слабым голосом отвечал горбун. Он казался самым дряхлым стариком в ту минуту,
– Вам скучно, Борис Антоныч? – Да! – поспешно и тихо пробормотал горбун.
Лицо его вспыхнуло, и он закрыл его руками.
Полинька печально вздохнула и взялась за шитье; в комнате было так тихо, что она могла слышать прерывистое дыхание горбуна. Они молча просидели несколько минут. Полинька задела рукой ножницы, лежавшие на столе, и они с звоном упали на пол. Оба вскрикнули, потом улыбнулись. Горбун нагнулся поднять ножницы, но их не было видно: он стал на колени и пристально всматривался. Полинька немного приподняла платье и прижала к дивану свои ножки. Ножницы показались, и горбун протянул к ним руку; но, увидав ножки Полиньки, он оцепенел… Она хотела встать – и коснулась его руки своей ножкой, которую он с силою сжал. Испугавшись, Полинька быстро опустилась на своё место и поджала ноги, как будто на полу лежала гадина.
Горбун был страшен: он весь уродливо изогнулся, горб его сделался огромен, волосы торчали, как щетина, шеи не было видно, и голова и горб – все слилось в одну отвратительную фигуру, и он в ту минуту скорее походил на чудовище, пораженное красотой женщины, чем на человека.
– Нашли? – спросила Полинька дрожащим голосом. Горбун подал ножницы и прямо смотрел ей в глаза.
Полинька отвернулась и протянула руку; горбун схватил ее и с жаром поцеловал. Полинька сделала движение, чтоб встать, но горбун удержал ее и страстно смотрел ей в глаза.
– Борис Антоныч, что с вами? – бледнея, вскрикнула Полинька.
Горбун ничего не отвечал; он вздрогнул и, как будто испугавшись чего, спрятал свою безобразную голову на колени девушки.
Полинька с отвращением отталкивала его… он целовал ее колени и плакал.
– Борис Антоныч, встаньте! – сердито закричала Полинька, и слезы выступили на ее глазах, и кровь бросилась ей в голову.
Рыдания были ей ответом. Полинька совершенно потерялась. Стараясь оттолкнуть голову горбуна, касаясь с ужасом и отвращением его жестких волос, она дрожала и горела. Стыд, негодование, страх вызвали слезы на ее глаза, и она горько плакала.
Задыхающимся, полным мольбы и рыдания голосом горбун повторял:
– Сжальтесь! сжальтесь над несчастным стариком! пощадите человека, которого никто никогда не щадил!
– Оставьте меня, оставьте! – кричала Полинька всхлипывая.
– О-о-одно слово! скажите хоть одно слово… утешьте старика!
И горбун, весь дрожа, приподнял голову и страстно смотрел на Полиньку. Она с отвращением отвернулась и гневно толкала его прочь, стараясь встать. Но он обхватил ее талию, и голова его упала к ней на грудь.
Переполненная негодованием, захватывавшим дыхание, Полинька вскрикнула, рванулась и привстала.
– Пустите меня! – грозно закричала она.
Горбун ничего не слушал. Он сжимал Полиньку в объятиях, целовал ее платье, обливал слезами ее руки; страшные, отчаянные стоны надрывали его грудь. Он был жалок в эту минуту, он был ужасен. Но Полинька ничего не чувствовала к нему – кроме отвращения. И когда, ослабев, он опустил свои руки, она ловко толкнула его и, вскочив на диван, обежала стол и стала за стулом. Грудь ее высоко подымалась, и, она грозно смотрела на горбуна. Он пытался ее удержать; но силы его оставили, и, как раненый зверь, упал он на диван и судорожно метался, подавляя свои стоны.
Полинька испугалась… Она подумала, что видит предсмертные муки горбуна. Но горбун вдруг вскочил и кинулся к ней с бешеным криком:
– Вы меня выслушаете!
Сложив руки на груди, Полинька смотрела на него умоляющим взором.
Он упал перед ней на колени и тихим, рыдающим голосом проговорил:
– Пощадите меня! дайте мне высказать вам…
Лицо Полиньки быстро изменилось: умоляющая женщина превратилась в торжествующую и кинулась к двери, думая убежать. В ту же минуту бешенство исказило черты горбуна, но он не двинулся с места.
– Я вас не хочу слушать! – презрительно крикнула Полинька у двери и толкнула ее.
Но дверь не отворялась… Полинька толкала ее сильней и сильней – напрасно!
Дверь была заперта снаружи.
Продолжая толкать ее, Полинька с ужасом оглянулась: горбун встретил ее торжествующим, насмешливым взглядом.
Все поняла Полинька.
– Боже мой! – воскликнула она отчаянным голосом.
Горбун засмеялся.
– Ага! вы теперь выслушаете меня! – сказал он.
Полинька вскрикнула и, пошатнувшись, прислонилась к двери, бледная, как приговоренная к смерти…
Глава IV
КНИЖНЫЙ МАГАЗИН И БИБЛИОТЕКА ДЛЯ ЧТЕНИЯ НА ВСЕХ ЯЗЫКАХ КИРПИЧОВА И КОМП.
В тот день, когда происходили события предыдущей главы, часу в десятом утра, Кирпичов, спустившись по теплой лестнице из третьего этажа, где была его квартира, вошел в свой магазин, помещавшийся во втором.
Мы сейчас скажем, каким образом Кирпичов сделался книгопродавцем и обладателем великолепного магазина.
Захватив в свои руки состоянье жены, он сначала, казалось, не имел никакого определенного плана касательно дальнейшей своей деятельности. Верно одно: продолжать прежнее ремесло, ремесло торговца хомутами, шлеями, шорами и разными сыромятными товарами в незначительном провинциальном городке, ему не приходило и в голову. Он бледнел и терялся, когда ему намекали на прежний род его торговли, – сам же о своем прошедшем никогда не говорил. Накупив множество фраков, пестрых жилетов, перстней и булавок, он поставил себе целью удивлять и озадачивать. И действительно, всегда с поднятой головой, с самодовольным и презрительным взглядом, обладая притом громким и резким голосом, в котором повелительная нота звучала так явственно, что, казалось, развитие ее с самых ранних лет никогда не было задерживаемо, Кирпичов достигал своей цели, – уважение же возбуждал непременное и всеобщее, с удивительным искусством в одну минуту давая почувствовать каждому, что у него не меньше миллиона в кармане. Знался он только с лицами избранными, а кутил с теми, которые умели ему льстить и между которыми мог играть первую роль. Словом, по всему было видно, что Кирпичов почитал себя призванным к деятельности более широкой и благородной, чем торговля гужами и хомутами. Но к какой же именно?
Этого, может быть, долго не решил бы и сам Кирпичов, если б ему не помог случай… Раз он был на балу у богатого купца, где в числе разнородных гостей находился и один сочинитель, по фамилии Крутолобов. Сочинитель, по обыкновению своей братии, говорил о литературе… о ее великом и благотворном влиянии… о ее высоком назначении… о ее лучших деятелях (в том числе, разумеется, – преимущественно о самом себе)… наконец, о благородном и высоком призвании тех, которые способствуют ее развитию своими капиталами и которые хотя сами не пишут, не переводят, но в некотором смысле могут назваться литературными двигателями, наравне с первостепенными талантами, и даже более… Словом, Крутолобов тонко высказал такую мысль, что без талантов литература может еще существовать, но без аккуратных, деятельных, расторопных и, разумеется, обладающих огромными капиталами книгопродавцев – решительно не может. Этот разговор произвел сильное впечатление на Кирпичова. Он пожелал познакомиться с сочинителем и пустился в подробные расспросы о книжном деле. Крутолобов знал эту статью превосходно, даже лучше собственного ремесла, и в час успел сообщить Кирпичову множество важных и любопытных сведений. Надобно здесь сказать для большей ясности, что Крутолобов в ту эпоху видел литературу, по его собственному выражению, на краю гибели; другими словами, книгопродавец, издававший в течение многих лет его сочинения, наконец был окончательно обобран и пущен по миру: настояла необходимость создать нового, который за честь знаться с сочинителями и пользоваться их печатными похвалами платил бы чистыми деньгами. Вот источник необыкновенного красноречия Крутолобова в тот вечер. Заметив в Кирпичове жадное внимание, он особенно распространился насчет великой чести и славы, сопряженной с званием книгопродавца.
– Имя его, – говорил он, – дойдет до отдаленного потомства, наряду с именами знаменитейших его современников; каждая книга, обязанная ему своим существованием и украшенная, разумеется, его именем, как издателя, будет громко свидетельствовать о готовности его жертвовать на пользу науки просвещения… И в самом деле, как не удивляться ему! как не благоговеть перед ним! сколько произведений великого ума не явилось бы в свет без содействия его капитала! сколько талантов погибло бы, если б не его великодушное покровительство!.. Да! автор создает, творит в тиши кабинета; но книгопродавец… что такое автор со всеми его талантами без книгопродавца? корабль без мачты… ларчик, в котором, может быть, скрыты сокровища, но ключ от которого потерян… Кто отопрет его и покажет миру скрытые в нем сокровища? Автор творит, но не он, а книгопродавец делает известными свету его творения… Таким образом, книгопродавец – настоящий двигатель литературы, душа, желудок…
Сравнив книгопродавца с желудком литературы, Крутолобов перевел дух. Кирпичов слушал его с жадным вниманием.
– Общество, – продолжал Крутолобов, смекнувший, каким образом нужно действовать на Кирпичова, – общество понимает высокую важность такого лица в среде своей, и надо видеть всеобщее уважение, которым пользуется такой человек… Не говоря уже о том, что все литераторы считают его братом, другом, даже больше – отцом и благодетелем своим… что ему между ними и почет и первое место…
Кирпичов гордо поправил свой шарф, черный с розовыми букетами.
– …он скоро приобретает себе друзей, – продолжал Крутолобов, старательно наблюдавший за впечатлением, которое производят его слова на Кирпичова, – друзей позначительнее литераторов. Князь, граф, генерал, каждый сановник, умеющий ценить общественные заслуги, с любовью подаст ему руку.
Здесь Кирпичов вытянул шею, выпрямился, и вся фигура его приняла величественное выражение.
– А какое наслаждение, какая честь, оказав истинную услугу литературе, удостоиться, например, публичной благодарности! вдруг печатно – да, печатно – во всех журналах и газетах на всю Русь-матушку объявят, что вот такой-то… положим, хоть… смею спросить ваше ими и отчество?
– Василий Матвеич, – подсказал Кирпичов.
– …что вот такой-то Василий Матвеич Кирпичов, – продолжал Крутолобов, с торжественной медленностью, явственно выговаривая каждое слово, – оказал бессмертную услугу русской литературе, что он ее благодетель и двигатель, и что она должна за честь считать, что имеет такого представителя.
– Неужели так и напечатают? – спросил Кирпичов.
– Так и напечатают.
– И имя выставят? – спросил Кирпичов, никогда не видавший своего имени в печати и думавший не без сладкого сердечного трепета, что оно должно выйти удивительно красиво в печати.
– Разумеется, – отвечал Крутолобов. – Да еще не просто, а со всеми титулами; знаете, таких людей ценят, многие за честь почтут сделать такого человека корреспондентом, комиссионером… Да то ли еще? можно удостоиться даже награды: истинные ценители изящного поднесут вам, например, часы, табакерку, перстень, осыпанный брильянтами…
– Что вы говорите? – воскликнул Кирпичов. – Неужели? Вот в театре… ну, там другое дело: я сам видел, как публика поднесла драгоценный перстень… лестно, точно, очень лестно получить… да неужели можно удостоиться?
– Можно, очень можно… издайте-ка, например, общеполезную, великолепную книгу.
– Издам! непременно издам! – воскликнул Кирпичов, но тотчас же спохватился и прибавил: – то есть я хотел сказать, что если б я сделался книгопродавцем, так, разумеется, издавал бы все книги большие, красивые, великолепные… по-моему, уж если издавать, так издавать… чтоб все ахнули.
– Вот люблю! – воскликнул Крутолобов с восторгом. – Люблю таких людей! Дельно, дельно смотрите на литературу и разом смекнули, в чем дело. Позвольте вас обнять!
Он обнял Кирпичова, расцеловал и просил о продолжении приятного знакомства.
Кирпичов не спал всю ночь, мечтая сделаться книгопродавцем… Пришла ему на минуту мысль, что он ничего не знает в книжном деле, что он даже и книг сроду никаких не читал, да мало их и видывал на, своем веку; но самолюбие его было не из таких, чтоб не дать потачки увлекательной, хоть и нелепой мысли. Поутру он сходил к Крутолобову с визитом. Крутолобов усадил его, потчевал превосходной сигарой, подарил ему на память первого знакомства свое сочинение: "Воспоминание об Адаме и Еве" с собственноручной надписью, – словом, приласкал и очаровал. Опасения Кирпичова окончательно разлетелись, когда Крутолобов положительно сказал и даже поклялся, поставив примером самого себя, что ученье вздор, а нужно только иметь ум, которого ему, Василию Матвеевичу, не занимать стать, и так довольно: и литературу поймешь, и отличным книгопродавцем будешь.
Кирпичов решился и скоро за умеренную цену приобрел превосходную библиотеку на нескольких языках.
Библиотека была действительно превосходная и досталась Кирпичову по счастливому случаю.
Жил в Петербурге богатый барин, проводивший дни свои в систематических усилиях разориться. Не задумываясь, он тотчас удовлетворял каждую свою прихоть, чего бы она ни стоила. Таким образом, пришла к нему, позже многих других страстей, страсть к книгам, и дубовые полки огромных шкафов, занимавших три большие комнаты, затрещали под лучшими произведениями всех европейских литератур, облеченными в роскошные переплеты. Даже русская литература не была забыта – впрочем, больше для полноты библиотеки… барин плохо знал по-русски.
Около года он аккуратно по нескольку часов в день посвящал своей библиотеке. Наконец у него явилась новая страсть – страсть к лошадям, и библиотека была забыта…
По старой привычке, однако, она наполнялась аккуратно всеми новыми лучшими книгами на русском, французском, английском, немецком и других языках.
У богатого барина был камердинер, немец, человек, по-видимому, любознательный. Каждый день, уложив своего барина и уходя к себе, он уносил с собой по одному тому какого-нибудь творения… Это продолжалось; несколько лет.
Наконец, когда усилия барина увенчались успехом и дела пришли в расстройство, камердинер покинул его.
Спустя еще несколько лет барин умер, оставив по себе несметные долги, – цель, к которой он стремился всю жизнь.
Стали продавать с аукциона его имущество на удовлетворение кредиторов. Очень много рассчитывали на выручку с библиотеки, справедливо пользовавшейся славою полнейшего хранилища литературных сокровищ и редкостей. И действительно, покупщиков явилось множество: каждому хотелось приобресть знаменитую библиотеку. Ждали богатой выручки.
Но велико было всеобщее удивление, когда при ближайшем осмотре библиотеки почти все лучшие и редкие творения оказались неполными: недоставало которого-нибудь тома…
Кредиторы повесили нос: покупщики разошлись с ропотом. Никто, естественно, не хотел дать за знаменитое книгохранилище ни гроша.
Тогда явился маленький человек с физиономией весьма незначительной и купил разрозненную библиотеку за бесценок.
Читатель угадал, что покупщик был прежний камердинер богатого барина.
Выждав год, он открыл книжный магазин, наполнив свое приобретение не только недостающими томами, которыми с мудрой предусмотрительностью запасся заблаговременно, но и многими новейшими сочинениями, уже преимущественно русскими. Несколько лет он торговал, по-видимому, довольно счастливо; но, неизвестно по каким причинам дела его пришли в расстройство. Он прекратил торговлю, оставив большую часть своей библиотеки в залоге.
Эту-то библиотеку посоветовали приобресть Кирпичову. Дело скоро сладилось. Заплатив часть условленной суммы владельцу библиотеки, остальную и большую часть он обязался внести главному кредитору его, у которого она находилась в залоге.
Кредитор этот был Борис Антоныч Добротин.
Вот начало знакомства и связи Кирпичова с горбуном.
Получив в распоряжение свою знаменитую библиотеку, Кирпичов нанял великолепное помещение и, нимало не задумываясь, прибил на дому огромную вывеску с надписью: Книжный магазин и библиотека для чтения на всех языках, Кирпичова и Комп. Последнее слово было крупней всех остальных, затем, что оно стало теперь в глазах Кирпичова важнее всего необъятного количества слов, из которых была составлена знаменитая библиотека "на всех" языках.
Во все концы огромного нашего государства полетели громкие объявления о новом, великолепном светиле на горизонте нашей книжной промышленности… Газетные фельетоны и журнальные известия наполнились похвалами новому двигателю литературы.
День открытия магазина ознаменовался великолепным пиром, на котором некоторые литераторы плясали вприсядку и пели импровизированные куплеты в честь хозяина.
Потом подхватили Кирпичова на руки и стали качать. Чувствуя себя на верху блаженства, упоенный славою и торжеством, Кирпичов лишился возможности выражать словами свои ощущения и, подбрасываемый кверху, только с нежностию и грациею дрыгал ногами, выражая тем избыток признательности, переполнявшей его сердце.
В заключение Крутолобов, подвигнувший Кирпичова на его славное предприятие, вскочил на стол и произнес хозяину спич, который начинался так:
"Я почитаю себя счастливым, что родился в эпоху, когда на горизонте нашей книжной торговли появился почтеннейший, умнейший, аккуратнейший и деятельнейший Василий Матвеич Кирпичов".
Неизвестно почему один молодой литератор, присутствовавший тут, насмешливо улыбнулся, слушая такие похвалы новому книгопродавцу.
Но и его выходка, которая, конечно, могла набросить тень неудовольствия на торжествующее лицо хозяина, если б он ее заметил, была счастливо предупреждена и даже обратилась в позор насмешнику,
– Милостивый государь! – воскликнул другой литератор, устремив на дерзкого насмешника взор, полный благородного негодования: – в ту минуту, когда воздается почесть заслуге, вы смеетесь… вы…
Но ему не дали договорить, обступив его и пожимая ему руку, в знак сочувствия к его строгому, но справедливому выговору.
Дерзкий насмешник, вероятно почувствовавший угрызения совести, с позором удалился. Остальные гости пировали до утра…
Вот таким образом Кирпичов, торговавший прежде гужами и хомутами, знакомыми ему в совершенстве, попал в книжную торговлю, в которой не понимал ничего…
Итак, Кирпичов вошел в свой великолепный магазин.
Магазин Кирпичова точно можно было бы назвать великолепным, если б местами дорогие, но безвкусные украшения не нарушали гармонии целого.
Очень большая и очень высокая комната, с большими светлыми окнами, которой стены казались сложенными из книг, местами закрытых огромными ландкартами, заменявшими в ней картины; кругом прилавки красного дерева, резко отделяющие владения самих обитателей магазина от владений публики; на окнах исполинские глобусы, в простенках небольшие диваны, обитые ярким красным бархатом; по протяжению прилавка с внешней стороны местами тоже небольшие диванчики; а с внутренней – конторки, из-за которых виднеются головы, седые и неседые, наклоненные над толстыми счетными книгами, и руки, вооруженные перьями.
Прилавок, идущий по протяжению правой стены, далее отодвинут, чем остальные; владения публики сужены, зато расстояние между прилавком и стеною значительно обширнее, и не без особенной цели?.. Да этим прилавком, в простенке между двумя окнами, огромная конторка, уставленная разнородными чернильницами, песочницами и множеством разных письменных принадлежностей, какие только могут понадобиться и какие никогда не понадобятся деловому, много пишущему, считающему, наводящему справки, платящему и получающему человеку.
По сторонам конторки два небольшие глобуса; над ней подробная карта Российской империи; нельзя умолчать и о крючке, вбитом в стену над картой: на него нацеплено множество писем и записок всевозможных форм и почерков, со всевозможными делами и нуждами, с просьбами, предложениями услуг, с жалобами, с упреками в неисправности…
Мы не прибавляем: "и с комплиментами" (без которых, естественно, не обходилось в письмах к Кирпичову), потому что все письма, заключающие в себе похвалы хозяину и его магазину, изъявления благодарности за исправность и. аккуратность и тому подобные, Кирпичов откладывал в особый портфель и потом при всяком удобном (а иногда и неудобном) случае показывал и читал гостям и избранным посетителям своим. Особенно замечательные письма такого рода он даже имел обыкновение постоянно носить с собою, с тою же целью.
По одной стороне крючка висела карта всех отходящих и приходящих ежедневно почт, а по другой – небольшая красивая рамка, в которую вкладывался, для памяти, каждый день новый листок с исчислением всего, что требовалось сделать в течение дня.
Словом, все здесь показывало присутствие руки аккуратной и деятельной, хотя при внимательнейшем рассмотрении можно было заметить, что памятный листок с исчислением того, что следовало сделать пятнадцатого числа, продолжал спокойно висеть в той же рамке до двадцать пятого, а иногда и гораздо дольше…
Наконец, на самой середине конторки торжественно возвышалась груда распечатанных конвертов всевозможных форматов, но с одной отличительной принадлежностью, не дающей ни на минуту сомневаться, почему им отведено такое почетное место.
Все конверты, числом, может быть, до трехсот, большие и малые, продолговатые и четырехугольные, надписанные нежным женским почерком и грубой рукой деревенского приказчика, были с пятью печатями…
– Вчерашняя почта! – говорил обыкновенно Кирпичов какому-нибудь важному посетителю, указывая на заманчивую груду.
Но хоть эпоха, в которую мы знакомимся с Кирпичовым, была самая блестящая для его дел, должно, однакож, признаться, что груда "вчерашней почты" никогда не могла быть так велика, если б Кирпичов не прибегал к маленькой хитрости. Он обыкновенно оставлял на конторке конверты нескольких дней, даже целой недели, и выдавал их неопытным посетителям за "вчерашнюю" или "сегодняшнюю" почту, смотря по времени дня.