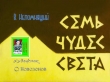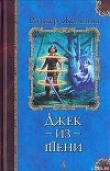Текст книги "Три страны света"
Автор книги: Николай Некрасов
Соавторы: Авдотья Панаева
сообщить о нарушении
Текущая страница: 40 (всего у книги 56 страниц)
Катя при этом слове тихо, но быстро скрылась в темную кухню.
Вечером все трое печально сидели за самоваром; на всех лицах заметны были следы тяжелого горя, но из их груди не вырвалось ни одного вздоха; они, казалось, своим наружным спокойствием желали обмануть друг друга. Одна старушка обнаруживала небольшое беспокойство. Она поглядывала на часы и как будто к чему-то прислушивалась.
Было уже десять часов вечера. Жители шестнадцатой линии, не слышав в обычный час печальных звуков шарманки, не обратили на это внимания. Зато старушка, утомленная напрасным ожиданием услышать "Лучинушку", неохотно улеглась в постель, лицом к стене, и поминутно сморкалась. Катя изредка всхлипывала, заглушая свои рыдания в подушке, а Митя, как дикий зверь в первые минуты своего заключения в клетке, метался за перегородкой, посылая проклятия Дарье, злоба которой могла раскрыть и шарманщику их семейную тайну…
С этого дня болезненные стоны наполнили комнату. Митя лежал за перегородкой, а старушка на диване. Катя, потеряв всю свежесть лица, ухаживала за больными; но каждое утро она их оставляла на несколько часов… Больные ждали с нетерпением ее возвращения…
Иногда по вечерам в кухне слышался шепот: старушка тревожно спрашивала: кто там? Катя отвечала ей, что соседка; но она лгала: то была Дарья!
Когда первый порыв злобы прошел у Дарьи, она сама ужаснулась своего поступка. Нет слов высказать ее отчаяние, когда она узнала о болезни Мити. Встретив Катю на улице, она кинулась ей в ноги, умоляла дать ей хоть тихонько взглянуть на ее брата.
– Я тебя не буду больше мучать, никто из вас не услышит больше даже моего имени, только дайте мне в последний раз взглянуть на него и проститься с ним!
Катя тронулась отчаянием Дарьи и вечером впустила ее в кухню. Когда ее позвал Митя, она раскрыла дверь, так, чтоб Дарья могла его видеть.
На другой день Дарья принесла лекарства, уверяя, что ей дал знакомый аптекарь.
С этих пор все, что Дарья зарабатывала, она приносила Кате, и две натурщицы кормили больных. Дарья не разговаривала с Катей; она вечно сидела на дровах за печкой. Но если Катя плакала, то Дарья становилась на колени перед ней и, отчаянным голосом просила ее перестать.
– Я вас всех загубила, – говорила она, – я это очень хорошо знаю! так ты лучше не плачь. Я и жить-то бы не стала ни одного дня; да кто же станет их кормить?
И Дарья робко указывала на комнату, где лежали больные, и продолжала:
– Я обманывала тебя, у меня нет знакомого аптекаря, я на деньги покупаю лекарство. А ты одна разве можешь их прокормить? Не терзай меня, погоди! когда я не буду никому нужна, делай тогда со мною, что хочешь!
Катя слушала и переставала плакать, а Дарья ложилась на дрова за печь.
Мите как-то сделалось очень плохо, он стонал. Дарья привела доктора, который, узнав, что она чужая в доме, прямо сказал ей, что ему долго не жить.
Дарья едва добрела до своего обычного места и легла на дрова; она не помнила, что потом с нею было, и когда очнулась, то руки ее были в крови и все искусаны, клоки волос были вырваны, и каждая косточка болела у нее. Ночью, наблюдая за больными, Дарья подсела к Кате и сказала:
– Хочешь, я тебе расскажу мою жизнь? может быть, я тебе не буду противна, и, если что случится, ты простишь мне.
– Говори, только тише, чтоб они не услышали, – заметила Катя.
– Я бы хотела, чтоб и она слышала! – тихо сказала Дарья, указывая на комнату, где лежала старушка. – Может быть!.. да нет, уж теперь не поправишь!
И Дарья отчаянно махнула рукой; помолчав, она начала:
"Еще ребенком осталась я круглой сиротой; помню только свою мать, да и то когда уж она лежала в гробу, бледная, с распущенными волосами. Я так же смутно помню богатые комнаты и игрушки, какие у меня были. Меня баловали, возили в карете. Но кто был мой отец, кто мать, я ничего не знаю, да, кажется, и никто не знает… Потом я воспитывалась у какой-то женщины, толстой и злой, которая никогда и слова мне не говорила о моей матери; она меня била и заставляла голодать на своей кухне; когда мне минуло четырнадцать лет, она стала меня наряжать и выдавать за свою племянницу. Я была красива собой… что, веришь ли ты? а?"
И Дарья насмешливо заглянула Кате в лицо.
"Чем больше я хорошела, – продолжала она, – названная моя тетка тем реже и реже меня била; но она строго меня держала. Я поняла свое положение и не ужаснулась его. Я так ненавидела эту женщину, что задумала ей мстить за все, что от нее вытерпела. Я понравилась одному старику, страшному богачу, и не испугалась его любви; напротив, хитро и ловко завлекала его. Иногда мнимая тетушка трогалась моими уловками и со слезами говорила мне: "Ну, Даша, я вижу, что ты будешь мне утешением под старость…" Когда моя власть была сильна над стариком, я выгнала из дому свою мнимую тетку, а вскоре отделалась и от самого старика. Я была молода – стало быть, глупа. Я так обрадовалась свободе, что не подумала о деньгах, которых много мог бы подарить мне старик. И через несколько месяцев я с ужасом увидела, что я нищая; я привыкла к роскоши и лени. Но благодаря школе моей мнимой тетушки я скоро разбогатела. У меня были великолепные экипажи, наряды; я жила в роскоши. Мне были все мужчины равно гадки… Я видела, что одно тщеславие заставляет их быть со мной ласковыми, щедрыми. С каждым годом я все хорошела, глаза мои были ясны, лицо нежно и гладко, как твое; на меня даже дети заглядывались, не то, что теперь… укажи на меня ребенку… да скажи: у! у!.. так весь затрясется и голову спрячет… Я жила, как все живут из нас, как, верно, жила и моя мать: то есть не думая о завтрашнем дне. Иногда от скуки на меня находили минуты сострадания, и я сыпала деньгами без разбора тем, кто подвертывался под руку. В такие минуты, если я пошла по улице и нищий протягивал мне руку, я отдавала все, что у меня было в кошельке, и его немое удивление тешило меня…
Вот как теперь помню, утром мне привели в первый раз твоего брата, чтоб снять с меня портрет. Я сидела на бархате, в позолоченных комнатах, разодетая впух, все брильянты надела на себя. Увидав меня, он ужасно сконфузился, голос у него дрожал. Брильянты или лицо мое поразили его, – не знаю; но я в первый раз покраснела при мысли, что он может подумать обо мне и моем богатстве. Вдруг как будто все брильянты раскалились и жгли мне шею и руки; я выбежала из комнаты, сняла с себя все эти вещи, сняла бархатное платье, надела белый утренний капот, сорвала белую розу, стоявшую на окне, и приколола в волосы. Мне сделалось легко. Сама не знаю отчего, я долго гляделась в зеркало, как будто по предчувствию, что уж недолго мне быть такой. Когда я опять вошла в комнату, то твой брат, как дурак, глядел на меня. Не знаю отчего, но он мне понравился; я в первый раз не чувствовала ни злобы, ни желания кокетничать перед мужчиной. Я много болтала; мне было весело его конфузить, смотря ему прямо в глаза. Я, признаться, почти не видала таких мужчин. Мы простились до другого дня. Мне было и весело, и в то же время слезы душили меня. В этот-то вечер мне пришли сказать, что одна из моих знакомых, таких же как и я, просит меня прислать хоть сколько-нибудь денег, что она лежит в больнице. Будь это в другой раз, я не была бы так сострадательна, но тут я расплакалась и поскакала к ней. Я посидела у ней и, возвратившись домой, вскоре почувствовала какой-то жар и головную боль; и чем бы мне лечь, я поехала гулять. В ночь у меня так усилился жар, что я лишилась памяти. Я долго лежала, ничего не помня и не видя, и в первый раз, когда я открыла свои опухшие еще глаза, – кровь остановилась у меня в жилах. Я лежала в большой комнате, окруженная все кроватями. Я не верила своим глазам: мне казалось, что я лежу в гробу; я стала кричать, плакать, метаться, точно сумасшедшая; верно, в припадках я царапала лицо, и потому мне завязали руки; но было уже поздно!..
Когда я оправилась, я узнала все: от страху, что у меня оспа, меня безжалостно все бросили, и ни одна душа не навестила меня в больнице. Твой брат сначала забегал ко мне на квартиру узнавать обо мне, но люди мои грубо обошлись с ним, и он не являлся больше. Ну, как бы ты думала, кто приходил навещать меня в больницу? Старик-нищий. Он сидел недалеко от моего дома, и я часто ему подавала милостыню. Он мне рассказал, как сначала доктора приезжали ко мне, потом перестали; люди целый день сидели у ворот, шатались по трактирам, таскали мое добро. Потом меня свезли в больницу, из которой я вышла… безобразной… и нищей: все, что было у меня, взяли за долги. Старик-нищий приютил меня у себя; мне смешно было глядеть на него: тот, которому я бросала, что мне было не нужно, теперь кормит и призревает меня. Я не решалась просить милостыню, а начать прежнюю жизнь я не могла. К тому ж я только и думала, что о твоем брате. Я живо его помнила, хоть видела только один раз, я отыскала, где он жил, я подсматривала за ним, я знала, куда и зачем он идет. Я долго не решалась показаться ему на глаза; наконец узнала; что он задумал писать картину и что ему нужна натурщица. Я решилась итти к нему. Ну, как я тебе расскажу все то, что я перечувствовала, когда я вошла к нему? Верно, мое безобразное лицо было страшно, что он усадил меня и дал мне воды".
Дарья улыбнулась и, опустив свое рябое лицо, спросила Катю:
– Что, я очень страшна? а?.. Я после болезни только раз взглянула было на себя в зеркало, да так испугалась, что с тех пор и не смотрюсь. Не знаю, может быть; еще хуже стала!
И Дарья с отвращением вздрогнула и продолжала:
"Я сказала твоему брату, что я натурщица. Он так поглядел на мое лицо, что у меня сердце повернулось, и, сама не знаю отчего, я засмеялась так громко, что самой страшно стало. Форма моих плеч и рук поразила его своей правильностью. За час я брала с него вдвое дешевле, чтоб другие натурщицы не отбили его у меня… Ах, что я вытерпела! мне кажется иногда, что теперь мои страдания не так ужасны, как тогда! Всякий день видеть человека, которого любишь, ну, сколько есть силы, и знать, что если ты/проронишь одно слово, он с ужасом отскочит от тебя и выгонит вон, – что мои ласки оскорбят его… и к тому ж помнить все прежнее! его взгляды, его смущение… а может быть, он уже думал тогда: что если бы эта женщина полюбила меня? А, каково?.. Раз я прихожу к нему, а он сидит у стола, поддерживая голову руками так, что зажал уши. Перед ним портрет какой-то женщины. Я только заглянула – и чуть не упала. То была я; я узнала себя: мои глаза, мой нос; я кинулась к нему на шею, я целовала его руки, я была, как безумная, от радости. Мне казалось, что я больше не безобразна, что мой портрет опять меня сделает красавицей… Я все рассказала ему… и даже призналась, что люблю его…"
Дарья глухо и скоро пробормотала последнюю фразу и с минуту молчала. Вздохнув тяжело, она продолжала:
"Я жила хорошо; иногда мне было тяжело, особенно если солнце светит да он взглянет на меня. Впрочем, я пряталась всегда в темный угол. С ним я никуда не выходила, я боялась людей, чтоб они не напомнили мне о моем безобразии… Я была ревнива! Ну, еще бы мне думать, что он меня любит! Я мучила себя и его; я иногда доходила до исступления, и отчаяние мое было страшно; я часто готова была убить себя. Верно, все это надоело ему, и раз, выйдя из терпения, он мне что-то много говорил; но я из всех его слов только одно и помнила, что мне, как ножом, повертывало в сердце: "Ты безобразна, ты безобразна!" Эти слова, как гром, меня оглушили! Тут только я почувствовала страшное унижение свое. Я решилась бежать от него. Целые три месяца я не видала его, обегала всех знахарок и колдунов, чтоб найти зелья – приворожить его к себе. Я подкупила хозяйку его дома, чтоб она ему клала в кофей разных корешков и трав, что мне давали старые ведьмы. Этим-то временем вы приехали к нему. Известно, в Петербурге жить дорого, особенно человеку, которому еще нужно зарабатывать кусок хлеба, чтоб учиться. А он любил писать картины. Сколько я ни видела художников, ни у кого так не меняется лицо, когда он берет в руки кисть. Глаза у него так заблестят, словно два угля, а как глядит-то он на картину свою, когда пишет… да! он любил рисовать… Я знала, что он любит тебя и свою мать, и ревность моя не знала меры. Я упрашивала его сама помириться со мною, клялась ему, что не буду ревновать его! А он в ответ мне и скажи, что теперь он никак не может, потому что любит свою мать и сестру и с ними хочет жить. Вы мне не давали покою; мне казалось, что он любил бы меня, если бы не вы!.. И кто мог больше любить его, как не я!.. Месяц тому назад, он приходит ко мне – можешь судить о моей радости! – и говорит: "Дарья, я хочу писать картину; хочешь ли быть моей натурщицей? я, – говорит, – возьму лицо с твоего портрета…" Ах, как мне было весело! Старые колдуньи, у которых я нанимала квартиру, уверяли меня, что это их травы приворожили его; я им давала денег, я как дура была. В первый раз, как я увидела тебя и вашу мать, у меня все перевернулось! Мне и целовать-то вас хотелось, и не смела-то я… Забыла я всю злобу к вам, только помнила, что ты его сестра, а она его мать… Брат твой все дело испортил, он так крикнул и посмотрел на меня, когда я было хотела кинуться в ноги к его матери, просить и умолять ее, чтоб она сжалилась над несчастной… что злоба, еще страшнее прежней, обхватила меня… Ты теперь поймешь мою радость, когда я узнала, что ты тихонько от своей матери сделалась натурщицей!"
– В последний раз, как я была у вас, мать ваша и ты так меня приняли, что я чуть вас всех не убила. Ты помнишь ли, как меня вытолкали? а? – спросила Дарья, злобно глядя на Катю, которая с ужасом потупила глаза.
"Вечером, – продолжала Дарья, – у меня был твой брат; я старалась его раздосадовать, чтоб он меня хоть задушил: так мне было легко! А он только страшно поглядел на меня и запретил ставить ногу на его порог… Я, в злобе, украла салоп у тебя, пока ты была у художника, и бросила его твоей гордой матери в лицо; я также все рассказала твоему жениху и так была зла на вас всех, что дала волю своему языку и везде болтала о тебе".
Катя с ужасом закрыла лицо руками и отвернулась от Дарьи, которая схватила ее за руки и сказала в волнении:
– Ты разве мне не простила? зачем отворачиваешься от меня? Я, видишь, во всем тебе призналась, хоть ты будь добрее их! хоть одно слово скажи мне, хоть взгляни на меня!
В голосе Дарьи было столько мольбы и отчаяния, что Катя с состраданием взглянула на нее. Дарья радостно вскрикнула и кинулась обнимать Катю, целуя ее руки и осыпая ее самыми нежными названиями.
Стоны раздались в другой комнате. Катя кинулась туда, а Дарья как бы окаменела в одном положении.
Долго страдал Митя, наконец умер. Старушка так была слаба, что весть о смерти сына перенесла, казалось, очень спокойно. Только вынув из-под одеяла свою высохшую руку, она перекрестилась и едва слышно сказала:
– Ну, слава богу, окончились его страдания! пора и мне!..
На третий день из деревянного домика вывезли на одних, дрогах два гроба: один черный, а другой желтый. Катя и Дарья в своих истасканных салопах молча шли за гробами, едва вытаскивая ноги из глубокого снегу. Они крепко держались за руки, как бы ища друг у друга опоры.
Глава IX
ДАЛЬНЕЙШАЯ ИСТОРИЯ РЯБОЙ ДАРЬИ
Дарья, не спуская глаз с своей слушательницы, несвязно рассказала историю Полинькиных родственников и часть своей собственной, и продолжала:
"Вот, видишь ли, моя голубушка, моя лебедушка, остались-то мы две круглыми сиротами. Катя-то горькие слезы лила, а я уж крепилась; только вот здесь-то болело, хоть кричать (она показала на сердце) "Видя ее слезы, я перед образом поклялась с лихвой заменить ей то, что я у ней отняла. Я всякий день бегала на толкучий рынок, продавала разную рухлядь и хлам, что осталось по наследству ей, даже обманывала иной раз, лишь бы моей Кате принести какого-нибудь гостинцу. Долго я билась, много я вынесла, зато так понаторела, что любому жиду не дамся в обман! Я перепродавала и перекупала всякие вещи, которые иной раз бог знает откуда брались. Перешью их, бывало, а с белья метку спорю, да еще другую наложу и продаю. День на толкучке кричишь: "Ковер у меня купи, купи у меня!" А ночь всю напролет перешивала разное тряпье. Катя маленько повеселела… Я уж, бывало, земли под собой не чувствую, как она улыбнется. Я ее, как барыню, водила; она у меня руки сложа сидела, только все еще иногда поглядывала на меня искоса. Я ее полюбила, как родную дочь… нет! больше: как ее брата! да она и с лица-то походила на него. Я в два года так обделала дела, что стала Кате приданое копить. Раз было я ей заикнулась о женихе, прежнем-то. Она так на меня крикнула, что я ни гу-гу; потом – "Я, – говорит, – его и не думала любить, это я для брата и матери хотела итти, чтоб им было меньше забот". Кажись, я жила в эту пору всех счастливее; я на все руки пускалась и целый день хлопотала, как угорелая; а вечер с моей Катей сидела. Стала я замечать, что моя Катя чудно на меня поглядывает. Я, видно, уродилась такой, что коли полюблю кого, так сама исхудаю от дурных мыслей и того загублю. Я, ни дать ни взять, так же ее полюбила, как брата. Если, бывало, кого Катенька приласкает, вот я бы его так и задушила! Стала я соседок расспрашивать, что Катя без меня делает; а они мне все и расскажи: что она познакомилась с каким-то фертиком, что сперва он только хаживал мимо ее окна, а потом она стала с ним заговаривать, а потом гулять, и что он к ней стал ходить в гости. Каково?"
Дарья с ужасом смотрела на Полиньку, которая слушала ее с судорожным любопытством.
"Вот я натерпелась-то горя, – продолжала Дарья, как будто рассуждая сама с собой. – Может статься, если б я ее не любила так сильно, она бы не делала того со мною. Но что же мне было делать? разве человек волен над собою? а? да еще когда у тебя сердце тоскует, а кровь так и подступает к горлу. Я плакала, тосковала, точно так же, как когда мне казалось, что ее брат любит другую. Ничего ей не сказала, а бросила все и стала целый день дома сидеть… Не по нутру ей это было, да нечего делать. Сидит у окна да плачет; а у меня-то самой так сердце и надрывается, так и хочется кинуться к ней да приголубить ее; да как вспомню, что она плачет с досады, что я у нее перед глазами торчу, так вот бы так все и перебила в комнате. Я уж разузнала и о нем-то. Он был сынок богатого господина. Катя ему приглянулась – ишь, губа не дура!.. – он и наври ей, что он тоже сирота, и такие турусы на колесах понес, что моя девка день-денской все горюет о нем!.. Раз утром она встала и ну одеваться, я спрашиваю: куда она идет? "Я, – говорит, – гулять хочу". – "Пойдем вместе…" – "Нет, одна пойду!" да так это сказала, что у меня все завертелось в голове; и я прикрикнула на нее сгоряча и выболтала все, что знала. Катя в слезы; я ее и ну упрашивать, улещать, чтоб она бросила все глупости, что уж чего доброго ждать, коли человек лжет. Ну, дело молодое, старым мало верят; она как будто и согласилась и слово дала мне все бросить, а на другой день я сдуру и уйди со двора; прихожу домой, она сидит, только такая странная: я догадалась и спросила ее, ходила ли она со двора? "Нет". Ну, уж мне так стало тяжело, что я и ну ее бранить; она как встанет да как глянет на меня. "Да что ты, – говорит, – мне такое! мать, или сестра, что ли? Я, – говорит, – ненавижу тебя, ты мне мать и брата уморила, теперь хочешь и меня! я знать тебя не хочу, ты мне противна. Я и жить-то с тобой не стану!.." Накинула салоп и шляпку и пошла к двери; я заслонила ей дорогу и говорю, что не пущу ее, пусть она меня лучше задушит. "Пусти, – говорит, – а не то я пожалуюсь на тебя в полицию, у тебя есть вещи такие… бог знает, у кого ты их купила… я все понимаю". Она так страшно глядела на меня, ну точь-в-точь, как ее брат, когда я его видела в последний раз у себя. Я слушала и не верила, что Катя меня хочет в полицию отдать… Катя-то моя, для которой я ночи не спала, морочила всех до нищего, чтоб ей же купить шляпку или платье! Она меня двинула от двери, я, словно шальная, пошатнулась, а она и порхнула. Тут мне показалось, что старуха, ее мать, с своими впалыми глазами, как мы ее положили в гроб, стала передо мной и грозит мне пальцем; потом Митя, страшный такой, насмешливо кивнул мне головой.
А как только я очнулась, тотчас кинулась я на квартиру, где жил этот фертик: сердце уж мое чуяло, что Катя у него. Меня не впустили в комнату и под носом заперли двери; я стала стучаться: отворил лакей и ну бранить меня. Я в отчаянии стала его молить, чтоб он только вызвал Катю ко мне; сбегала домой, принесла ему денег. Я увидала Катю, она раскрыла дверь, выглянула, я ей бух в, ноги; хочу говорить, не могу, так и душат слезы. А она всунула мне в руку какие-то деньги: "На, – говорит, – тебе за все, что я у тебя съела и выпила; иди, я больше тебя знать не хочу!" и захлопнула дверь, Я стала кричать; мне хотелось всех задушить. Вышел лакей и спровадил меня. Я просто чувство потеряла. А как очнулась, припомнивши все, кинулась к отцу его. Меня не впустили; я подождала его у подъезда, и когда старик хотел садиться в карету, ухватилась за его ноги и молила его выслушать меня; я рассказала ему все и просила вырвать мою Катю из рук его сына. Он пообещал, да на другое утро сделали обыск у меня на квартире, нашли перекупленные мною вещи и посадили меня в часть…
Там вместе со мной сидела одна женщина; мы разговорились о том, о сем, и я узнала, что моя мать была из одной деревни с ней, но что она знала о ней только одно, что матушка была красавица, поехала в Питер вместе с господами, ее отпустили на волю, и больше уж никто о ней не слыхал. Да и не нужно было: я догадалась об остальном. На поруки меня выпустили, мне было горько жить в Петербурге, я и поехала в деревню, к бабушке, единственной родной, которая оставалась у меня.
Когда въехала я в деревню, где родилась моя мать, мне почудилось что-то родимое, как будто и избы, и лес – все было знакомое, и сердце у меня весело забилось. Вот я подъезжаю к избе, где жил Артамон с женой, а у него моя бабушка, Ирина. Вхожу в избу: жар, духота, ребятишки визжат, поросята хрюкают. Никого не видать, кроме детей, мал-мала меньше, в одних рубашонках, и как завидели меня, все под лавки попрятались. Один постарше мальчишка закричал: "Дедушка, а дедушка! вставай, чужая тетка пришла"; в углу на лавке что-то закопошилось под тулупом, курицы, сидевшие на тулупе, спрыгнули, и показалась седая голова старого-престарого мужика. Кажись, я такого старого и не видала сроду. "Дедушка! чужая тетка пришла за бабкой Ириной!" – крикнул опять мальчишка. Старик долго тянулся, зевал, думал, потом что-то пробормотал и рукой указал мне на печь. Я кинулась туда; смотрю – и не верю глазам; спит, свернувшись, старенькая старушонка, в грязной рубашке и в оборванном сарафане, спит себе крепким сном и не чует, что родная ее внучка издалека приехала посмотреть на нее. Лицо у нее все сморщенное, нос с подбородком сошелся, а губ и не видать. Я долго стояла и смотрела на нее: мне и страшно и жаль было старухи! Эх! жили столько лет родные, не ведая даже друг про друга. А сколько денег-то через руки мои перешло! Я разделась и стала ждать, когда она проснется. Старик дед расспрашивал меня, как и кто я? раз двадцать я ему повторила одно и то же. Кажись, уж он из ума выжил, так стар был. Пришел Артамон с женой. Я рассказала им, кто я и зачем приехала; вот они и ну тормошить старуху. Долго она не верила им, что к ней внучка приехала из Питера; потом стала плакать и жаловаться на мою мать, что она забыла старуху и весточки ей не шлет. Я не вытерпела, кинулась старухе в ноги и долго плакала, – так мне было горько, что в первый только раз теперь я увидела ее! а она-то словно чужая, корит мне свою дочь, которой уж и на свете давно не было; да ей не втолкуешь. И только тогда приласкала меня старуха и назвала своей внучкой, когда я ей подарила гостинцу: душегрейку да на сарафан. Вот уморила-то меня! кажись, уж чего? старая, руки дрожат, нет! а туда же, точно молодая: тотчас и ну рядиться, любоваться, показывать старику обновку, всем соседкам хвастать стала и говорить: "Глянь-ка, какой гостинец внучка привезла, а вон, небось, и родная дочь ничего не присылает и знать не хочет…" Как ни старалась, не могла я ей вбить в голову, что уж нечего ей на свою дочь жаловаться: ее и в живых нет давно. Нет! старуха моя, как чуть рассердится, сейчас ну мою мать корить.
Я за ней как за малым ребенком ходила; я ее в баню водила, по целым дням с ней сидела на печи. Она все у меня обобрала: что ни увидит, сейчас ей подавай, а сама все прячет. А когда все улягутся спать, она и ну разбирать свое добро и шепчет и гладит всякий лоскуток! Такой чудной старухи и не видывала я! вишь, положи я ей ластовицы красные в рубашку, – диви бы носила, нет, в старом сарафанишке ходит, а что получше – лежит. "Бабушка, да носи! ну куда беречь-то тебе?" – скажешь ей, бывало, а она рассердится и кричит: "Что ты меня учишь! а по праздникам-то мне что носить? меня, горемычную, дочь бросила и знать не хочет; кто же мне-то подарит?" Я захворала: видно, с непривычки жить в избе; особенно ночью было тяжеленько: взвалят нам с бабушкой ребятишек малых, внизу старик да Артамон с женою, да еще сродники какие-нибудь. Ну, просто хоть вон беги. А и еда незавидная! Все грязно, щи да каша, и горшок-то от святой и до святой не вымоют. Да и то, признаться сказать, некому и хозяйничать. Артамон день на работе, а жена, если дома, прядет. Старуха моя избаловалась, давай ей подарков всякий день, а я уж все прожила, обдарила всех; у самой ничего не осталось. Я стала шить из лоскутков, что попало, и тем кормила себя и бабушку, которую Артамон уж держать не хотел: "У тебя есть, – говорит, – внучка, пусть она тебя и кормит". Старуха начала совсем из ума выживать; целый день ворчит на меня, – то не так, другое не так. Поди ищи у нее в голове, когда нужно работать; жалуется всем, что у ней внучка недобрая. Просто замучила меня. Я, признаться сказать, стала скучать об Кате, да, наконец, и задумала ехать в Питер; сказала бабушке. Господи, господи! что за вой подняла моя старуха, словно покойника хоронит. "Ты, – говорит, – на кого меня бросаешь? да кто меня, горемычную, в баню сведет? кто накормит? и умру-то я – некому будет в гроб положить; и бросила меня родная дочь и знать не хочет свою старуху-мать!"
"Ну, что, – думаю, – в самом деле, пожалуй, умрет без меня". Не захотела еще на душу греха брать – осталась. А сама написала к одной знакомой, чтоб она дала мне весточку об Кате. И получила ответ".
Дарья встала, подошла к комоду и долго рылась: наконец она принесла Полиньке засаленную бумажку, которая почти распалась начетверо от времени.
Долго Полинька трудилась и только могла разобрать: "Катерина Белкова была больна… умерла… дочь… осталась…"
– Не трудись, я помню, что написано, – заметила Дарья и продолжала:
"Катерина Петровна Белкова умерла (ей, видишь, прозванье было Белкова, а тебя уж, видно, по крестному отцу Климовой, прозвали), у нее осталась дочь, которую взяла из жалости соседка ее, Марья Прохорова.
Я свету божьего не взвидела! вот уж поплакала; так меня и тянуло в Питер, – и опять думаю, ну, а как старуху бросить? Думала, думала и послала письмо Марье Прохоровой. Уж я ее молила, молила, как могла, чтоб она держала пока дочь Катерины Белковой, что я заплачу ей за все, только приеду в Петербург. Она мне пишет… да это-то вот письмо злодею горбуну и продала я.
Я, пишет, призрела этого ребенка из жалости, мне, говорит, отдан был также какой-то ребенок, и не простой, слышала я; девочка такая нежная, и образок богатый на шее. Обещали много денег, да мало дали. Я держала ее, думала, авось еще мать аль отец опомнятся да заплатят. На ту беду корь: она и умри! Образок на шее у ней был, я надела его сиротке, дочери Катерины Белковой, Палаше. Авось, может статься, мать покойной-то девочки отыщется, так хоть этой счастье будет. Так вот пишет, не нужно мне твоих денег, я взяла ее по доброму сердцу, и так прокормлю ее. Вот какое письмо было", – заключила Дарья.
– Так это-то письмо продала ты горбуну? – спросила Полинька. – Да, да, голубушка ты моя! *
Полинька поняла, печальную ошибку, по милости которой так долго жила у Бранчевских в неопределенном и томительном положении. Дарья продолжала: "Старуха моя стала хилеть и уж с печи не вставала; словно малый ребенок сделалась: разложит лоскутки около себя да и играет ими. Раз ночью она меня будит. "Даша, а Даша, касаточка?" – "Ну, что, бабушка?" – "Да дай мне, лебедушка, твои серьги". – "На что тебе ночью-то?" – "Дай, голубушка моя, дай…" И стала хныкать. Я дала ей: думаю, пусть себе тешится старуха. Она обрадовалась, ворочалась долго возле меня; я заснула… Утром встаю, сошла с печи, вижу бабушка закуталась и спит. Только заварила я ей чай, жду, кричу: "Пора вставать, бабушка!", нет, все спит моя бабушка; я влезла на печку, стала будить ее, да чуть не упала вниз со страху. Старуха моя лежит и глазом не мигнет; на шее мои бусы, одна серьга надета, а другая сжата в руке, лоскутками увешала себе голову… и страшно и смешно было на нее смотреть. Я похоронила ее, поплакала и стала собираться в Петербург. Денег, что были у старухи, не нашла, все уголки обыскала; старуха, видно, так их запрятала, что никому они уж и не достанутся.
Первым делом, что я приехала в Питер, разумеется, было искать Марью Прохорову. Я уж ее искала, искала, ровно с месяц – насилу нашла следы, да толку мало было, Она умерла, а ребенок, что у ней был, бог весть куда девался! Тебе тогда этак около пяти лет было, что ли, – кажись, так; я, бывало, иду, да как увижу девочку таких лет, кинусь к ней, и ну глядеть: все думаю, не ты ли? не узнаю ли я? Кажись, кабы я тогда тебя увидала, сейчас бы признала. И волосы-то точно ее, а глаза, совсем как у дяди!"
И Дарья с какими-то странными ужимками заглядывала в лицо Полиньке, смеялась, плакала и бормотала несвязные слова. Полинька, тронутая историей своих родных, тоже заплакала. Дарья пришла в отчаяние; она забегала по комнате и била себя в грудь, повторяя:
– И она тоже плачет от меня! Господи, господи!
Полинька перестала плакать и поспешила успокоить старуху, которая впала в другую крайность! она заливалась смехом, подпрыгивала, говорила без умолку, но бессвязно. Она обложила Полиньку старыми платьями, салопами, перьями, наколола на ее простенькую шляпку измятых цветов и любовалась ими. Наконец она вскрикнула:
– Ах, ты господи! да что же это я ей портрета не покажу!