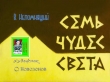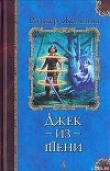Текст книги "Три страны света"
Автор книги: Николай Некрасов
Соавторы: Авдотья Панаева
сообщить о нарушении
Текущая страница: 22 (всего у книги 56 страниц)
– А знаешь что? – сказала Полинька. – Может, дела твоего мужа и не так дурны, а они только сговорились пугать нас, чтоб, понимаешь…
– Бог их знает.
Кирпичова вместе с Полинькой пошла в Струнников переулок, и когда башмачник, измученный и убитый, прибежал к Полинькиной двери, Полинька уже давно сидела в своей комнате.
Восторг башмачника доходил до безумия. Забыв свою обыкновенную застенчивость, он бросился целовать Полиньку, потом Надежду Сергеевну, потом опять Полиньку, и радостные слезы ручьями текли по его бледному лицу, которое в ту минуту было прекрасно; необычайное одушевление придало ему энергию и выразительность, которой недоставало в лице доброго Карла Иваныча.
Глава IV
ПЕРЕВОРОТЫ В СТРУННИКОВОМ ПЕРЕУЛКЕ
Все пришло в прежний порядок. Башмачник в течение недели почти каждый день бегал в улицу, где жил горбун, и, наконец, успокоился, убедившись, что горбун выехал из Петербурга. Успокоилась и Полинька. Но в характере ее произошла значительная перемена. Уже очень давно не получала она ни строчки от Каютина. Сомнение мучило ее, но гордость мешала ей передать кому-нибудь свои опасения. Веселость ее сменилась раздражительностью; часто смеялась она без всякой причины и от смеха вдруг переходила к слезам. Работа ей опротивела. Трудолюбивая Полинька стала ветреной и капризной, часто выходила со двора без всякой нужды, даже делала долги, а потом сердилась на башмачника, который был вечно у ней во всем виноват. Что касается до Каютина, то она старалась показать, что забыла о нем; но стоило упомянуть его имя, чтоб рассердить ее.
Раз башмачник застал ее в слезах и стал утешать, как умел, думая, что она плачет о своем женихе. Он угадал. Но Полинька вспыхнула при мысли, что о ней жалеют, как о покинутой. Она отерла слезы, гордо посмотрела в лицо башмачнику и сказала:
– Господи! чего вы не выдумаете! я стану плакать о нем? да я его давно забыла!
– Так вы его не любите больше? – быстро спросил башмачник.
Полинька громко засмеялась и подошла к зеркалу, будто пригладить волосы, но больше затем, чтоб скрыть слезы, вновь выступившие.
– Да, теперь, – говорила она, небрежно повертываясь перед зеркалом, – хоть приди и умри он передо мной, так я не пойду…
– Так вы уж за него не пойдете? – едва скрывая радость, перебил башмачник.
– Ни за никого! – грозно сказала Полинька, повернув к нему голову.
Он так смутился и струсил, что чуть не вскрикнул.
Пригладив волосы, Полинька надела салоп и шляпку и подошла к нему.
– Прощайте! я пойду гулять. Видите, как я о нем скучаю!
И она вышла, громко напевая.
Много страдал в такие дни добродушный башмачник!
Долги росли и начали сильно тревожить Полиньку.
– Карл Иваныч, я уж дала слово одной госпоже: хочу попробовать на месте пожить, – сказала она башмачнику, когда он пришел к ней. С некоторого времени ей очень нравилось видеть его испуганное лицо.
Он вскочил, потом опять быстро сел и бессмысленно смотрел на нее.
– Что ж вы думаете, Карл Иваныч?
– Что-с?
– Я да-ла сло-во ид-ти на ме-сто! – протяжно повторила Полинька, глядя на него лукавыми глазами.
Пот крупными каплями выступил на его лбу. Он машинально достал платок и отерся.
– Я вам отдам своего снигиря и цветы, – сказала Полинька грустным голосом. – Вы будете его любить? а? – Но вдруг она вскочила и дико закричала: – Карл Иваныч! Карл Иваныч!
Башмачнику сделалось дурно. Полинька, дрожа от испуга, в отчаянии металась по комнате, обливала его голову водой, терла ему виски. Наконец он медленно открыл глаза. Все еще придерживая его голову, Полинька сквозь слезы улыбнулась ему; на бледных еще щеках вспыхнул легкий румянец, глаза заблистали таким счастьем, что Полинька покраснела и отняла свои руки; но он удержал их, приложил к своей горячей голове, хотел поцеловать, но вдруг вскочил и, махая руками, с испугом сказал:
– Не надо, не надо! я здоров!
В ту минуту под самым окном послышались крики!
– Пожар! пожар!
Взволнованная Полинька страшно испугалась и начала бегать по комнате, как безумная, тоже повторяя: "пожар! пожар!" Башмачник кинулся вон. Полинька отворила окно и, высунувшись из него, дико вскрикнула:
– Спасите! горю!
В переулке была беготня и тревога; почти в каждом окне торчала испуганная фигура.
Вдруг раздался дикий, оглушительный хохот. Полинька подняла голову: с ведрами и баграми в руках, Доможиров и его сын стояли на крыше своего дома. Хохот так разбирал их, что они ломались и коверкались до исступления, не хуже тех паясов, которые, забравшись на балкон своего балагана, употребляют все усилия, чтоб завлечь в балаган почтеннейшую публику.
– Ну, ну! ну! – кричал, прикрякивая, Доможиров, как будто сам себя уговаривал, что уже довольно посмеялся; но стоило ему взглянуть на сына, чтоб покатиться с новою силою.
Полинька тотчас догадалась, в чем дело: Доможиров пошутил. Скоро узнала она и подробности шутки. Лежа на окне и перебраниваясь с девицей Кривоноговой, Доможиров вдруг озабоченно начал глядеть на крышу ее дома; глядел, глядел… и, наконец, быстро, не говоря ни слова, исчез с окна; а через минуту он и красноухий сын его были на крыше в оборонительном положении.
– Пожар! горим! – гаркнула девица Кривоногова так, что разом привела в тревогу весь Струнников переулок. Схватив чугун, она побежала на чердак, чтобы накрыть трубу, но впопыхах сунулась в слуховое окно, по тучности тела, до половины засела в нем и увеличивала общую сумятицу дикими криками: ей казалось, что ноги ее уже горят!
Смех Доможирова успокоил всех. Только хозяйка не успокоилась: высвободив, наконец, свое туловище из засады, она пустила чугуном в Доможирова и кричала на всю улицу, что она жаловаться пойдет.
– За что? – спросил Доможиров, едва переводя дух. – Разве я кричал, что пожар? а?
– А зачем на мою крышу глаза выпучил?
– А почем же я знаю, что вы с меня глаз не сводите? – с гордостью заметил Доможиров и юркнул в слуховое окно, опасаясь гнева девицы Кривоноговой, которая долго еще высчитывала сбежавшейся публике недостатки и дурные качества Доможирова, его отца и даже прадеда.
Полиньку очень рассердила шутка остроумного соседа. Перебежав через улицу, она тихо отворила дверь и вошла к нему. Он сидел на корточках у окна, наблюдая украдкой за своим врагом. Полинька рассмеялась.
– Афанасий Петрович!
– A, a, а! – вскрикнул он и с удивлением уставился на свою гостью.
– Я к вам в гости пришла, – кокетливо сказала Полинька.
– Милости просим! вот не ожидал! – сказал он, распрямляясь и все еще дико глядя на нее, как будто не верил своим глазам. Полинька сделала ему глазки, потом с испугом потупила их. И при виде нежно улыбавшегося личика Полиньки лицо его озарилось довольной улыбкой, глаза заблистали.
– Ну, пошутили! – сказала Полинька. – Как она вас бранит!
– Скверная женщина! – заметил он басом, с громкой усмешкой.
– Как у вас хорошо! – сказала Полинька, оглядывая неуклюжий мезонин.
– Нравится? А зачем редко в гости ходите? – самодовольно улыбаясь, спросил Доможиров.
– Ах, как можно! я боюсь соседей: что скажут! – лукаво отвечала Полинька.
– Ишь, теперь что скажут! а как бегала к нему, так не боялась злых языков.
И Доможиров подмигнул одним глазом.
– Так он был мой жених! Ну, посватайтесь; тогда буду к вам ходить! – сказала Полинька.
Он погрозил ей пальцем.
– А ведь, небось, не пошла бы?
– Пошла бы! – отвечала Полинька так искренно, что Доможиров вытаращил глаза и вопросительно глядел на нее. Она потупилась, завертела кончиком своего передника и прибавила, запинаясь: – Если вы, Афанасий Петрович, в самом деле имеете намерение, то прошу вас сказать мне, потому что я уж и сама вижу, что девушке бедной, как я, лучше иметь мужа в летах…
Доможирову никогда и в голову не приходило свататься за Полиньку; но теперь, когда она стояла перед ним, раскрасневшаяся, в его собственной комнате, ему показался такой поворот дела очень естественным: он считал себя первым лицом в Струнниковом переулке по званию, уму и достатку, – что же мудреного? особенно, если Полинька разлюбила ветреного Каютина.
– Прощайте! – грустно сказала Полинька.
– Да подождите! – возразил с легкой досадой Доможиров.
– Нет, не могу; вы сперва посватайтесь.
И Полинька быстро скользнула в дверь. Но не успел Доможиров собраться с мыслями, как дверь снова скрипнула: головка Полиньки показалась.
– Право, – сказала она, нежно кивая ему, – сватайтесь скорее, а то поздно будет! – и со смехом захлопнула дверь.
Доможиров ничего не слыхал; он кряхтел, усердно затягивая свой халат. И скоро пояс исчез, глубоко врезавшись в его бока, а он все стоял посреди комнаты и тянул, что было лучшим признаком, что голова его сильно работала.
С того дня он переменился: все сидел дома, рассуждая уж не жениться ли. Со стороны Полиньки, казалось ему, уже не может быть никаких препятствий; одно пугало его: что, если Каютин приедет и вызовет его на дуэль? Воображение его по-своему сильно работало.
Полинька между тем действительно решилась принять место у одной госпожи, которая согласилась дать ей денег вперед. А деньги необходимы были Полиньке, чтоб расплатиться с девицей Кривоноговой, которая, с тех пор как Полинька задолжала ей, стала очень дерзка с своей жилицей. Нечего и говорить, что поведение Доможирова, начавшего посматривать на окно Полиньки чаще обыкновенного, довершило ярость девицы Кривоноговой и усилило до невыносимой степени ее дерзость. Съехать было необходимо; даже сам башмачник (несчастный башмачник!) чувствовал эту необходимость и с пыткой в груди побежал нанимать ломового извозчика, который должен был перевезти Полинькины вещи.
Увидав, что ломовой извозчик стоит у дома девицы Кривоноговой и что вещи Полинькины укладывают, Доможиров пришел в отчаяние. Он чуть не перекрутил себя пополам (к счастию, лопнул пояс!) с досады, что так много пропустил даром времени, и, как был, в халате, кинулся к Полиньке. Но с половины дороги он воротился, спохватившись, что неприлично свататься в таком виде.
Увидав Доможирова, вбежавшего к ней с испуганным лицом, в сюртуке, Полинька приняла сердитый вид и с упреком сказала:
– Я уж думала, что вы и проститься не придете!
– Палагея Ивановна! что вы! что вы? уезжаете? – сказал запыхавшийся Доможиров и посмотрел вопросительно на Полиньку, на Надежду Сергеевну, на унылого башмачника и даже на Катю и Федю, которые перебирали лоскутки, подаренные им Полинькой, и были очень довольны суматохой.
– Я вас ждала, ждала, наконец соскучилась, и вот теперь еду; прощайте, Афанасий Петрович!
Полинька поклонилась ему.
– Палагея Ивановна, да я думал… я не поверил… и кто же вас знал… – чуть не со слезами говорил Доможиров, запинаясь и покручивая две грациозные кисточки, украшавшие его картуз.
Полинька тяжело вздохнула, причем башмачник вздрогнул, а Надежда Сергеевна с недоумением покачала головой.
– Палагея Ивановна, прикажите внести ваши вещи: Я…
– Мои вещи… зачем это, Афанасий Петрович? – с удивлением спросила она.
– Ах, боже мой! вот дурак, так дурак: жил окно в окно сколько лет… глупая башка, глупая!.. эх!
Так заключил Доможиров, открутив совсем одну кисточку и с негодованием бросив ее на пол.
– Палагея Ивановна! – продолжал он умоляющим голосом, не поднимая головы. – Матушка, прикажите внести все назад… Голубушка! простите меня! я ведь дурак: знаете, не верил!
– Попросите хорошенько! – кокетливо сказала Полинька.
– Ну да как же еще? я уж, право, не знаю.
– Ну, станьте на колени.
– Как на колени?
– Ну, как вы ставите вашего сына.
– Ишь, какая!.. Ну, ну, извольте. Так ли, Палагея Ивановна? так?
Он стал на колени. Очень смешна была вся его фигура, особенно лицо.
Полинька сложила руки и величаво спросила:
– Чего же вы хотите?
– Вашей ручки, ручки вашей.
И он нежно вытянул губы.
Полинька расхохоталась, оттолкнув Доможирова, который так был поражен неожиданной развязкой, что не справился с легким толчком, упал и с разинутым ртом дико смотрел с полу на смеявшуюся Полиньку. Катя и Федя торжествовали, прыгая около распростертого Доможирова и хлопая своими маленькими руками. Они терпеть не могли Доможирова: вечно праздный, он вмешивался в детские распри и, по естественному пристрастию к своему красноухому Мите, всегда обвинял Катю и Федю, жалуясь на них девице Кривоноговой. Башмачник угрюмо помог встать Доможирову и отчистил его сюртук.
– Ну, Афанасий Петрович, – сказала Полинька, – теперь мы квиты! Вы довольно шутили с нами, – вот и вам пора было… не правда ли?
Он с минуту стоял, как ошеломленный, вытаращив глаза, и вдруг разразился потрясающим смехом. Долго хохотал он, хорохорился, поздравлял Полиньку, что она перехитрила его; но слезы слышались в его диком хохоте, и он поминутно сморкался.
– Однакож я шучу, шучу, а уж пора: все готово, – сказала Полинька нетвердым голосом.
Чем ближе подходило время разлуки, тем сильней становилось ей жаль своей комнатки, башмачника и даже Доможирова.
– Ага! шутила, шутила, а теперь, кажется, уж и плакать, – заметила Надежда Сергеевна, которой очень не нравилось, что Полинька начинает бродячую жизнь по чужим домам.
– И не думала! – с досадой сказала Полинька и, чтоб скрыть слезы, вскочила на окно и сняла клетку. Вынув своего снигиря, она поцеловала его, погладила и, держа на пальце, поднесла к форточке,
– Что ты делаешь? – спросила Надежда Сергеевна.
– Выпустить хочу.
– Ведь он умрет с голоду.
– Зато полетает на воле.
И Полинька высунула свой пальчик в форточку: снигирь чивикнул, радостно забил крыльями и порхнул.
– Полетел! – печально сказала Полинька, спрыгнув с окна.
– Полетел! – рыдающим голосом повторил башмачник, у которого вертелся в голове тот день, когда Полинька в первый раз приласкала птичку, а он, гордый и счастливый своим подарком, любовался Полинькой, притаившись у двери.
– Вон он, вон, вон! – закричали Катя и Федя, вскакивая на окно и следя за снегирем; который уселся на крыше Доможирова и припрыгивал и осматривался во все стороны.
– Я его поймаю! – сказал Доможиров и выбежал.
– Карл Иваныч, вы возьмите мои цветы; только смотрите, берегите их! – сказала Полинька, надевая шляпу и салоп.
– Извольте, я их…
Полинька быстро повернулась к нему спиной и, подойдя к Кирпичовой, спросила:
– Что, не криво я шляпку надела без зеркала?
– Нет, – сказала Надежда Сергеевна, – шляпка не криво надета. А вот, – прибавила она едва слышным голосом, – слезы зачем?
И она отерла слезу, катившуюся по щеке Полиньки. Они крепко поцеловались.
– Ну, Христос с тобою!
И Надежда Сергеевна перекрестила Полиньку.
Они вышли на улицу. Праздные жители Струнникова переулка собрались около воза разглядывать Полинькино добро. Воз двинулся, и Полинька, раскланиваясь на все стороны, пошла за ним в сопровождении Кирпичовой и башмачника, напутствуемая пронзительными криками Доможирова, забравшегося на крышу ловить снигиря.
Казалось, Катя и Федя теперь только почувствовали, что сиротство их увеличивается, и огорчились отъездом Полиньки. Переглянувшись, они схватились ручонками и побежали за ней. Вдруг раздался могучий голос девицы Кривоноговой:
– Куда? зачем? назад!
Дети вздрогнули, оглянулись и тотчас же, сжав еще крепче руку друг другу, пустились во всю прыть вперед.
– Тетя, тетя! – закричали они отчаянно, догоняя Полиньку.
Полинька обернулась и приняла в объятия запыхавшихся детей. Они повисли у ней на шее и плакали, целуя ее. Много нужно было Полиньке употребить усилий, чтоб самой не заплакать.
– Вот вам, купите себе леденцов, – сказала она, давая им по пятачку. – Да ступайте домой, а то старая тетя бранить станет!
– Ничего, пускай бранит! – дерзко сказали дети в один голос, всхлипывая ив то же время сквозь слезы с улыбкой посматривая на свое богатство.
– Ну, прощайте! – сказала Полинька и поспешила догнать свой воз.
Дети долго смотрели ей вслед,
– Ушла, – грустно сказал Федя.
– Ушла тетя Поля, – сказала Катя, тяжело вздохнув.
Они еще с минуту молчали; потом Федя взглянул на свои деньги и сказал:
– Пойдем в лавочку, купим леденцов.
– Пойдем, – отвечала Катя.
И они побежали купить леденцов, как будто надеясь заглушить ими свое горе.
Может быть, ни для кого в Струнниковом переулке отъезд Полиньки не был так чувствителен, как для Кати и Феди, – ни для кого… кроме несчастного башмачника!
Чем ближе подходила Полинька к дому, где должна была жить, тем грустнее становилось ей. Разговор замолк, и все трое шли за возом так молчаливо и так уныло, как ходят люди только за гробом.
Глава V
ОПЕЧЕНСКИЙ ПОСАД
Пока в Струнниковом переулке совершались перевороты, сейчас рассказанные, Каютин прибыл благополучно с своими судами в Вышний Волочек. Здесь он должен был ожидать несколько времени скопления каравана. Наконец, запасшись хорошими лоцманами, которые нанимаются уже до самого Петербурга, он вышел в озеро Мстино, а оттуда барки его были выпущены в реку Мсту, славную своими порогами.
Главнейшие пороги Мсты: Ножкинские, Басутинские и Боровицкие. В них барки проводятся особыми лоцманами, хорошо знающими изгибистое направление фарватера.
Барки Каютина, миновав благополучно Ножкинские и Басутинские пороги, остановились у пристани в Опеченском посаде.
Между Опеченскою и Потерпелицкою пристанями, на протяжении двадцати девяти верст, находятся знаменитые Боровицкие пороги, самое затруднительное место для судоходства в России.
Опеченский посад, называемый в простонародьи Рядком, расположен по обеим сторонам Меты, на довольно живописной местности. Строения красивы, улицы удивительно чисты. У правого берега, обделанного на большое протяжение околотым булыжным камнем, стоят суда, предназначенные для спуска. Число их доходит иногда до полуторы тысячи. На другом берегу помещаются порожние барки, куда грузятся (сбывают лишний груз) те суда, которые сидят в воде более, чем требуется для прохода по порогам. Постоянных жителей в Рядке мало; но в судоходное время народ толпами сходится сюда из окрестных деревень, и тогда вся пристань представляет самое живописное зрелище.
В ожидании спуска своих барок Каютин бродил по пристани, с любопытством наблюдая кипящую перед ним деятельность; прислушивался к толкам рабочих, лоцманов и хозяев; провожал долгим, задумчивым взором каждую спущенную барку и потом поминутно с сердечным волнением смотрел на телеграф.
Нужно заметить, что на возвышенных местах Меты, около порогов, стоят телеграфы: если барка проходит благополучно, на них висит белый шар; если барка разбивается или останавливается на ходу, выкидывают красный шар. Таким образом, несчастье делается в несколько минут известным в пристани, И спуск судов прекращается, пока не очистится ход.
Барки Каютина назначены были к спуску на третий день по прибытии. Уж многие лоцмана приходили к нему наниматься, выхваляя свои достоинства, но Каютин, по совету Шатихина, решился прибегнуть к лоцману Василию Петрову, знаменитому своим искусством.
Лоцмана в Опеченском посаде составляют особое сословие и пользуются особенными правами, которые довольно интересны. Вновь поступают только на место выбывших и не иначе, как по выборам. Лучшие концевые {Барки управляются четырьмя потесями, то есть огромными веслами, сажени четыре в длину, вершков шесть в диаметре, расположенными по концам. Правою, переднею, управляет сам лоцман, на остальных распоряжаются его помощники, называемые концевыми.} записываются в кандидаты, и список их рассматривается инженерным начальством. Потом назначается день выборов. Собираются лоцмана и баллотируют кандидатов шарами. Список избранных представляется на утверждение начальству.
Стало быть, право быть лоцманом зависит решительно от способностей и знания дела. Случалось, однако, что дед, отец и сын были лоцманами, передавая друг другу свои знания.
В гонке барок между лоцманами соблюдается очередь, нарушаемая, впрочем, по взаимному согласию: лучшие лоцмана, известные под названием "просьбенных", становясь на суда не в очередь, платят очередным условную плату. Выгода лоцмана сопряжена, разумеется, с благополучной переправой барки. Если барка разобьется, он не только лишается платы, но и работы до окончания следствия. Такое лишение продолжается одну или две перемычки, смотря по результатам следствия.
Дом лоцмана Петрова отыскать было нетрудно: любой человек на пристани знал к нему дорогу. Миновав целый лабиринт складочных сараев, пильных дворов, барок, досок, образующих местами длинные переулки, кузниц и лачужек, расположенных по косогору на песчаном берегу реки, Каютин очутился наконец перед небольшим зданием, чем-то средним между избою зажиточного крестьянина и мещанина. Здание примыкало почти вплоть к обрыву берега; окна его с резными вычурами и цветными ставнями глядели на реку; две-три столетние дуплистые ветлы осеняли его кровлю. Высокий плетень, огибавший густой огород, был завешен сушившимся бреднем; у ворот, вместо сохи или бороны, лежала опрокинутая лодка. Куда только ни обращался взор, все обозначало довольство; нигде не видно было той ветхости, какую так часто встречаешь в обыкновенных сельских лачугах. Вступив на двор, Каютин еще более убедился в зажиточности хозяина. Кругом амбары, клети, бочки; стада гусей и кур бродили по двору; над крылечком висело несколько островерхих клеток с перепелами; на веревке, протянутой через двор, висели все красные рубахи, тулупы, шубейки, плисовые шаровары. Впрочем, и то сказать: ни одно сословие из простонародья не живет так привольно, как лоцмана тех мест. За каждую благополучную гонку барки хозяин платит им иногда до пятнадцати рублей серебром. В Потерпелицкой пристани всегда готовы лошади, и хорошему лоцману удается часто в сутки прогнать три барки; в три перемычки (промежуток времени, в которое спускают барки) хороший лоцман зарабатывает до трех тысяч ассигнациями.
– Эй! тетка! – сказал Каютин, обратясь к толстой бабе, стиравшей белье посреди двора у колодца. – Дома, что ли, хозяин?
– Дома, кормилец; подь в горницу.
Каютин вошел в просторную сосновую избу, жарко натопленную; в правом углу, перед богатой образницей, за большим дубовым столом несколько человек распивало чай. Неуклюжий самовар стародавнего фасона шипел и визжал, пуская кудрявые клубы пара в лица и бороды собеседников.
– Кто здесь Василий Петров? – спросил Каютин, поклонившись всей компании.
– Что угодно твоей милости? – отвечал, приподымаясь, бодрый и высокий старик лет пятидесяти, в пестрой ситцевой рубахе, синем суконном жилете с медными пуговицами и в плисовых штанах, заправленных в сапоги. В черных кудрявых волосах его проглядывала седина; лицо его, смелого и бойкого очертания, было правильно и привлекательно, но сурово.
Вообще все лоцмана имеют осанку горделивую; походка их строга, движения величавы. Привычка командовать кладет на них свою печать. Притом все они народ здоровый, сильный и ловкий.
– Я пришел к тебе, Василий Петрович, с просьбой, – сказал Каютин, – возьмись завтра управлять моей казенкой да укажи хороших лоцманов.
– Да, с чего же ты ко мне-то пришел? – возразил лукаво старик.
Он бережно поставил на стол блюдечко, которое держал на концах пальцев, и, сузив свои глаза, устремил их на молодого человека.
– Выдь на улицу, гаркни только: лоцмана-де нужно! набежит, как саранча! Глянь-ка, поди на пристань, как обступают вашего брата, хозяев, – не продраться сердечным! и кто тебя ко мне послал?
– Слухом земля полнится; все говорят, ты самый бывалый, надежный лоцман.
– То-то и есть, хозяин, толкуют; и стар-то и слаб стал, в отставку пора; а приспеет дело, хозяева все, почитай, к Василию Петрову бегут: Василий-де Петрович, ко мне да ко мне, сделай милость! я не напрашиваюсь, не хожу за вами, – вы за мной ходите. Стар, вишь, пришелся; а что ж, что стар, коли дело смыслит! Да и что в молодости? Молвить нечего, есть хорошие ребята; вот и сын у Меня бойкий парень и из себя видный, да ветер-то их во все стороны качает, молодо-зелено! Выпей-ка с нами чайку, хозяин, просим не побрезговать, – садись.
Каютин сел.
– А ты уж езжал здесь или впервой? – спросил лоцман, наливая ему чашку.
– Впервой, не приходилось, – отвечал Каютин, – вот потому-то я хотел иметь с тобою дело, Василий Петрович: понадежнее; места-то, говорят, больно опасные у вас; мне все здесь в диковину.
– Да ништо, место приточное, заметное место… сюда нарочно на наши пороги поглядеть ездят: больно, вишь, занятно… Как теперь помню, лет десяток будет, сел ко мне на барку господин из Питера; для того и приехадцы, говорят, был… Ничего, не робел сначала. А как на Вяз наехали да почла барка трещать и гнуться, отколева страх взялся, забегал, словно угорелый, так вот и прыскает из угла в угол, побелел весь, кричит: «Выпустите, родимые!» Мне не до того было: работа была трудная; а как взгляну, так вот смех и разбирает. Да ведь и не выдержал: на остров соскочил, упал по колени в воду, а шуба-то на нем енотовая была, богатая, – всю смочил; уж и посмеялись мы тогда! Не знаю, кто его тогда на берег вывез!
– А вот намедни толк шел в харчевне, Василий Петрович, – отозвался один из гостей лоцмана, рыжий, плечистый мужик в синем армяке, – сказывали, что два англичанина из своей земли нарочно приезжали поглядеть на пороги.
– Да кому же ты говоришь, Мирон Захарыч! я сам их видел, вот как тебя вижу теперь; вот, я чай, и батюшка их запомнит.
Тут он обратил глаза к противоположному углу, где на широкой изразцовой лежанке покоилось туловище, прикрытое двумя нагольными тулупами.
– Батюшка!
– Ась! – отозвался разбитый голос, и старик лет осьмидесяти пяти, седой, как лунь, приподнялся, покрякивая, на локте.
– Подь к нам, – сказал лоцман, – полно тебе спать! вишь, гости дорогие пришли; выпей чайку.
Старик сбросил с себя тулупы и свесил босые костлявые ноги на пол, причем длинные пряди его белых волос рассыпались по смуглому, загорелому лбу и шее. Он медленно сошел вниз, накинул на сгорбленную спину овчинку и, придерживаясь по стенке, медленно начал пробираться к разговаривающим. Тогда только заметил Каютин, что старик был слеп. Гости лоцмана почтительно дали ему дорогу; Каютин привстал и опорожнил ему место.
– А помнишь, батюшка, как англичане приезжали к нам на пристань?
– Помню… как не помнить! – отвечал старик, ощупывая лица соседей. – Ты, что ли, Мирон? – произнес он, отнимая дрожащую ладонь от бороды рыжего мужика.
– Я; здорово, Петр Васильич! как бог милует?
– А ведь, небось, на барку-то не посмели сесть англичане-то, – перебил лоцман, – только у телеграфа на Выпу поглядели; дело-то было по весне: знамо, река-то наша маненечко поразгулялась; как увидели они, что барку понесло так, что и тройкой не обгонишь, – знамо, при ветре тридцать верст вчастую угонит, – ну, и трухнули. А потом, сказывал ратман, как приехали домой, в газетах отпечатали, что по порогам по Боровицким в решетах ездят. Да что вы думаете, а ведь и взаправду решето! – продолжал словоохотливый хозяин, самодовольно оглядывая слушателей. – А нутка-сь, построй иное судно, так, чего доброго, и не выдержит, как на порогах почнет его без малого что на аршин перегибать {Суда строятся плоскодонными; ни одной железной связи в них нет; даже гвоздики все деревянные; это делается для того, чтобы они составляли по возможности упругую систему и могли бы изгибаться не ломаясь.}.
– А правда, говорят, будто здесь императрица Екатерина Великая была? – спросил Каютин, обращаясь к слепому старику, который тотчас же навострил слух и поставил чашку на стол.
– Правда, – отвечал он, – я еще тогда и сам лоцманом был. Вот недавно с ратманом года считали, да и в бумагах есть: кажись, в 1785 году… дай бог память!.. так, в 1785 году дело было. Государыня от Волочка на барках изволила прибыть; нарочито там для нее барки делали. А здесь ее на носилках наши девки из барки вынесли; носилки были тож нарочито сделаны. Девки все подобраны были ражие; нам всем, лоцманам, понашили кафтаны зеленые, кушаки алые, поярковые шляпы; и теперь у меня сохранны, в сундуке лежат. Царица до Потерпелиц, говорят, на барки не садилась, а изволила по берегу ехать в берлине – по-нынешнему каретой называют, – а на барках графы и князья ехали.
– А много с ней было свиты?
– Да довольно. Князь Потемкин был, Саблуков, Нарышкин да еще… дай бог память… наместником новгородским и тверским что был… да, Архаров, Николай Петрович; да еще Олсуфьев. Я тогда молод был, а вот помню немного. В Потерпелицах государыня села на барку и на ней до самого Питера следовать изволила, – продолжал старик, проводя для большей ясности рукой по воздуху, – дай бог ей царство небесное! Да на плесе, за Витцами, под Боровичами, велела всех лоцманов водкой поить. Вишь, какая!.. С тех пор и зовут его Винным Плесом.
Старик замолк, потупил голову и задумался.
– Знатное, знатное у нас место! – заметил лоцман Петров, самодовольно поглаживая бороду. – Особливо в судоходную пору, как со всех сторон народ пойдет на работу, – что твой город: тысяч семь иной раз наберется! шутка, без малого пять тысяч барок прогоняем! Неповадно оно только вашему брату, – прибавил он, смеясь: – чай, задрожит, небось, ретивое, как пойдет колотить твои: барки тысячные?
И лоцман снова засмеялся. У Каютина в самом деле дрогнуло сердце.
– А часто случаются у вас несчастия? – спросил он.
– Как не быть, – бывают; грех сказать, чтобы часто, не то что в старые годы, а все-таки поколачивает. Вот и вечор барку в середипорожьи разбило: гнали с Гжатской пристани, с маслом, и тысяч на двадцать серебром товару было, – така-то напасть, право! И лоцман такой ловкий парень, – не знаю, оплошал, что ли, или уж так, напасть божия? Костин, – прибавил лоцман, обращаясь к другим собеседникам. – Да и сам чуть было не утонул: как-то концом потеси зацепило за голенище; он и повис на ней… да спасибо еще концевой ножом голенище распорол и снял его… Жаль беднягу: прогулял перемычку! А барку так расколотило, что всего восемьдесят кулей повытаскали!
– Да куда же они все девались? – смущенным голосом спросил Каютин.
– Куда! эге-ге… и вправду видно, что вы впервые здесь, – отвечал лоцман, прищуривая снова глаза свои. – Куда девались? а нешто, ты думаешь, барки-то бродом ходят у нас?
Гости лоцмана захохотали; даже старик, отец его, покачал головою, и на впалых губах его, показалась улыбка.
– Эх-ма! – продолжал хозяин. – Ведь я ж те сказывал, как их, сердечных, перегибает на порогах; река извилиста, что проселок, в ином месте словно углом заворачивает; а тут как раз каменная коса на повороте тебя и ждет, – не смигнешь, как налетишь; течение: брось щепку – несет, как лист вихрем. Рассуди ж ты сам, каково поуправиться тут с баркой; на иной ведь пудов тысяч восемь – сила! Вестимо дело, повсюду, где только можно, в опасных местах "заплыви" из бревен поделаны: как ударится об них барка, так они и откинут ее опять на фарватер, на глубину… понимаешь?.. Да и тут не всегда господь милует.