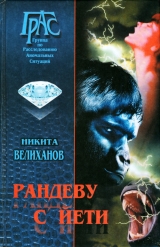
Текст книги "Рандеву с йети"
Автор книги: Никита Велиханов
Жанры:
Современная проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 20 страниц)
Так вот, Брандт (кстати, в реестровых записях упомянуто не имя его, а прозвище – Старый Брандт) вместо того, чтобы отойти, как и было сказано, верст на десять дальше вдоль берега Лизель в степь и отстроить там свой хутор, пошел на юг вдоль Волги, по левому берегу, где были тогда сплошь болота, камышовые пустоши и прочие неудобья. Дошел до большого озера. В озеро впадало несколько ручьев – и один, против местного обыкновения быстрый и чистый, очень уж ему глянулся. Вот возле этого озера, на этом самом ручье он и отстроил свой хутор – благо лесу вокруг было немерено, и совершенно задаром.
Озеро тогда действительно было большое. И весьма обильное рыбой. А в особенности – любимой немцами плотвой. А поскольку имени, по крайней мере, официально нанесенного на карту, у озера не было, Брандт и окрестил его сам – Плётцезее, Плотвичное озеро. А хутор назвал, соответственно, Зееслау. Озеро это, кстати, есть до сих пор, оно основательно заросло, заилилось и несмотря на то, что после ввода в строй Волгоградской ГЭС уровень воды здесь весьма существенно поднялся, разделено теперь на несколько более мелких озер. Но самое среди них крупное по-прежнему называется – Сорочье озеро.
– Что значит – по-прежнему? – удивилась Ирина.
– Это же самое название и есть. Только претерпевшее ряд изменений. В Саратове человека, который назовет плотву плотвой, никто не поймет. Здесь у нее совершенно другое название – сорога. А уж превратить Сорожье озеро в Сорочье местным жителям, а в особенности тем, которые совсем недавно стали местными, – раз плюнуть. Но, впрочем, вернемся к Старому Брандту. Он перегородил ручей плотиной, выстроил на получившейся таким образом запруде водяную мельницу и стал молоть зерно и немцам, и русским, и мордве, и всем, кто только к нему с зерном приезжал. Сеять он сам ничего не сеял – очевидно, не лежала душа. А кроме мельничных дел занимался охотой и рыбалкой – благо, места для этого дела были самые подходящие: леса, озера, камыш да протоки. Тут тебе и лоси с кабанами, тут тебе и пернатой дичи столько, что до сих пор никак не перебьют. А рыбы тогда было столько, что не имело даже смысла ею торговать – только ленивый сам не ловил. Впрочем, нет. Немцы не ловили. То есть ловили, но по-немецки – дергали плотву на удочку. А это с точки зрения волжан есть чистой воды баловство и ребячество. Вот Брандт – тот ловил по-настоящему, десятками пудов. И не какую-нибудь частиковую – сомов там, щуку, судака. Нет. Он – все больше уважал рыбку красную: осетр, белуга, шип, стерлядка. Белорыбица – тоже неплохо шла. И сам ел, и немцам на Лизель возил. Которые у него брали охотнее, чем у татар и у русских. Какой ни на есть, а свой. Вот так он и жил, не пахал, не сеял, а сыт был всегда, да еще и денег имел поболее, чем иной заволжский бюргермейстер.
Был у Брандта сын, Молодой Брандт, который вырос потом в Большого Брандта, потому что росту и силы и в самом деле был невероятных. И такой же рыжий, как отец, – я не сказал, что Брандт был рыжий? Не сказал?
Рыжий, как медная проволока, и с такой же точно бородой – хотя потом поседел, конечно. А вот Большой Брандт – тот на всю жизнь остался рыжим. Жена у Старого Брандта умерла давно, года через два, как он переселился на свой хутор, сына она ему родила одного-единственного, а больше жениться он не стал. И вот, пока Большому Брандту не исполнилось семнадцати лет, жили они с отцом душа в душу. А как исполнилось – так будто кошка между ними пробежала. Немцы с Лизели, которые возили к Брандту на мельницу зерно, говорили, что Молодой Брандт дома теперь почитай что и вовсе не живет, что он еще безумнее отца – тот от людей ушел в болото, в глухомань, но хоть делом занялся, муку мелет, рыбой торгует, хотя, впрочем, бирюк бирюком и человек не особо приятный. А этот же, молодой, как будто отродясь человека не видал – и видеть не желал. Выстроил он будто бы себе где-то в самой приволжской чащобе охотничий домик, да и переселился в него. И не то чтобы с прочими порядочными людьми – а и с отцом родным знаться не желал. Охотился, рыбу ловил, тем и жил.
Мало-помалу стали доходить до колонии на речке Лизель другие слухи – что будто бы Молодой Брандт не просто так ушел в леса и болота. Будто бы приворожила его какая-то тамошняя нечисть, не то колдунья, не то еще кто похуже. А вскоре получили в колонии тому подтверждение, и не от кого-нибудь, а от самого Старого Брандта. Приехал он однажды в колонию на своей двуколке, и прямиком к пасторскому дому – и все-все пастору про сына своего рассказал, сперва пастору, а потом всем честным здешним людям. Рассказал он, что Большого Брандта и впрямь околдовала болотная нечисть, и приучила жить в лесу и зимой, и летом, и что даже ружье Большой Брандт давно уже вернул отцу и обходится теперь в лесу один безо всякого человеческого оружия. И что умеет он теперь удивительные вещи – под водой остается на добрые десять минут, отец сам засекал, по хорошим немецким, еще в фатерланде сработанным часам. И рыбу ловит голыми руками. И может хоть всю ночь голышом просидеть на болоте, и ни один комар его не укусит. И так ему, Большому Брандту, эта новая жизнь понравилась, что он и отца своего пытался в нее втянуть. И Старый Брандт не увидел в том сперва ничего плохого – умения-то все сплошь полезные, всякому человеку пригодны. И стал он было к сыну на болото захаживать – пока не увидел, какой хозяйкой обзавелся в этом своем лесном доме Большой Брандт.
Пришел однажды Старый Брандт к Молодому в гости, в лес. Посидели, покурили на крылечке – то есть это Старый Брандт курил, а Молодой теперь про табак и думать забыл. Но курить с ним было приятно – под разговор, под комариное жужжание, которое было даже приятным оттого, что пока Старый Брандт был рядом с Молодым, и его тоже никакая тварь не кусала. А потом вдруг Молодой Брандт и говорит Старому: хочешь, говорит, отец, я тебя со своей хозяйкой познакомлю. Что за хозяйка, удивляется Старый, я тебя не женил, ты в церкви не венчался – во грехе живешь? Оно, конечно, дело молодое, но дальше так нельзя. С невестой твоей познакомлюсь я, конечно, с удовольствием, будь она хоть русская, хоть татарка, хоть кто. Старый Брандт, он человек просвещенный, он безо всяких там филистерских предрассудков. Но первым делом нужно тогда сговорить венчание, и свадьбу устроить, чтобы все по-людски. И людей пригласить, для веселья, и музыку, чтобы всем было ясно, что Старый Брандт сына женит по всем правилам, честь по чести. А Молодой ему на это и говорит – не торопись, отец, так-то оно так, да вот проблема в том, что не уверен я, хочется ли мне венчаться в церкви. А в том, что хозяйке моей вовсе этого не хочется, так в этом, говорит, я уверен так, что крепче не бывает.
Что ж, говорит Старый Брандт, у тебя за невеста такая? И какой она такой веры, что не желает в нашу, правильную христианскую веру перейти? Раз живет здесь с тобой, значит, судя по всему, родителей у нее либо нет совсем, либо же они ей не указ. А раз родители ей не указ, так и власть над ней вся твоя. Ты ей, по сути если разобраться, муж, и как ты порешишь, так для нее это должен быть закон. Если хочет с тобой жить – пусть живет по-человечески. А если нет – так не будет вам тогда моего родительского благословения.
Погоди, отец, говорит ему Молодой Брандт, не спеши. Ты ж ее еще не видел. И то верно, говорит ему Старый – ну, давай зови, показывай. Молодой так даже и встать с места не встал, и слова не сказал, а только повернулся в сторону – глядь, выходит оттуда девица, ну просто сказать – красавица, да и только. И на руках у нее – ребенок маленький.
Ах ты, хитрец, говорит Старый Брандт Молодому. Знаешь, чем старика отца купить. У них тут уж внуки готовы, а они меня на свадьбу звать не хотят. Сердце у него, конечно, растаяло, и с крылечка-то он встал, чтобы к невестке подойти поближе, присмотреться к ней, да и на внука поглядеть. И тут вдруг – как сделал он к ней шаг, взяло его сомнение. Все вроде бы в девице так, а что-то все ж таки не так. Какая-то смазанная она ему кажется, какая-то будто зыбкая, как отражение в воде. И платье на ней как будто мерцает, и цвет меняет – не сразу, а так, потихоньку, то в зеленый, а то будто бы в голубой. И молчит. Стоит, смотрит на него, губы сжаты – и сыну тоже ни слова, и он ей, как будто в молчанку сговорились играть. И ребенок тоже – шевелится, ребенок-то, ручонками-ножонками сучит, и ротик вроде открывает, и – ни звука. Как будто под водой все это происходит. И такая вдруг жуть напала на Старого Брандта. Ведь колдунья. Точно колдунья. Или хуже того, русалка, дева речная. Заколдовала парня, немтырь болотная, а сама небось жабры под шалью прячет. И ребенок этот – подменыш, кобольд, бесенок пакостный. Протянул он было к девице руки, чтобы ребенка у нее выхватить, да поглядеть на него поближе, а та вдруг хлоп, и растаяла прямо в воздухе, как не было ее – и только сзади где-то шорох, словно зверь побежал. Обернулся Старый Брандт и окаменел – потому что хоть многого заметить не успел, но и немногого достало. Потому что успел ухватить краем глаза, как метнулся от дома в сторону, в самую чащу, какой-то зверь косматый. И ростом этот зверь был как раз с невесту. И бежал на задних лапах. А передними держал такого же косматого звереныша. Повернулся тогда Старый Брандт и, не оглянувшись даже на сына, побежал на хутор, выкрикивая на бегу слова святых молитв. А на хуторе запряг двуколку и – к людям, на Лизель, чтобы посоветовали они ему, что ему теперь, несчастному, делать.
Собрались тогда на Лизели мужчины, взяли ружья и во главе с пастором отправились на Плётцезее. До лесного домика добрались они быстро, благо Старый Брандт дорогу показывал. Большой Брандт сам вышел им навстречу и начал было их уговаривать, что ничего-де тут противоправного не происходит, что он живет и никого не трогает, и шли бы они себе по домам, а его с женой и ребенком оставили в покое. Только народ его слушать не стал, а все кричал: выводи, мол, покажи им ведьму с ведьменком. Оглянулся Большой Брандт – и вышла на крыльцо та самая женщина с ребенком, красивая, пригожая, но только люди-то знали, что все это сплошной обман и отвод глаз. А потому, как только она переступила порог, один из лизельских немцев поднял ружье и выстрелил в нее, и она упала. А Большой Брандт вовсе рехнулся, выхватил нож и кинулся на стрелявшего. Был он огромный и сильный, и многих людей тогда побил-поувечил, пока его не связали. А пока его вязали, раненая – или убитая – ведьма с крылечка куда-то исчезла, и никто так и не понял, куда, потому что дом-то заранее со всех сторон обложили, чтобы никто из него не ушел.
Большого Брандта привезли на Лизель и стали там держать в подвале, на хлебе и воде, и пастор приходил к нему каждый день и беседовал с ним, убеждая отказаться от связи с бесами и вернуться в лоно истинной христианской веры. И через год плоть Большого Брандта совсем ослабла, и бесовский дух в нем угас, и он принял причастие, и снова стал добрый христианин и брат всем добрым христианам. Однако из подвала его не выпускали еще года полтора, и было ему это вроде епитимьи, и проводил он дни в молитве, посте и воздержании. А через полтора года умер Старый Брандт, и Зееслау по наследству перешло к Большому Брандту, тут его и выпустили, женили его на хорошей девушке из своих же, из местных, и отвезли в Зееслау. И зажил Большой Брандт в Зееслау, только не все там у него в Зееслау было чисто. Во-первых, молодая его жена, крепкая цветущая немецкая женщина, пропала через полгода после того, как поселилась с мужем на хуторе. Причем приключилось с ней это несчастье на глазах у множества людей, которые приехали к Брандту молоть зерно, так что на Брандта никто ничего плохого подумать не мог – его при этом не было, он в амбаре помогал грузить мешки. Просто шла она по берегу мельничной запруды, поскользнулась на ровном месте, упала в воду и сразу же – как будто канула. Ныряли за ней, ныряли, искали-искали, да так и не нашли. Думали, тело под какую корягу на дне течением забило, и Брандт даже пруд спускал – но и тогда все равно ничего не нашли.
Во-вторых, год или два спустя стали поговаривать, что Бранд-то взялся за старое. И колдовал, и порчу снимал, и сглаз, и всякими травами людей лечил, причем так лечил, как ни один доктор лечить не умеет, самых тяжелых больных, бывало, на ноги поднимал за день, за два – а народ не обманешь, народ, он все понимает, и что дело здесь нечисто – так это в первую голову. И все-то у Большого Брандта получалось, как ни у кого другого по всему левому берегу Волги. Рыба у него ловилась так, что всем, кто это видел, аж дурно делалось от такого улова, да еще в таком нерыбном месте. На огороде он и часа не проводил за все лето, а росло все – как на дрожжах, и ни осота тебе, ни порея, ни репейника. Одна капуста, и что ни качан – чуть не в полпуда. А потом как-то раз по осени прибежал на Лизель один местный охотник, без шапки, глаза сумасшедшие, и говорит, что сидел он в засидке, с утра пораньше, караулил зверя. И видит, идет по тропинке Большой Брандт, да не один, а с ним еще двое. Поначалу-то, издалека, охотник этому значения не придал – дымка была, не видно, кто там. Брандта он сразу узнал – у того жилет был красный, один такой жилет на всю округу. А двое других – ну, приехали к нему люди, зерно привезли, ну, посидели, пива выпили, пошли по лесу прогуляться, жирок порастрясти. Он поначалу даже озлился на них – вот, мол, ходят, зверье пугают, даром он, выходит, тут столько времени караулил. Подошли они ближе – и тут наш охотник чуть не поседел в одночасье. Потому что идут рядом с Брандтом не люди, а два огромных демона, все в шерсти, и страшные, как черт. И идут все трое молча, и смотрят перед собой как завороженные. Стрелять он, ясное дело, не стал, а подождал, не дыша, пока они мимо прошли и пока их ни видно, ни слышно не стало. Хотя слышно-то их и раньше не было. И – рванул прямиком на Лизель, через двенадцать верст, не разбирая дороги.
Тут уж народ мешкать не стал. Собрали, опять же, всех в ружье и поехали в Зееслау. Брандта они там не застали, видно, предупредили его лесные бесы об опасности. Но дом спалили и окропили после пепелище святой водой.
Впрочем, тамошние места многим лизельским немцам пришлись по нраву – да и мельница там уж больно удобно стояла. Не прошло и десяти лет, а на месте прежнего хутора выросла целая небольшая деревушка с прежним названием, Зееслау. И мельницу отстроили заново. Но только слава про те места все равно шла дурная. Брандта ведь никто так мертвым и не видел. А вот живым видели. И неоднократно. Если только не был это Брандтов призрак. Или не мерещился людям со страху. Едут, бывало, люди из гостей на тарантасе, песни поют. Проезжают мимо леса – глядь, стоит на опушке Брандт в своем красном жилете и рукой им грозит. Они за ружья – а его уже и след простыл. Приезжают домой, а дома-то и нет, сгорел дом. Или еще: идут по лесу охотники на крупного зверя. Расходятся по номерам. И вдруг смотрят, идет между ними Брандт и пальцем молча в каждого из них тычет. Ну, они, естественно, открывают по нему пальбу. И сколько раз такое ни случалось, обязательно попадут в кого-нибудь в своего, да так, что либо насмерть, либо человек калекой потом всю жизнь доживает.
В Зееслау после темноты вообще детей из дому не пускали на двор – пугали Брандтом. Да и взрослые старались по домам сидеть. А на самих тамошних жителей в других окрестных селах и деревнях тоже привыкли поглядывать с опаской – все они там колдуны. Всем им Большой Брандт коль не родной дядька, так двоюродный. А на любого пришлого человека смотрели с удвоенной подозрительностью, вне зависимости оттого, старый он был или молодой, худой или толстый, и на каком он говорил языке – а вдруг это Брандт прикидывается. Или кто из брандтовых детишек, которых, как рассказывали люди на Лизели и на Плётцезее весь прошлый век и всю первую половину века нынешнего, Брандт со своей болотной нечистью наплодил в лесах и топях видимо-невидимо. Поэтому тамошние немцы грибы в лесу не собирали, по ягоду не ходили, да и рыбу предпочитали не в реках и в озерах ловить, а покупать у татар да у русских.
– Забавная сказка, – проговорила Ирина. – Сами придумали?
– Сказка – и в самом деле сказка. Причем не чисто фольклорная – здесь вы тоже правы. Хоть и созданная на основе фольклорных источников. Написал ее один немец, из местных, еще в конце прошлого века – и опубликовал в Катериненштадте, там была своя маленькая типография, печатала всякие разности на немецком языке. А что написал он ее не на пустом месте – на то есть материалы фольклорных экспедиций, как прошлого века, так и начала нынешнего. В заволжском немецком фольклоре Брандт – фигура весьма заметная. И если лесных зверообразных колдунов можно провести по статье влияния местных мордовских и тюркских сказок – если, конечно, не верить в то, что йети в тех местах действительно живут, и живут давно, – то Брандта немцы придумали сами. Или списали с чьей-то реальной биографии, в чем лично я нисколько не сомневаюсь.
– Так, хорошо, – вмешался в разговор Ларькин. – Но давайте от сказок перейдем к делу. Предположим, в достаточно густозаселенной местности есть несколько лесных и заболоченных участков. Предположим, они настолько велики, что там может существовать целая популяция некого до сих пор неизвестного науке животного. Но – вопрос первый: почему они до сих пор настолько редко попадаются людям на глаза, что сколь-нибудь достоверных сведений о встречах с ними фактически не существует? А, Сергей Вадимович? Что вы на это скажете?
– А ничего в этом удивительного, на мой взгляд, нет. В прежние времена там жили в основном немцы, а они в леса и болота не особенно и совались, да и лесов с болотами тогда было куда больше, чем теперь.
– А теперь?
– А теперь, как я уже говорил, особенно после ввода в строй Волгоградской ГЭС, когда в районе от Шумейки до Карамана, то есть фактически от северных окраин Энгельса и до самого Маркса ушло под воду огромное количество земли – причем ушло не полностью и сформировался уникальный массив проток, островов, внутренних озер, лесов и заболоченных заросших камышом луговин – места для жительства у йети стало едва ли не больше, чем прежде. А если учесть, что в эти протоки даже рыбаки стараются не заходить, то йети есть, где жить. Там такая путаница, что заберешься, не выберешься, и каждый год, после каждого половодья, рельеф местности меняется, и иногда довольно существенно. Была протока, нет протоки. Не было на озере мели, появилась мель, а еще через пару лет – целый остров. К тому же йети, судя по косвенным источникам вроде сказок, да и по свидетельствам очевидцев, – животные сумеречные или даже ночные. Если они, конечно, вообще животные. А уличного освещения в тамошних местах, сами понимаете, нет.
– То есть, – Ирина приподняла брови. – Что значит – «если они вообще животные».
– Если верить сказочным сюжетам, вроде вот этого, о Брандте, самки йети могут рожать детей от человека. И наоборот.
– То есть вы хотите сказать – вы хотите сказать, что йети – это какая-то заблудившаяся ветвь человеческой эволюции?
– Именно это он и хочет сказать, – невозмутимо вмешался в разговор Ларькин. – Причем не только он один. Это одна из самых распространенных теорий о снежных людях и их происхождении. Скажем, случайно выжившие в труднодоступных местах неандертальцы, которые проиграли в свое время войну с кроманьонцами за контроль над основной территорией планеты – и перешли к партизанским действиям. Англо-саксонские и вообще западные исследователи очень любят ссылаться в этой связи на свой фольклор – на сказки об ограх, великанах-людоедах, которые в западноевропейском сказочном бестиарии занимают одно из самых почетных мест. Неандертальцы, кстати, каннибализмом отнюдь не пренебрегали. Хотя – есть одно существенное возражение. Неандертальцы знали огонь. А сюжетов о йети, которые, греясь у костерка, поют под гитару блатные песни, я что-то не припомню.
– Но это не обязательно должны быть именно неандертальцы, – сказал Кашин. – Это может быть какая-то более ранняя ветвь, которая проиграла как раз не кроманьонцам, а неандертальцам, и ко времени кроманьонско-неандертальских баталий уже занимала ту нишу, которую занимает теперь.
– Ну, хорошо, – кивнул Ларькин, – от кого бы они там ни произошли, это не решает еще одной проблемы – а чем, интересно, эта ваша популяция питается? Существа они, судя по всему, достаточно крупные и, соответственно, пищи им тоже нужно довольно много.
– Здесь вообще все проще простого. И, кстати, это еще один аргумент в пользу того, что это не неандертальцы. Неандертальцы были охотниками. А йети, вероятнее всего, вегетарианцы. Хотя и не берусь утверждать, что чистые вегетарианцы. Есть данные, что в их меню входит рыба. Большой Брандт научился ловить рыбу руками именно у них – у кого еще? Но если основу их рациона составляет растительная пища – то не вижу никаких проблем. Корневища осоки, рогоза, тростника – прекрасная питательная пища, богатая белком, углеводами и растительными маслами настолько, что и люди ей тоже, смею вас уверить, иногда не брезгуют. А уж этого добра – я имею в виду осоку, рогоз и тростник – там пруд пруди. Рыбу во внутренних водах, в отличие от коренной Волги и от прилежащих к деревням проток, вообще никто не ловит. То есть люди, конечно, там ее не ловят. Так что и рыбы там должно быть навалом. И к тому же все ближнее Заволжье – это овощеводство на орошаемых землях, рассчитанное не только на потребности Саратова, но и на вывоз в более северные районы. В том числе, кстати, и в Москву. Хозяйство там ведется вполне советскими методами – то есть сажают столько, что обрабатывать все равно не успевают, и едва ли не треть огуречных и помидорных плантаций попросту зарастает дурнишником, лебедой, щерицей и пасленом. Которые – все без исключения – также вполне съедобны. Представляете, какое раздолье для сумеречных жителей, желающих разнообразить свое обычное меню? Людей по ночам в полях практически не бывает. Так что – гуляй, не хочу.
– Ладно, летом они отъедаются. А зимой? Что они едят зимой? Ни овощей, ни свежей зелени, рыба вся подо льдом – что вы на это скажете?
– Ну, во-первых, корневища рогоза и зимой никуда не деваются. Более того, именно к зиме они набирают наибольшее количество питательных веществ. А во-вторых, согласно мордовским, например, поверьям, они зимой впадают в спячку – да я же вам уже об этом говорил! И еще…
У Кашина они просидели до двух часов ночи. А потом поехали обратно в гостиницу – собираться. Потому что на утро запланировали свой первый выезд. В Сеславино. Кашин их убедил. Да и шофер тот своего снежного человека сбил именно на тамошнем повороте.







