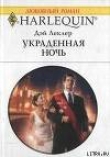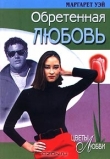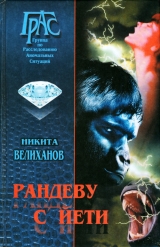
Текст книги "Рандеву с йети"
Автор книги: Никита Велиханов
Жанры:
Современная проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 20 страниц)
Глава 8
2 июля 1999 года. Село Сеславино Саратовской области.
История эта началась, как выяснилось, три года тому назад, когда Коля Мордовченко впервые побывал в Сеславине – нужно было пообщаться кое с кем из родителей его, Колиных учеников в среде, так сказать, естественного обитания. В Сеславине народу жило раз два и обчелся, своей школы, естественно, не было, и дети каждое утро ездили на совхозном «уазике» в Подлесненскую десятилетку.
Каким образом познакомились Коля Мордовченко, учитель этой самой подлесненской средней школы, и Ольга Семенова, мать мальчика-дауна, не подлежащего обучению не только в десятилетке, но и вообще ни в одном образовательном учреждении, – этого Виталий выяснять не стал. Это было не слишком важно. Важно было другое: сам ход дальнейшего развития событий. Коля был мужик застоявшийся, и по каким-то его, Колиным соображениям сеславинская вдова как женщина устраивала его куда больше многочисленных и доступных подлесненских вариантов. Скажем, относительно молодых коллег по средней школе, которые Коле делали неоднократные авансы.
Коля повадился ездить в Сеславино чуть не каждый день. Ольга с самого начала дала ему от ворот поворот, по совершенно непонятной для Коли причине. Мужик он видный, не то чтобы богатый, но зато малопьющий, что по деревенским меркам – уже сокровище. Ольга жила одна, ухажеров никаких не имела – на этот счет Коля заранее навел справки. В деревне каждая собака все про всех знает. Или делает вид, что знает. Но Колю результаты опросов общественного мнения убедили в том, что здесь особенных проблем не будет. Жениться ему на Ольге Нестеровне или не жениться, об этом он пока не думал. Время покажет. Но ему нужна была, во-первых, постоянная женщина, а, во-вторых, хозяйка. Сколько можно самому себе готовить, и за одеждой следить, и в доме убирать. У человека должна быть женщина – эту истину Коля усвоил с юности, и хотя его прошлые эксперименты в этом плане особой длительностью не отличались (он был человек тяжелый, легко обидчивый и чуть что норовил хлопнуть дверью), но охота к экспериментам от этого не прошла. Ну, а в том, что за него, за такого положительного, любая одинокая женщина хоть в Подлесном, хоть в Сеславине, хоть в любом другом окрестном центре цивилизации уцепится с радостью, он нимало не сомневался. И был поражен до глубины души, когда Ольга Нестеровна при первой же с его стороны попытке объясниться отказала ему наотрез, и более того, сказала, чтобы он и думать о ней забыл и впредь видов никаких не имел.
Для Коли это был полный нонсенс. Это не укладывалось ни в одну из его моделей мира – ни в математическую, построенную на сугубо рациональной логике в сочетании с махровым прагматизмом, ни в поэтическую, построенную сплошь на романтических моделях самого что ни на есть лотреамоновского образца (обе модели в Колиной вселенной сосуществовали мирно, взаимно не соприкасаясь и друг другу не мешая; а потому и декадансный театральный жест, и запредельное жлобство во всем, что касалось материй экономических, были ему свойственны в равной степени). Коля не понял. А не поняв, стал требовать сатисфакции.
Он ездил в Сеславино чуть не каждый день. Он подкарауливал Ольгу Нестеровну в обеденный перерыв, или вечером, на дороге к дому, или совсем уже поздно, когда она выходила за водой. Он рисовал ей перспективы безбедной жизни за его широкой спиной. И готов был ради нее пойти на что угодно – вплоть до конфронтации с местными молодыми людьми.
Местные молодые люди в количестве трех штук Ольгу Нестеровну, конечно, как объект ухаживаний навряд ли воспринимали всерьез. Но был извечный как Волга деревенский императив – всякий чужак, имеющий наглость строить куры «нашим девкам», да будет жестоко наказан. По разряду «наших девок» Ольга Нестеровна тоже никак не проходила – хотя бы в силу возраста. Но один из молодых людей был племянник ее бывшего мужа, и к извечным как Волга законам по охране деревенского генофонда прибавились понятия о семейной чести, довольно смутные, но вполне способные спровоцировать на мордобой. В особенности если учесть, что Колю и без того в округе недолюбливали.
Трое сеславинских народных мстителей подкараулили Колю как-то раз, когда он поздно вечером возвращался домой в Подлесное после очередного долгого и нудного – а по-другому Коля не умел – разговора с Ольгой. То есть на грунтовой дороге, по которой можно было добраться до проходившей в пяти километрах трассы. И побили. Побили, по деревенским меркам, не сильно – так, поучили. Но следы побоев у Коли на лице остались, и довольно явственные, и на следующий же день Коля предъявил их, эти самые следы, в Марксовском райотделе милиции, и по факту хулиганских действий, выразившихся в нанесении легких телесных повреждений, а также материального ущерба на сумму в полторы тысячи рублей (Коля включил сюда разбитые очки, безбожно завысив их стоимость, и порванный учительский костюм в мелкую клетку, довольно старенький, но вполне приличный) был составлен протокол. До суда дело не дошло, поскольку молодые люди, а также их родители очень постарались уладить дело миром. Коля покочевряжился (можете себе представить), получил отступного на всю сумму иска, не считая мелких, но довольно многочисленных знаков внимания, и заявление забрал. И с тех пор обрел в Сеславине полную свободу рук, поскольку запуганные перспективой суда родители молодых людей сами были с ним теперь отменно вежливы и сыновей понуждали к тому же.
В Сеславине уже смирились было с мыслью, что Коля теперь – почти что свой. Плохонькое, как говорится, но свое. И очень удивились, когда буквально через несколько дней, вместо того, чтобы воспользоваться, наконец, плодами победы над закосневшими в предрассудках аборигенами и с присущим ему упорством пропилить-таки упрямую вдову, Коля вовсе перестал наведываться в Сеславино и с тех пор носа туда не казал. Для всех местных жителей это было и оставалось до сих пор неразрешимой загадкой – чем, интересно, Ольга Семенова могла отпугнуть зануду Мордовченко, которому, по общему сложившемуся мнению, легче уступить, чем объяснить, почему тебе не хочется этого делать.
А вышло все так. Коля уже торжествовал победу. Приехав в очередной раз в Сеславино на попутном молоковозе – сеславинские, смирившись с его присутствием, стали его даже подвозить, – он заявился под вечер к Ольге Нестеровне, одетый в опять же не новый, но вполне приличный по деревенским меркам костюм, с букетиком нарванных по дороге полевых цветов и даже с шоколадкой, что для Коли было мотовством просто запредельным.
Ольга Нестеровна пустила его на сей раз в дом. Коля торжествовал. Курочка – она, как известно, по зернышку клюет. Вчера на порог, сегодня в дом, не завтра, так послезавтра и до спальни дело дойдет. И тем отраднее была эта маленькая победа, что не далее как вчера он рискнул пойти ва-банк и, чувствуя за собой право победителя, предложить, как он выразился, «новый формат» их будущей совместной жизни. Коля переедет в Сеславино. Поможет подправить дом. Казенную квартиру в Подлесном вернет администрации и станет получать положенные ему квартирные. Сумма, конечно, небольшая, но ведь не помешает, верно? Единственное, чем придется поступиться Ольге Нестеровне – это сыном. Потому что Коля просто физически не может себя представить под одной крышей с этим придурком. Он, кажется, именно так и сказал – придурком. А что, разве это не так? Он, конечно, мог принять в расчет материнские чувства и тому подобную патетику. Но разве сама Ольга Нестеровна не страдала от того, что ребенок у нее, ну, скажем так, не совсем нормальный. А для не совсем нормальных детей существуют специализированные заведения. Где их и учат, и лечат – тех, кто поддаются лечению и обучению. И мальчику самому там будет лучше. Там будет профессиональная помощь. А Ольга Нестеровна снимет с себя тяжкий груз. И к тому же – она ведь еще молодая женщина. У нее могут быть другие дети, нормальные. К чему ставить на собственной жизни крест, если один раз не повезло? Правильно, совершенно это ни к чему. И он, Коля, может ей в строительстве этой новой жизни, светлой и прекрасной, помочь.
Ольга Колю выслушала. От первого до последнего слова. А потом очень его попросила больше к ней не приходить. Потому что он такой ей совсем не нужен. Она сама знает, как устроить собственную жизнь. Ей, собственно, та жизнь, которой она сейчас живет, очень даже нравится. И ни в Колиных советах, ни в Колином участии, ни даже в Колином присутствии она совершенно не нуждается. Это если перевести на интеллигентный русский язык общий смысл того, что сказала ему Ольга. А вот на следующий день она пригласила зайти в дом и поставила чай.
За чаем она, конечно, повторила вчерашнюю просьбу: оставить их с Андреем в покое. И больше в Сеславине не появляться. И намекнула на некие неясного характера опасности, которые подстерегают Колю в том случае, если он к этому ее совету не прислушается – то есть, собственно, даже не намекнула, а так прямо и сказала, что опасность есть, и опасность смертельная. Какого рода эта опасность, она, правда, разъяснять не стала. Но очень старалась, чтобы Коля ей поверил. Только что за руки не хватала. Из чего Коля сделал вывод, что в душе у нее идет напряженная борьба между привычкой – к одинокой размеренной жизни, к сыну-идиоту, к не совсем приятным взглядам односельчан и к постоянной самообороне – и между тягой к новому, то есть к нему, к Коле. И эта борьба выливается в такие вот фантазии. Коля давно предполагал, что и антипатии местного населения к нему, к Коле, тоже не на пустом месте возникли. Что и это тоже для гражданки Семеновой был доступный ей способ самообороны от новой жизни. И что побили Колю тоже если не с ее ведома, то по ее наводке. Но Коля настолько увлекся, что готов был простить ей даже это – тем более что сам этот эпизод послужил в конечном счете его же, Колиному, возвышению.
Так что когда допили чай и Ольга выпроводила Колю восвояси, еще раз настоятельно попросив его прислушаться к ее словам и не подвергать себя неведомой опасности, Коля кивнул, пожелал ей спокойной ночи и пошел в сторону трассы во вполне даже приподнятом настроении. Дело сдвинулось с мертвой точки, и, если так пойдет и дальше, к осени можно будет переселяться в Сеславино. Щенка этого полоумного отправим в интернат – там ему самое место. Ольга, конечно, первое время потоскует, да и ездить к нему туда станет чуть не каждую неделю. Но он постепенно убедит ее, что каждый ее визит только расстраивает ребенка и не самым лучшим образом сказывается на его психике. А потом сделает ей другого ребенка, своего, нормального. И ей будет чем заняться. И про дауна своего она постепенно забудет.
На дороге было темно. Луна маячила где-то над самым горизонтом, но ее заслоняли облака, и Коля шел практически в полной мгле. Впрочем, ему не впервой. Дорогу он знал как свои пять пальцев – до последней выбоины. Так что бояться было нечего. Бояться нечего, еще раз подумал про себя Коля и вдруг почувствовал, как по спине у него пробежал неприятный холодок. С чего бы это, удивился Коля. Темноты он не боялся никогда, даже в самом далеком детстве. Потому что не верил в то, что в темноте мир другой, чем при белом свете. А в бабу-ягу он перестал верить года в три. Папа у него тоже был математик и сторонник рациональной картины мира. И приложил максимум усилий, чтобы объяснить маленькому Коле, что все чудеса – и страшные, и не очень – люди придумали для того, чтоб оправдать собственные страхи и собственную глупость. А бояться в мире нечего – если не считать самих людей, конечно.
Но теперь-то холодок был вполне ощутим. Такой же, как тогда, когда Коле навстречу вышли из придорожных посадок трое местных молодых людей и Коля понял, что его сейчас будут бить. Боли он боялся всегда, и тогда ему, конечно же, было страшно. Но сейчас он никого не видел и не слышал. Да и вряд ли местные еще раз решатся на что-либо подобное. Он их проучил. Как они того и заслуживали.
– Эй, придурки, – на всякий случай крикнул Коля, обращаясь к темным деревьям справа от дороги. – Еще раз увижу, что вы за мной ходите, всех к чертовой матери пересажаю.
В ответ никаких внятных звуков Коля не услышал. Ни треска веток под удаляющимися шагами, ничего. Да, скорее всего ничего и не было. Так, атавизм. Наследие дикой природы. Мы все произошли от обезьян, и наше тело, вне зависимости от волевого и рационального контроля, унаследовало обезьяньи страхи. Все приматы боятся змей и пауков. Почему змей – еще можно объяснить. Почему пауков – совершенно непонятно. Из известных Коле пауков могли ощутимо укусить только тарантул, да еще крупный крестовик. Но Коля неоднократно ловил себя на том, что брать в руки паука, любого паука, ему неприятно до крайности. На уровне физического отвращения. В то время как жуки и бабочки в нем никаких подобных чувств не вызывают. А тем более раки. Эти вызывают совершенно иного рода чувства – гастрономические. Но пауки – брр. Ничего не поделаешь. Генетическая память. То же и с темнотой. Знаю же, что ничего здесь этакого нет. А тело – боится.
Позади хрустнула ветка. Коля обернулся. И вдруг на фоне полной, непроглядной ночной темноты увидел самого себя. Мертвым. Он был трезв, он не спал, и в то же самое время как будто грезил наяву или видел сон. Тьма перед его глазами рассеялась, и он увидел берег реки, и камыши, и себя, одетого в джинсы и майку, с синим лицом утопленника, с неподвижными руками и ногами, прибитого к берегу течением.
Так, этого только не хватало, подумал Коля. Рехнуться, не дожив до сорока. И, главное, с чего? Никаких предпосылок, никаких симптомов начинающегося психического заболевания.
Тьма опять сгустилась. Картинка пропала. Коля встряхнулся, как собака, пытаясь окончательно избавиться от наваждения. Привидится же такое. Нет, к психиатру все-таки надо будет съездить. Причем не в Маркс, а в Саратов. К приличному специалисту. Показаться, все объяснить и расспросить, как с этим бороться. Любую болезнь надо пресекать в корне – это Коля усвоил с самого детства. Если заныл зуб, нужно срочно бежать к зубному, а не ждать, пока разнесет всю челюсть. Так и здесь – есть симптом, нужно искать, откуда он взялся, и давить в корне. Чтобы не было потом больших проблем.
По спине опять пробежал холодок. Так, снова начинается, подумал Коля. Надо взять себя в руки. Нельзя поддаваться панике. Никак нельзя. Запаникуешь – свихнешься окончательно. Коля обернулся. Никого. И ничего. Он пошел быстрее. До трассы оставалось максимум километра два. Виден был даже отсвет от фар проехавшего со стороны Энгельса автомобиля. Самой машины, правда, видно не было – мешали посадки. И слышно тоже не было. Почти. Слишком громко звенели в траве кузнечики. Не перекричишь.
Ощущение холодка на спине не проходило. Коля сорвался сперва на быстрый шаг, а потом и вовсе побежал, уверяя себя, что это вовсе не паника. Что просто он хочет побыстрее добраться до трассы, где его там подхватит какой-нибудь грузовик и довезет до поворота на Подлесное. Всего-то двенадцать километров. И от поворота до дома – еще полтора километра. Но там светло. Там скотный двор, освещенный, и от него светло на дороге. Там ничего не страшно.
И вдруг у Коли как будто ноги приросли к земле. Он понял, что нужно остановиться и повернуться направо. Почему-то очень нужно. Остановиться и повернуться направо, к деревьям. Коля так и сделал. Остановился и стал медленно-медленно поворачиваться на месте. Поначалу он ничего не заметил. Ничего особенного. Деревья. Бурьян у дороги, подсвеченный выглянувшей – слава Богу – луной. А когда заметил, ледяная волна паники только что не швырнула его плашмя на землю. По спине, вдоль позвоночника, как будто прошелся мощный разряд электрического тока. И ноги сразу стали ватными и перестали слушаться. Потому что в бурьяне, перед деревьями, метрах всего-то навсего в пяти-шести от Коли кто-то стоял. И этот кто-то был не человек, хотя стоял он на двух ногах. Но он был больше человека. Выше – метра, наверное, два с лишним. И мощнее. Могучие плечи. Голова без шеи, как будто вросшая в глыбистый торс. Все его огромное тело сплошь было покрыто довольно густой шерстью – цвета шерсти Коля, естественно, не разобрал, но что шерсть была, это он помнил точно. И глаза. Два небольших, отсвечивающих красным глаза, которые в упор глядели на Колю, и даже не на самого Колю, а как будто внутрь его, туда, где билась загнанная в угол Колина душа.
И Коля откуда-то знал, что это ему не грезится. До этого – грезилось. А теперь – ни-ни. Что этот зверочеловек – настоящий. И что это и есть та самая страшная опасность, о которой предупреждала его Ольга.
Едва он помянул про себя имя Ольги, и тут же тьма опять рассеялась, и она появилась перед ним как живая. И рядом с ней Андрей, ее сын-даун. Они стояли в обнимку и постепенно удалялись, удалялись, как будто возносились в небо. Только удалялись они не вверх, а в сторону, назад, к Сеславину. Коля стоял и смотрел. А что ему еще оставалось делать. Бежать он не собирался – все равно догонит. А он с детства помнил, что опасного зверя провоцировать нельзя. Стой спокойно. И он, глядишь, тебя не тронет. А вот если избежишь – значит, ты для него уже дичь. И тут уж пеняй на себя.
Ольга с Андреем виднелись теперь едва-едва, как будто стояли от Коли в нескольких километрах. Потом картинка начала расплываться, и Коля вдруг подумал – а откуда, интересно, я знаю, что эта горилла мне тоже не привиделась. Откуда во мне такая уверенность? Если это болезнь, если я схожу с ума, то вот такие уверенности как раз самый верный путь свихнуться окончательно. До тех пор, пока я отличаю явь от бреда – надежда есть. Как только откровенная бредятина обретет для меня статус яви – пиши пропало. Себя я видел мертвым – явный бред. Ольга с мальчиком, парящие среди ночи над землей в четырех километрах от села, – такой же точно бред. А что же эта обезьяна? В тысячах километров от ближайшего обезьянника, не говоря уже о местах естественного обитания этаких вот образин. Тоже бред. Надо просто заставить себя поверить, что это бред. А для этого лучше всего сойти с дороги, сделать десяток шагов вперед и пробить рукой пустоту на том месте, где мне мерещится сейчас эта нежить.
Так он и сделал. То есть попробовал сделать именно так. Но едва только он сделал первый шаг, как предполагаемый призрак упредил его намерения и сам первый двинулся навстречу, и Коля, оторопелый, все более и более поражаясь собственной наглости, стоял и ждал, когда ОНО подойдет поближе. ОНО не торопилось, ОНО двигалось плавно, с грациозностью просто поразительной в таком крупном теле – как будто бы не шло, а парило над поверхностью земли, совсем не касаясь ее ногами. И ни звука, ни шороха не было слышно. Потом огромное это косматое существо с горящими, отблескивающими в лунном свете призрачно-красным мерцанием глазами как-то вдруг оказалось совсем рядом, нависло над Колей и подняло – как будто для удара – покрытую тускло блестящей шерстью руку. Пальцев на ней было пять, как и положено. Только расположены они были не совсем по-человечески – большой палец был слишком маленький и слишком далеко отстоял ото всех прочих. И еще между расставленными пальцами Коля увидел перепонки. Как на лягушачьих лапках.
Рука висела на фоне темного неба, а Коля стоял и ждал удара. Но удара не последовало. Рука вдруг исчезла, как будто сама собой растворилась в бархатно-черном ночном воздухе. А вместе с ней растворилось и само существо. Но у Коли осталось ощущение, что оно до него все-таки дотронулось. И это ощущение – чужого, не человеческого и не звериного прикосновения – осталось у Коли по сей день. А потому с той самой ночи Коля не появлялся в Сеславине. И не ходил ни на речку, ни в лес. И старался не выходить из дому после наступления темноты.
* * *
2–7 июля 1999 года. Село Сеславино Саратовской области.
Итак, один живой свидетель у них уже был. Вернее, свидетелей-то, вероятно, было пруд пруди: кроме Коли был еще тот водитель, который сбил на Сеславинском повороте какого-то не слишком расторопного йети (уж не того ли самого, который так старательно отваживал Колю от этого Богом забытого сельца?), были двое отдыхающих из-под Энгельса, поймавших маленького йети и попытавшихся неудачно его продать, и была, в конце концов, сама вдова, и был мальчик-даун, которые – и здесь уже сомневаться не приходилось – жили, так сказать, в самом эпицентре аномалии. И уж Ольга-то Нестеровна наверняка что-то такое знала об этой самой аномальной фауне, о чем все прочие даже и не догадывались. Иначе с какой бы стати она стала предупреждать Колю о грозящей ему опасности? И вовсе, надо сказать, не голословно. Следовательно, копать имело смысл именно с этой стороны.
«Колоть» Ольгу Нестеровну было поручено Ирине. Однако, как она ни старалась, получалось только хуже. Задушевные разговоры, особенно в первые два дня – это пожалуйста. Ольга, похоже, и впрямь была не избалована простым человеческим общением. Подружек у нее не было – деревенские по какой-то неведомой пока причине относились к ней более чем сдержанно. Без враждебности. По крайней мере без явной враждебности. Но так чтобы посудачить с кем, чайку вдвоем-втроем попить – ничего подобного. А с сыном, конечно, общение у нее выходило более чем странное, по крайней мере на сторонний взгляд. Андрей все понимал: по крайней мере, простейшие бытовые надобности его пониманию были вполне доступны. Он говорил – немножко своеобразно, каким-то деревянным языком, точно так же, как двигался. И словарный запас у него тоже был очень маленький. Но Ольга Нестеровна общалась с ним постоянно – а с кем еще ей, собственно, было поговорить. Они обсуждали какие-то бесконечные хозяйственные мелочи, что сделали за день, что нужно сделать завтра, и так далее. Понятно, что обычное деревенское общение на восемьдесят процентов именно из таких бытовых мелочей и складывается. Идиотизм деревенской жизни, если вспомнить Карла Маркса. Но так же понятно, что есть и другие двадцать процентов. И что они – едва ли не главные.
Ирина решила эту нишу заполнить и посвятила первые два вечера – после совместных с Виталием экспедиций по островам и протокам, с целью поиска следов гипотетических снежных людей и с целью установки в наиболее перспективных местах различной записывающей аппаратуры – наведению мостиков. Общие женские темы. Нелегкая бабья доля, что в городе, что в деревне. Пришлось поделиться кое-чем из собственного прошлого, пришлось кое-что и додумать. Лучше всего воспринималось, как ни странно, не про мужиков и не про тряпки-мебеля, а про заграницу. Об Англии и об Африке Ольга могла слушать часами. Кстати, не только Ольга. Андрей пристраивался к матери под бочок и тоже слушал, и тоже, судя по всему, что-то свое понимал. При этом выражение у них на лицах – у матери и у сына – становилось одинаково отрешенным и мечтательным, при всей понятной разнице между приятным, хоть и несколько скованным лицом все еще молодой и не лишенной привлекательности женщины и топорной, словно по лекалу тесаной физиономией дауна.
Однако стоило только Ирине затронуть основную тему – насчет местной фауны и ее особенностей, как лицо у Ольги делалось таким же непроницаемым, как у Андрея, и она под любым предлогом меняла тему или вообще прекращала разговор. Почти такой же запретной территорией было собственное прошлое вдовы. То есть самые общие вехи: да, была замужем, а мужа звали Витей, да, родила ребенка, да, муж погиб, несчастный случай во время рыбалки; самые общие вехи секрета, конечно, не составляли, но даже и об этом она говорила крайне неохотно и старалась тут же перевести разговор обратно на Иринины обстоятельства. Из чего Ирина сделала вывод: вдова не просто что-то знает. Ее собственная биография в какой-то точке пересеклась с таинственной жизнью местных лесов и болот, причем переплелась настолько плотно, что любое стороннее вторжение может причинить ей серьезную боль.
Логично было предположить, что связано это было именно со смертью мужа. Виталий смотался как-то днем в Маркс, в архив тамошнего УВД, и поднял дело о смерти Виктора Прокопьевича Семенова, 1957 года рождения, уроженца села Генеральское, проживавшего в селе Сеславино Марксовского района и состоявшего в браке с гражданкой Семеновой Ольгой Нестеровной, 1961 года рождения. Гражданин Семенов, Виктор Прокопьевич погиб в результате несчастного случая. А проще говоря – утонул, запутавшись в собственных сетях. Каким образом Виктор Прокопьевич умудрился, выбирая и распутывая сети с носа небольшой плоскодонной лодки, а если по-местному, ершика, упасть головой вниз в воду и запутаться в полотне «рижанки», осталось до конца непроясненным. Анализ крови показал достаточно высокое содержание алкоголя. Но Виктор Прокопьевич вообще был человек пьющий, и на координации движений у него, судя по свидетельствам очевидцев, такая доза – порядка трехсот граммов водки, принятых не позже чем за два часа до смерти, – обычно не сказывалась. В сети рядом с ним оказалась довольно крупная щука, килограммов на восемь: что и неудивительно, сетка-то была «рижанка», то есть на крупную рыбу, с пятидюймовой ячеей. И это отчасти объясняло случившееся. Потянулся за крупной рыбой. А рыба была не только тяжелая, но и живая, а следовательно, сильная. Рыба забилась. Он пытался ее удержать. Потерял равновесие. А поскольку тянулся он за ней руками вперед и головой вниз, то именно в такой позе ушел под воду. И запутался в полотне сети так, что даже и всплыть не смог.
Как бы то ни было, версию насильственной смерти следствие полностью исключило, поскольку никаких следов насилия, если не считать многочисленных повреждений, полученных в результате попыток выпутаться из сети, на теле покойного обнаружено не было. А эти повреждения, в свою очередь, говорили о том, что в сетке он запутался в здравом уме и трезвой памяти и до самого последнего вздоха пытался бороться за жизнь. И единственная возможная версия насильственной смерти отпала сама собой. У местных браконьеров подвесить на сеть – обычный способ борьбы с нахалом, который ворует из чужих сетей рыбу. Но здесь даже и сеть была своя, что признали все местные. Все, как один, такие же браконьеры, как и покойный Виктор Прокопьевич Семенов.
Во всяком случае, йети здесь явно были ни при чем.
На следующий день Виталию в голову пришел радикальный вариант. А что, если попробовать не через Ольгу, а через Андрея? Даун врать не умеет. Пока он просто отмалчивается. Но – если войти к нему в доверие…
И началась совсем другая работа. Пока Ольга бывала на ферме, а Ирина загорала с аппаратурой, Ларькин «отрабатывал» мальчика. Возился с ним. Строил какие-то деревянные крепостицы с домиками и подъемными мостами. Ходил с ним на рыбалку и восхищался – причем на сей раз совершенно искренне – тем, как ловко у этого обычно скованного в движениях ребенка получается ловить рыбу всеми мыслимыми и немыслимыми способами. За полтора часа рыбалки, пока Виталий со своим почти профессиональным рыбацким снаряжением успевал надергать десяток красноперок и подцепить на спиннинг щуренка и пару окуней, Андрей умудрялся наловить до полутора ведер. И не какой-нибудь шелупони. Лещ, крупная густера, судак, небольшие сазанчики, весьма приличных размеров лини, и даже не частые на Волге в районе Саратова, после того как построили Волгоградскую плотину, стерлядки. Он, конечно, знал места. Но из мест своих тайны не делал и ставил Виталия там, где с его точки зрения рыба должна была идти валом. Виталий стоял полчаса и вылавливал с полдюжины сорожек. После него становился Андрей, и сорожка сменялась линями, а лини – сазанчиками. А раков он и вовсе ловил – загляденье. И никаких тебе хитростей. Вот мель вдоль берега протоки, с ершистой, на колючую проволоку похожей травой. Вот маска и пара рук. Виталий идет по берегу и собирает урожай. А Андрей знай себе ныряет. И что ни нырок два-три разлапистых, ошалело поводящих клешнями и срывающихся время от времени в бешеную пляску на хвосте рака. Полчаса – ведро.
Андрей, не избалованный вниманием посторонних людей, очень быстро привык к Виталию и стал воспринимать его как своего. Причем не просто как своего. С точки зрения Ирины мальчику в жизни больше всего должно было недоставать двух вещей: общения с отцом и дружеского общения со сверстниками. Отца, понятное дело, просто не существовало в природе. Местные же мальчишки, жестокие, как все дети, обращались с Андреем именно как с деревенским дурачком. Он, как ни странно, понимал свою ущербность и свою непринятость в «нормальный» круг обычных мальчишеских игр – и сторонился их сам. А потому Виталий был со всех точек зрения фигурой для налаживания отношений с мальчиком просто идеальной. И за отца, и за друга. Была во всем этом какая-то не слишком приятная отдушка, ведь по большому счету они просто использовали больного ребенка в своих личных целях. Но – ребенок получал от этого общения радость, Виталий тоже постепенно привязывался к нему, так что все получалось как бы само собой, и корыстные намерения лихих столичных аномальщиков вовсе не торчали шилом из мешка. Иначе, думала Ирина, Ольга давно бы пресекла все Виталиковы поползновения на дружескую близость с сыном.
Помимо пользы для дела в этом Виталиковом приятельстве с Андреем Ирина видела немало радостей самого низменного чревоугоднического характера: свежая рыба во всех видах у них теперь не переводилась. А Ирина так по ней соскучилась – разве в Москве приличной рыбы купишь? Да и некогда с ней возиться. О раках и говорить нечего. Виталий что ни день мотался в Маркс за пивом – вполне приличным и весьма дешевым местным пивом со странным названием «Баронское». Потому что было подо что это пиво пить. Слава Богу, укропа у Ольги в огороде было разве что чуть меньше чем паслена.
Время между тем шло. Жизнь в Сеславине была – лучше некуда, ни с каким отпуском не сравнить. Но дело-то покуда стояло на месте. Куча косвенных доказательств существования йети, причем именно в этом районе. Устные свидетельства. И больше ничего. Ни единой полновесной улики. И – ни единого доказательства, добытого собственными руками, если не считать, конечно, тогдашнего Ириного сна.
На шестой день Виталий решил, что время настало. Они с утра ушли на рыбалку на Кривую протоку – довольно далеко от деревни, часа полтора хода. Виталий предложил съездить туда на лодке, но Андрей объяснил, что пешком удобнее. И, главное, быстрее. На лодке пришлось бы наматывать лишние километры, огибая острова и заросшие камышом мелководья. Пешком же они доберутся до места в два раза быстрее.