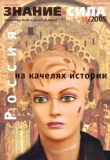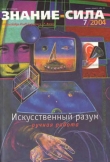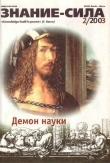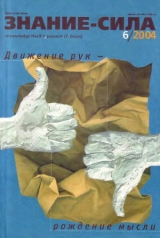
Текст книги "Знание-сила, 2004 № 06 924)"
Автор книги: Автор Неизвестен
Жанры:
Научпоп
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 12 страниц)
Предприняв все эти необходимые предосторожности, исследователи привели верхнюю пластинку в колебательное движение и увидели, что нижняя тоже стала вибрировать. По величине (амплитуде) этих вибраций им удалось вычислить силу гравитации между обеими пластинками. И она оказалась приблизительно той же, какой и должна была быть по формуле Ньютона. Иными словами, даже на таком малом расстоянии никаких признаков существования предельно свернутых пространственных измерений обнаружено не было. Это ничего не говорит о том, не обнаружатся ли они на еще более малых расстояниях, но пока что их воздействие, которое предсказывала теория струн, не обнаружилось. Не обнаружено и воздействие тех "слегка развернутых" измерений, о которых говорят новые варианты теории струн. Либо никакого такого развертывания нет вообще, либо оно проявляется тоже на более малых расстояниях.
Все эти оговорки естественным образом ведут к мысли, что необходимо проверить формулу Ньютона на еще более коротких расстояниях между гравитируюшими телами. Раньше пределом экспериментальных возможностей считалось расстояние в 0,2 миллиметра. Лонгу удалось сократить это расстояние сразу вдвое. Теперь он намерен сделать следующий скачок и прорваться к сотым долям миллиметра с помощью охлаждения своей установки до сверхнизких температур. Обнаружатся литам наконец по-мамлеевски грозные лики сил, врывающиеся в наш мир из других измерений? Или же любимый город сможет и впрямь спать спокойно, чего ему, между нами, хочется больше всего?
Увидим. Куда мы денемся.
Был ли Ньютон ньютонианцем?
«Из всех людей он был менее всего ньютонианцем» – восклицает Джеймс Глейк во введении к новой биографии Исаака Ньютона, и это утверждение при всей его парадоксальности абсолютно справедливо. Шестьдесят лет назад знаменитый экономист Джон Мейнард Кейнс изрядно разозлил почтенное научное сообщество, провозгласив, что Ньютон был не столько первым из великих ученых современности, сколько «последним из магов прошлого».
Сегодня многочисленные сторонние интересы Ньютона выглядят несколько более респектабельно. Ученые пересмотрели прежние предрассудки, показав, что "магические" на первый взгляд увлечения Ньютона – алхимия, Соломонов храм, христианские ереси – не только не были эксцентрическими эскападами великого ума, но напрямую вели к его космологическим теориям. И Глейк, один из лучших американских популяризаторов науки, предлагает нам увлекательный рассказ об этом "пересмотренном" Ньютоне – мыслителе, который был куда ближе к Аристотелю, чем к Эйнштейну.

Алхимические символы элементов и планет; гексаграмма и круг
Сам Ньютон был бы наверняка напуган новейшей «ньютонианской» физикой, особенно теми новшествами, которые ввел в нее Пьер Лаплас, этот самозваный «французский Ньютон», первым предложивший ту жесткую детерминистскую интерпретацию ньютоновой механики, которую мы сегодня отождествляем с «ньютоновской», «механистической» картиной мира. Когда Наполеон заметил, что Лаплас, кажется, начисто устранил из этой картины Господа Бога, Лаплас ответил знаменитой фразой: «Государь, я не нуждаюсь в той гипотезе». Но для самого Ньютона, для английского Ньютона, Бог был везде и во всем, даже – или, точнее сказать, особенно – в пустом пространстве.
Как объясняет Глейк, хотя Ньютон и отказывался следовать ортодоксальным религиозным толкованиям, он "верил в Бога не по принуждению, а по сути и смыслу своего понимания природы". И Глейк прекрасно показывает, что алхимические эксперименты Ньютона были одновременно попытками "очистить свою душу", увы, посредством трансмутации тех же химикалиев, которые разрушали его тело. А его поиски таинственного "начала", лежащего в основании всех действий "Госпожи Природы", были одновременно отражением его сексуальных фантазий, все более мучивших Ньютона по мере того, как он по спирали уходил в глубины меланхолического одиночества.
Глейковский Ньютон не имеет ничего общего с жестким стереотипом "ньютонианского" ученого, этого холодного атеиста, который с помощью неумолимой логики стремится свести все живое разнообразие космоса к нескольким математическим формулам. Но узнает ли Ньютон себя в этом Ньютоне? Биографы зачастую открывают не столько своих героев, сколько себя самих. В викторианской Англии историки восхваляли Ньютона за его терпеливость, преданность науке и трудолюбие, потому что они хотели, чтобы их герой походил на тогдашний идеал ученого. Именуя его "христианским философом", они игнорировали его алхимические и религиозные "заблуждения" и пытались представить его совершенно нормальным, изобретая несуществующих подруг среди девушек и любимую собаку.
Сегодня нам куда более интересны именно те "отклонения" ньютоновского характера, который прежние авторы пытались замолчать. Мы предпочитаем видеть в нем одержимого навязчивыми идеями нелюдима, который верил в нумерологию (не случайно его радуга имеет именно семь цветов), испытывал сексуальные терзания и отравлял себя алхимическими экспериментами. И это как раз тот Ньютон, которого рисует нам Глейк.
Но хотя и освобождая образ Ньютона от прежних мифов, он, тем не менее, способствует упрочению новых. Сегодня существует убеждение, будто после публикации "Принципов", этого главного обзора его механики и гравитации, Ньютон не сделал уже ничего, и Глейк лишь укрепляет этот миф, посвящая всего 20 страниц последней трети жизни Ньютона, тем 30 годам, которые он провел в Лондоне. Но 30 лет – огромный срок, и Ньютон заполнил его серьезной активностью. Он возглавлял королевский Монетный двор, президентствовал в Королевском обществе, опубликовал два пересмотренных издания "Принципов" и написал "Оптику" (1704), в которой рассмотрел куда более широкий круг вопросов, чем о том говорит название книги, и, в сущности, сформулировал экспериментальную программу для всей физики XVIII века. Не так уж мало для "пенсионера на покое".
Поскольку науке в нашем современном обществе придается первостепенное значение, Глейк подходил к Ньютону в основном как к ученому. Но еще в XIX веке Ньютона весьма почитали как историка, и до сих пор существуют круги, в которых высоко ценятся ньютоновы предсказания будущего. Легче всего понять, как современники воспринимали Ньютона, глянув на его памятник в Вестминстерском аббатстве. Там он представлен опирающимся на четыре свои книги, корешки которых свидетельствуют, что его почитали не только за "Принципы" и "Оптику", но также за исследования по теологии и истории древних цивилизаций.
Урания, богиня астрономии, возлежит на глобусе, который отражает не только работы Ньютона по кометам, но и его представление о том, как выглядело звездное небо в те времена, когда аргонавты плыли за золотым руном, времена, которые Ньютон пытался датировать с предельно возможной точностью. Маленькие херувимы на цоколе памятника заняты химическими экспериментами и ковкой монет, еще двумя видами занятий Ньютона, которые сегодня привлекают мало внимания. Сам Ньютон одет в римскую тогу: этакий джентльмен времен Просвещения, глядящий скорее в классическое прошлое, нежели в научное будущее. Звезда Урании отмечает вершину пирамиды, символизирующей вечность. Сегодня, три столетия спустя, эта звезда сверкает с прежней яркостью, но какого Ньютона она нам освещает теперь?
Все о человеке
Александр Голяндин
Этюды о ладони

Это – ладонь. Будь сотворена не природой, а инженерами – назвали бы шедевром человеческой мысли. И поделом – хитрость на ловкости помешана и отшлифована до изящества: то гирю чугунную возьмет, то чашечку из фарфора. Возьмет, повернет, раскрутит, удержит – не выронит, не разобьет. Как будто обычный рычаг. Ан нет, вся эта конструкция – кажется, она живет самостоятельной жизнью – составлена из 27 костей и 36 суставов. Ладонь! Она, короткое навершие руки, окончательно превратила человека в человека. С чего же все началось? С какой неуклюжей лапы!
Досчитаться до сути
С движений руки, например, началась арифметика. Люди научились считать, загибая пальцы – один за другим, один за другим. Десять пальцев, как десять номерков, помогли упорядочить окружающий мир. Недаром «число чисел» – единица – напоминает у большинства народов высоко поднятый палец.
* Уже в возрасте года – полутора дети начинают различать, сколько предметов перед ними – один, два или три.
* В три-четыре года ребенок, спрошенный о возрасте, называет его, показывая при этом, как правило, три или, соответственно, четыре пальца.
Само же число десять стало основой систем исчисления многих народов. С математической точки зрения, удобнее было бы пользоваться не десятичной, а, например, "двенадцатичной" системой исчисления. Это облегчило бы расчеты в торговле, ведь 12 делится без остатка на 2, 3,4 и 6, а 10 – только на 2 и 5. Но магия пальцев была заразительнее. Подверженные этой "десятеричной кори" (М. Цветаева), люди свели всю мировую цифирь к различным разрядам числа 10.
Мало того, пальцы – эти неугомонные зверьки, приросшие к человеческому костяку, – не только приучили первобытного человека считать да не просчитываться, но еще и по каждому пустяку не давали покоя его пустой голове. Пальцы все вертели, мяли, трогали, крошили, сгибали, срывали. Человеку оставалось лишь широко раскрытыми глазами смотреть на то, что творили его пальцы. Смотреть да запоминать. Да понимать. Да ума набираться.
А в чем хранится ум? В словах. Как поместить увиденное в "коробочки" слов? Как связать предмет со словом? Как показать эту связь не понимающим тебя сородичам? Вот тут и приходила на помощь десятка верных слуг.




Вначале было... пальцеслово
Под таким заголовком почти два года назад в нашем журнале (2002, № 9) появилась статья. В ней говорилось, что развитая система жестов, которыми пользовался человек, способствовала становлению у него развитой системы речи. Имитационные жесты переплетались с экспрессивными возгласами.
По мнению британского антрополога Уллина Плейса, становление подлинно человеческой речи начиналось с того, что какой-нибудь наш предок показывал на что-то или кого– то своим указательным пальцем и говорил: "Хык!", прикрепляя к увиденному ярлычок-слово. Палец служил точнейшей указкой. Движение указательного пальца: "Тот камень". Пальцы, сжатые в кулак, бьют: "Ударь!" Дополняющий жест того же пальца: "Этот орех". Неудачно? Повтор сказуемого: "Ударь!" И вот из-под расколотой скорлупы выкатывается вкусная сердцевина. Занимательная вещь эта грамматика! Прямо пальчики оближешь!
Известный американский лингвист Ноам Хомски давно предположил, что основные правила синтаксиса заложены в особых структурах головного мозга (см. "Знание – сила", 2000, № 11). Среди последних публикаций на эту тему внимание специалистов привлекла работа их немецкого коллеги Марии-Кристины Муссо, проводившей обширные томографические исследования. По их результатам, именно зона Брока – давно известный всем двигательный центр речи, расположенный в левом полушарии мозга, – хранит основы грамматики, присущие всем языкам мира. Если игнорировать эти основы основ, то, например, никогда не удастся создать искусственный язык.
Та же самая зона Брока стала объектом длительного исследования, которое проводили с начала 1990-х годов итальянские ученые Витторио Галлезе и Джакомо Риццолатти (см. "Знание – сила", 2002, N° 3). Изучая мозг обезьян с помощью электродов, ученые обнаружили в зоне Брока особые нейроны. Они получили название "зеркальных". Они активизировались всякий раз, когда человек жестикулировал в присутствии обезьян. Мозг животных повторял увиденное – так зеркало вторит всему вокруг.
Клетки, наделенные теми же функциями, нашлись и у человека. Именно благодаря зеркальным нейронам мы постоянно пребываем в контакте с другими людьми. Благодаря им сочувствуем людям и понимаем их, а также общаемся на языке слов.
"Вряд ли случайно, – говорит Джакомо Риццолатти, – зеркальные нейроны расположены именно в той части мозга, где у людей развился языковой центр".
Так, обезьяны пользуются лексиконом из взмахов и гримас, чтобы краснобайствовать и препираться. Значения невысказанных слов, которым не обучают в школах риторики, могут приоткрыть именно зеркальные нейроны. Взмах ладони – мой взмах, ее жест – мой жест, движение губ – мое движение губ. Из неназванных отражений рождается чеканно точный смысл. Когда любовь или угроза написана на лице или выражена всем телом, тогда в голове собеседника тотчас воссоздается первопричина сих поз и позерств. Безошибочность восприятия предопределена моторикой тела.
Собственность наводит на мысли
Только наши руки могут изготавливать орудия труда. Уже давно философы считают эту способность главным нашим талантом, определяя – с легкой руки Бенджамина Франклина – человека как существо, изготавливающее орудия труда, этакого кузнеца своего счастья.
Роль руки в эволюции человека особо подчеркивал еще Дарвин. Вероятно, предки человека начали ходить на своих двоих около семи миллионов лет назад. В это время климат в Африке заметно изменился. Площадь, занятая лесами, сократилась. Теперь все чаще приматам приходилось разгуливать по открытой местности. Встав на ноги, наши предки высматривали врагов и добычу. Чем чаще приподнимаешься, тем легче что-то заметишь.
Руки высвобождаются. В них можно взять добычу, камень или детеныша – одним словом, свое "имущество".
Около полутора миллионов лет назад количество перешло в качество. Именно тогда появилось классическое ручное рубило. Его форма мало в чем изменилась до наших дней – подобными рубилами пользуются племена, живущие и сейчас в каменном веке. Орудия труда улучшились, и рукам человека нашлись новые занятия: кроить звериные шкуры, соскабливать дочиста мясо с костей, долбить черепа убитых животных, добираясь до сытного мозга.
А какое качественное оружие научились делать гоминиды! Им легче было прикончить добычу. Затраченная энергия восполнялась сторицей. Человек все чаше ел не листья или фрукты, а мясо. Избыток энергии потреблял мозг. У современного человека мозг расходует до 20 процентов всей получаемой организмом энергии (см. "Знание – сила", 2003, N° И). А все начиналось с ловкости рук!
С таким оружием, что имелось теперь у человека, лучше было охотиться: не только преследовать мелких зверьков, но и выбирать крупную добычу, чтобы хватило на всех. Такого зверя не повалить одному. Поэтому гоминиды с помощью мимики и жестов договаривались о том, как охотиться сообща.
К этому времени рука древнего человека стала такой же подвижной, как рука современного человека. Сгибая пальцы и выгибая свод ладони, он мог крепко зажать в руке копье, топор или дубинку. Задуматься. Нанести меткий удар. Сразить жертву заметно крупнее себя. Простая ловкость рук – и какие неожиданные мысли!

Девять месяцев, которых словно и не было
Мысли, мысли... Какая глупость часто сквозит в них, тут же претворяясь в дела! Гайто Газданов как-то заметил: «Из всего, что делается в любой области, девять десятых никуда не годится». Вот, кстати, и глупый вопрос подоспел: «Не лучше ли было человеку иметь шесть или девять пальцев? Мы были бы, наверное, еще умнее». Действительно, а почему пять, а не шесть?
Редко, но рождаются люди с лишним пальцем на руке. Все дело в генетическом сбое. Рука человека – очень сложная конструкция. Двадцать семь костей, тридцать шесть суставов. Ее развитием управляет множество генов.
* Примерно через четыре недели после зарождения эмбриона у него намечаются крохотные боковые выросты – этакие "почки", из которых проклюнутся руки. Здесь начинается бурное деление клеток. "Почки" вытягиваются в длину. Вот уже появилось плечо, потом – предплечье и кисть руки. Образуются суставы, соединяющие их.
* К концу шестой недели беременности у будущего человечка сформировались все кости рук. Правда, "кости" – громко сказано; пока их заменяют тонкие хрящики. Пальцы же малыша еще соединены перепонками, как у лягушонка. Тысячу раз была права киплинговская Волчица, прозвав "лягушонком" найденыша, только поздновато она это сделала. Так пристало бы обращаться к еще не рожденному малышу.

* Только на 38-й день беременности включается особая программа, и клетки перепонок начинают отмирать. Лягушка превращается в человека.
* К концу восьмой недели беременности рука эмбриона приобретает знакомые нам очертания.
* Позднее развиваются мышцы, нервы и кровеносные сосуды руки. Большинство хряшиков костенеет.
Вот огуречик-человечек и получил настоящие ручки. С ними не грех появиться на свет. Даже удивительно, что эта сложнейшая часть тела, собранная из костей, мышц, жил, нервных волокон, вен и артерий, выросла из крохотной "почки", содержавшей клетки всего двух типов.
Как выяснили ученые, в этой "почке" – проторуке – выделяются три области. Сигналы, посылаемые оттуда, управляют развитием руки. Гены контролируют выделение сигнальных молекул. Благодаря им рука эмбриона соразмерно разрастается в пространстве материнского живота: не становится плоской, как лист бумаги, или тонкой, как нить.
При описании этого процесса проще всего использовать трехмерную координатную сетку. Мысленно проведем одну ее ось от плеча к кончикам пальцев, вторую – от мизинца к большому пальцу, а третья ось прошьет ладонь насквозь – от тыльной стороны к внутренней.
Благодаря особым факторам роста человеческая рука вытягивается вдоль первой оси. По меньшей мере два гена способствуют тому, что тыльная сторона ладони оказывается сверху, а внутренняя – снизу.
Ростом ладони в ширину командует ген под названием "Sonic Hedgehog". Он широко распространен в животном мире. Ладонь начинает разрастаться из особой области, имеющейся на зачатке конечности. Эта область получила название "зоны поляризованной активности". В опытах с курицами переносили клетки из этой зоны в другую часть "почки". Тогда часть крыла удваивалась. Действительно, целый ряд дефектов развития руки у эмбрионов вызван тем, что ген "Sonic Hedgehog" расположился не на том месте.
Разумеется, перечисленные гены – лишь малая часть тех генов, что управляют развитием такой сложной системы, как человеческая рука. Важную роль играют также гены группы Нох – у человека их 39. От них зависит, как и где расположатся различные сегменты тела – голова, живот, грудь и конечности. Именно при дефекте гена HoxD13 у человека появляется шесть пальцев вместо пяти. Работа подобных генов регулируется веществами, содержащимися в витамине А. Поэтому при беременности нельзя принимать пилюли, содержащие витамин А.
Швейцарский ученый Денис Дубуль и его коллеги исследовали в опытах с мышами, какие метаморфозы могут произойти при отключении того или иного из 13 генов группы HoxD. Ученые словно бы спускались по ступеням эволюции, возвращались в то недалекое (по меркам природы) прошлое – на 350 миллионов лет назад, – когда животные выбрались на сушу и сменили плавники с хрящевыми или костными лучами на лапы о пяти пальцах. Теперь стараниями генетиков рождались мышата, у которых вместо пальцев на лапах было подобие плавничков.
Прошлое нс уходит от нас. Мы носим в себе всю историю природы. Случайный дефект гена, и мы проваливаемся в прошлое, падаем на давно пройденную ступень эволюции. Что– то первобытно дикое возвращается в нас, когда слетает хрупкая генетическая скрепа.

Когда кулак правит миром
Сто лет назад ладонь, сжатая в кулак, была важнейшим символом современности. Она предвещала перемены, грозила старому, взывала к новому. Сжатый кулак звал рабочих на забастовку, митинг, баррикаду. Потрясая кулаком, требовали улучшения условий труда и отмены штрафов.
Уже в пору европейских революций 1848 года кулак стал символизировать грядущую победу пролетариата, его возмущение и ярость против старого мира. В этой символике не было ничего надуманного. Ее оправдывала сама биология человека. "Мало кто из людей в порыве ярости, – писал в 1872 году Чарлз Дарвин, – может устоять перед инстинктивным желанием сжать руку в кулак, словно готовясь ударить обидчика".
Так сквозь законные скрепы общества стала просвечивать первобытная дикость.
Дарвин в общих чертах описал механизм, срабатывавший в человеке в момент приступа ярости. У него учащается сердцебиение, "мышцы напиваются силой, а воля наполняется энергией". Американский исследователь Роберт Левенсон в 1980 – 1990-х годах экспериментально подтвердил эту гипотезу Дарвина. Любые эмоции приводят к изменению физического состояния человека. Так, ярость вызывает приток крови к рукам. Ладони напрягаются и невольно сжимаются в кулаки – самое древнее и примитивное оружие человека.
Мир животных дает немало аналогов этому поведению человека. Так, горилла, угрожая врагу, выпрямляется и, набрав полную грудь воздуха, кулаками барабанит себя по груди. Этот глухой звук слышен на многие сотни метров вокруг. Отбарабанив свое, горилла отходит на несколько шагов в сторону, встает на четыре лапы, а теперь стремительно бежит на врага, хотя сражаться с ним не очень-то стремится. Вот и у нас, людей, кулак постепенно стал чисто символическим жестом. За пределами ринга все реже и реже споры решают кулаком.
Жесты вообще меняются во времени и пространстве – тем более, что они, похоже, никак не связаны с биологией человека.
Эмблема: пальцы складываются в иероглиф
Жестикуляция – одна из главных функций человеческой руки. Во время разговора – а еще красноречивее в минуты молчания – наши ладони постоянно меняют свое положение, пальцы то разбегаются, то собираются вместе. Любое их положение ваш внимательный собеседник может по-своему истолковать. Всякое движение тела – не только руки, – совершаемое без видимой причины, мы пытаемся интерпретировать как некий знак. При этом часто попадаем впросак, ведь жесты – как, впрочем, и слова – желательно толковать в контексте. Многие жесты имеют разный смысл в различных культурах.
Вот уже несколько лет в Политехническом университете Берлина составляется "Лексикон повседневных жестов". В нем будут собраны и истолкованы многие сотни жестов, употребляемых в странах Центральной Европы. Авторы "Лексикона" – или "Жестикона", как они сами его зовут, – Массимо Серенари и Роланд Поснер обращались в поисках смысла видимого к старинным мозаикам и фрескам, к рисункам на греческих вазах и текстам в средневековых рукописях, к мнениям египтологов и ассирологов...
Большинство жестов так или иначе восходит к действиям, совершаемым человеком, символизирует их, демонстративно подчеркивая главную их черту. Жесты, как архаизмы в языке, готовы перенести нас в далекое прошлое, пусть даже мы не догадываемся об этом.
* Рука поднята вверх. Ладонь обращена к встречному. Привет! В руке покачивается снятый шлем. Я не буду сражаться с тобой. Оружие в сторону, перчатку в сторону. Один странствующий рыцарь протягивает руку другому. Жесты отшлифовываются до автоматизма. Без шлема и оружия проделывать их гораздо удобнее. Джентльмен снимает шляпу, завидев джентльмена, и приветствует его пожатием руки.
Одни из жестов – так называемые эмблемы – за столетия приобрели такой же четкий, однозначный смысл, как многие слова. Их можно было бы назвать иероглифами, но не рисованными, а сложенными из одного или нескольких пальцев, иероглифами, которыми пишут не по бумаге или папирусу, а по воздуху. На короткий миг они застывают в воздухе, отливаясь в чеканные фразы.
* "Будь начеку!" – указательный палец, припав к губам, стремится сжать их, не дать нечаянному слову выпорхнуть. "Ну, ты даешь! – тот же палец ввинчивается в висок, как отвертка часовщика, готового починить механизм. – У тебя и впрямь винтика не хватает, ум за разум зашел".
Многие эмблемы представляют собой понятную всем лаконичную концовку, подводящую черту под тем или иным событием. Можно зазеваться, не заметить случившегося, но увидев человека, демонстрирующего определенный жест, понимаешь, что произошло.
* Так, взметнувшиеся руки футбольных болельщиков – "два пальца вверх – это победа" – ставят жирную черту под мимолетным казусом, происшедшим где-то внизу, на поле: мяч закатился в ворота.
Ученые так и не пришли к единому мнению, споря о том, когда человек начал жестикулировать. Точно так же они продолжают спорить о том, что было первым – слово или жест. Мнение сторонников последней гипотезы я уже привел. Ее противники вполне толково объяснят, почему "такая модель кажется им не меньшей сказкой, чем возможность изобретения языка на совете мудрых вождей" (см. "Знание – сила", 2002, № 9).
Общее мнение сводится к тому, что "развитие языка и жестикуляции, по-видимому, шло рука об руку", резюмирует немецкий лингвист Корнелия Мюллер. "Вероятно, люди очень рано начали выражать свои эмоции с помошью каких-то отрывистых звуков. В свою очередь, привычка тянуться к различным предметам и брать их в руки побудила людей пользоваться указательными жестами". Вот только когда это случилось?
Большинство ученых избегают подобных спекулятивных рассуждений. Пальцы на то и пальцы, чтобы ни минуты не находиться в покое. Любое их положение можно истолковать как жест.



В юридических документах жесты впервые упоминаются около 1750 года до новой эры в законах вавилонского царя Хаммурапи: «Если человек указал пальцем на... жену [другого человека], [но] не уличил [ее в дурном поведении], [то] этого человека должно избить перед судьями и половину [его головы] должно обрить» (пер. В. Якобсона).
В античной Греции отношение к жестам тоже было неоднозначным. Так, риторы презрительно отзывались о людях, нарочито размахивающих руками. По сей день считается, что благовоспитанный человек должен уметь держать себя в руках. По этой причине ученые долгое время не обращали внимания на повседневную жестикуляцию. Зачем заниматься пустяками?
Лишь в начале XIX века неаполитанский археолог Андреа де Йорио обратил внимание на то, что посетители местного музея древностей жестикулируют точно так же, как персонажи античных фресок и мозаик. Заинтересовавшись этим сходством, он выпустил в 1832 году первое описание современных жестов. По его мнению, жители Неаполя "унаследовали" множество жестов своих греко-римских предков.
Сейчас ученые уверены, что жесты не передаются по наследству; им учатся у окружающих. Так, итальянские эмигранты в Америке продолжают размахивать руками, как у себя на родине, а вот их дети, выросшие в американской среде, более сдержанны в своих реакциях. "Жесты – явление культурное, а не биологическое, – подчеркивают многие антропологи, – поэтому в разных культурах пользуются различными жестами".
Так, жители Южной Европы жестикулируют совсем иначе, чем скандинавы. Недавнее исследование, проведенное британским антропологом Адамом Кэндоном и Корнелией Мюллер, показало, что северяне, жестикулируя, держат руки близко к телу, а, например, неаполитанцы нередко поднимают руки выше головы.
А ведь еще недавно многие верили в то, что жесты являются универсальным языком человечества. Вера эта зародилась в XVI веке, когда европейские мореплаватели, прибывшие в Новый Свет, удивленно заметили, что могут объясняться с туземцами при помощи жестов, как будто "этот беззвучный язык счастливо избежал вавилонского смешения наречий". Гости качали головой, и хозяева понимали их. Хозяева кивали в ответ, и гости угадывали поданный знак.
Но даже простейшие формы жестикуляции порой приобретают совсем иной смысл. Болгары и греки кивают в знак несогласия. Австралийские аборигены по каждому поводу спешат вытянуть средний палец руки. Так они указывают: "тот", "этот". Чем лучше ученые узнают жесты, тем меньше поводов говорить об универсальных врожденных жестах.
Зато единство жеста и речи становится все очевиднее." Пальцеслово" живо и будет жить. С помощью жестов говорящий подчеркивает отдельные слова и предложения, поясняя, о чем, собственно, идет речь, что является основной мыслью сказанного (последние три слова выделяются соответствующим жестом. – А. Г.). Таков вкратце итог (подчеркнуть жестом! – А В.) недавних антропологических исследований.

По мнению ряда ученых, спонтанные жесты, вырывающиеся у человека в момент разговора, демонстрируют момент зарождения новой мысли. Американский исследователь Дэвид Макнилл полагает, что лишь одновременный анализ речи и жестов говорящего позволит понять сам процесс мышления человека. Ведь мышление – это самоорганизующийся процесс, в котором вербальное непрерывно взаимодействует с визуальным. Или другими словами: речь торопит жест, жест влечет за собой слово – и так без конца, пока говорящий не умолкнет. Все это напоминает шахматы: ход белых, ход черных – пока не прекратится игра.
Адреса в Интернете:
Руки роботов www.robotic.dlr.de/mechatronics/hand
Исследование жестов: ling.kgw.tu-berlin.de/semiotik/deutscb/forsch/Gesten.htm
Искусство управлять
Лариса Бирман