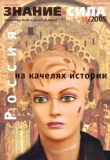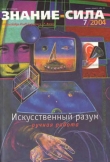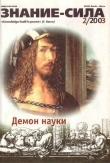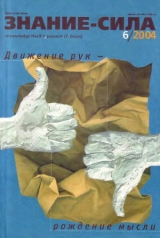
Текст книги "Знание-сила, 2004 № 06 924)"
Автор книги: Автор Неизвестен
Жанры:
Научпоп
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 12 страниц)
Пушкину удалось сказать самодержцу все, что он думал о нем. Он расквитался. "Истина сильнее царя" – говорит Священное писание", – практически последняя запись поэта. Она сделана 26 января 1837 года. Моральную пощечину монарх крепко запомнит, никогда не простит ее, спустя десять с лишним лет сам расскажет о том разговоре, естественно, всячески обеляя себя.
26 января 1837 года Пушкин посылает картель нидерландскому послу барону Л.Б. Геккерну – "своднику", "старой развратнице". Адресату 45 лет, он лишь на восемь лет старше А.С. Пушкина. У него крепкое здоровье (как-никак, сумел дожить до 90 с лишним лет). Посольский ранг – не помеха для защиты чести. Но... Луи Геккерн стреляет плохо, а вот его приемный сын – преотлично. Ответ следует от имени Дантеса. При чем тут Жорж, ведь вызов направлен посланнику? К тому же не совсем было этично стреляться с собственным родственником: как– никак Дантес – де-юре муж Екатерины Николаевны, сестры Натали. Пушкин, захоти он, мог бы и дальше издеваться над Геккернами. Но ему уже все равно.
Поединок нетрудно было предотвратить: дать наряд вне очереди тому же Дантесу. Геккерн-старший прекрасно знает, где прозвучат выстрелы. Жандармы в неведении!..
Пушкин был рисковый, смелый человек. И все же он где-то в глубине души надеялся, думает Н. Петраков, что самый трагический вариант не состоится. Что власть помешает этому. Он явно недооценил ее жестокости.

А. С. Пушкин. Портрет работы И. Л. Линееа. 1836 -1837
– Все, что связано с именем А.С Пушкина, безумно интересно, – говорит Борис Захарченя, академик РАН, ученый с мировым именем, директор Отделения физики твердого тела Физико-технического института имени А.Ф. Иоффе, один из основателей магнитооптики полупроводников. Лауреат Ленинской и Государственных премий, профессор Б.П. Захарченя известен и как блестящий рассказчик, автор оригинальных эссе.
– Для физика, – размышляет ученый, – важна интуиция. Она позволяет многое спрогнозировать. Криминалистический и физический анализы во многом сходны по логике, хотя и сильно различаются по экспериментальным данным. В первом случае – это не очень точные показания людей, у нас – выверенные и проверяемые показания приборов. Но и физике не чужда лирика...
– С довоенного детства, – глуховатый голос моего собеседника теплеет, – в памяти мемориальная доска черного чугунного литья. Она украшала деревянный дом, что стоял на набережной Большой Невки при въезде на Строганов мост. Текст напоминал: здесь 27 января 1837 года останавливались Пушкин и его секундант Константин Данзас. Дом тот был снесен в советское время, в начале 50-х годов при замене деревянных мостов на каменные. Возможно, что доска украшала расположенную когда-то по соседству дачу Пушкиных.
О памятной доске академик вспомнил не случайно. Комендантская дача у Черной речки канонизирована как место роковой дуэли поэта. Сделано это на основании показаний секундантов и Дантеса. А вот насколько они были точны?
Дотошный во всем, что его интересует, Б.П. Захарченя замыслил восстановить события трагического дня. Итак, инженер-подполковник Константин Данзас вместе с А.С. Пушкиным направились к месту поединка из кондитерской Вольфа и Беранже на Невском проспекте около 4 часов пополудни, по пушкинскому времени – это наши 17 часов. Езда не быстрая. Дорога занята экипажами тех, кто возвращается с великосветского катанья с ледяных гор. Как вспоминал А. Аммосов, "много знакомых и Пушкину, и Данзасу встречались, раскланивались с ними..."
...Поэт едет через Неву к Петербургской стороне, далее по Каменноостровскому проспекту к Каменному острову. Сани пересекают обе Невки – Большую и Малую – и по разбитой Коломяжской дороге подъезжают к Комендантской даче. Встреча с Дантесом и его секундантом. Поиски места для дуэли. В глубоком по колена снегу пришлось вытаптывать дорожку длиною в двадцать шагов и шириной в аршин.
Пуля Дантеса. Замена забитого снегом пистолета Пушкина. Его выстрел. Разборка жердей забора, чтобы к раненому поэту смогли подъехать сани. Медленное возвращение на Мойку...
Для того чтобы подобное уложить в два часа, все должно происходить как в быстром калейдоскопе. К тому же в начале седьмого на окраине Петербурга быстро сгущалась зимняя вечерняя темнота: в первой трети февраля (по новому стилю дуэль была 9 февраля) солнце заходит около 17 часов 15 минут... Однако ни в одном из воспоминаний не говорится о том, что дуэль проходила в сумерках. Напрашивается вывод: она состоялась в месте, более близком к центру города, нежели принято считать.

Последняя дуэль Пушкина
Борис Захарченя предполагает, что сани Пушкина нагнали при въезде на Каменный остров молодого Геккерна. Позади были четыре километра дороги. Противники или, вероятнее, их секунданты, обеспокоенные наступлением темноты, договорились не ехать через Строгановский мост в Новую деревню – это еще два километра – и свернули в сторону дома Доливо-Добровольского, где Пушкин снимал на лето дачу. Здесь и прогремели выстрелы. В этом случае дуэль могла состояться засветло.
Пунктуально точный Б. П. Захарченя оговаривается: упоминание об остановке Пушкина в день дуэли на острове в доме Доливо-Добровольских зафиксировано в литературе. Но если остановка на Каменном острове была, то ее трудно объяснить чем-то иным, кроме дуэли.
А как же Комендантская дача, о которой говорили секунданты и Дантес? Так называли целый район пригорода Петербурга, прилегающий к истокам Черной речки. И, вполне возможно, изначально речь шла не о конкретном доме – о местности.
Годы приглушают все – дифирамбы, хулу, слезы и смех. И если мы вспоминаем иногда тех, кто занимался травлей А.С. Пушкина, то это только благодаря ему – Поэту: как тени, пусть проклятые, они цепляются за шлейф его светлого имени.
Пушкинское слово остается камертоном, по которому мы выверяем звучание своей души, своих мыслей. К нам обращено мудрое предостережение Константина Паустовского:
"Мы жили на этой земле. Не отдавайте ее в руки опустошителей, пошляков и невежд. Мы – потомки Пушкина, и с нас за это спросится".
Годовые кольца истории
Сергей Смирнов
Нет легких времен

«Чтоб ты жил в эпоху перемен!» – говорят, что это проклятие придумали китайцы еще в эпоху Конфуция. Но где в этой фразе верное ударение? На последнем ли слове? Или на третьем? Или на втором? Ученый историк наверняка предпочтет последний вариант, тихо разумея про себя: поживи-ка ты в эдакую эпоху, а я поживу позже, чтобы исследовать ее в целом и твою жизнь в ней!
С этой точки зрения, середина X века христианской эры интересна почти на всей Земле. Но особый интерес представляет Европа, ибо нигде не было тогда столь вопиющих безобразий и противоречий. А если учесть то, какой интересный порядок (именуемый Высоким Средневековьем) утвердился в этом углу Евразии всего полвека спустя, как не позавидовать тем, кто сам видел зарождение этого Порядка из Хаоса?
Попробуем испытать эту радость глазами будущего кардинала Лиутпранда и перенесемся в Рим. Священная империя там вроде бы есть, но коронованного императора нет. Напротив, папство есть и папа есть, но до чего же бесцветное существо этот Марин II (он же Мартин III)!
Настоящий герой этих десятилетий Оттон – новоиспеченный король Германии. Что нужно ему сделать, чтобы заслужить имперский венец – наследие Карла Великого, который мечом и огнем загонял саксов (предков Оттона) в святую купель полтораста лет назад?

Император Лотарь. Миниатюра Евангелия Лотаря, $43 – $45 гг. Париж, Национальная библиотека

Статуэтка Карла Белиного, IX е. Париж. Лувр.
Согласно народным сказкам, царевич должен убить дракона и спасти принцессу. Дракон – это, конечно, мадьяры, чья легкая конница наводит ужас на Центральную Европу. Отразить ее может лишь профессиональная латная конница, какая была у Карла Великого, сокрушившего авар, или у Карла Мартелла, побеждавшего арабов. Но в Германии пока все латники-рыцари служат тем или иным графам и герцогам; он, Оттон, – всего лишь первый среди них. А нужно стать единственным! Для этого приходится ссорить соперников между собой, ублажать епископов и аббатов, упреждать заговорщиков, а потом мириться с сыновьями убитых мятежников, жалуя им церковные посты. А что еще пожалуешь? Земли-то королю самому нужны, чтобы латников с них кормить и вооружать!
И как там насчет спасаемой принцессы? Ее имя уже прозвучало: Адельгейда! Это дочь герцога Роберта Бургундского, который недолгое время считался королем Франции.

Оттон I и его жена. Статуи в часовни Магдебургского собора
Пережив множество бурных происшествий, Адельгейда направит свои стопы к тому же Оттону Германскому Тот заявит всему миру о своих правах на все возможные короны, но весь мир (и главное – князь Альбериго Римский) подождет, пока претензии Оттона будут подтверждены мечами его латников в великой битве с мадьярами на Лешском поле в 955 году. Незадолго до этого события умирающий князь Альбериго предложит королю Отгону наладить отношения с Клюнийской партией, чтобы преуспеть в контроле над продажной шайкой римских церковников.
Ибо римская курия разложилась давно и непоправимо. Даже если на престол восходит энергичный папа (каким был Иоанн X), он действует как светский государь, не связанный христианской этикой. А нынешний папа Марин II – ничтожество, хоть и присвоил имя святого мученика, сгинувшего в борьбе против царской ереси монофелитов. Свергнуть такого понтифика нетрудно, но где взять ему на смену достойного церковника? Католическому' миру нужна "школа пап", какою был четыре века назад монастырь святого Бенедикта в Монте-Кассино. Но, увы, орден бенедиктинцев рассеялся по всей Европе, его слава увяла. И вот на смену италийскому Монте-Кассино в Бургундии поднимается новая твердыня – Клюни, где давно правит аббат Одон.
Воистину святой человек и неутомимый организатор! Он уже не раз приезжал в Рим, чтобы вразумить местных князей и епископов, но пока без пользы. Одон побеждает чертей крестом; кто-то должен встать рядом с ним и поражать свиней перстом! Вот дело для нового католического императора: если Оттон 1ерманский с ним справится, то станет основателем династии, не уступающей Каролингам! Конечно, это дело затянется на десятилетия. Кто хочет многое успеть, тот должен рано начать и помнить поговорку: новый день приходит голодным!
Таковы труды и дни будущего императора католического Запада Оттона 1 Великого накануне его грядущей славы, в 944 году от Рождества Христова. Между тем на православном Востоке завершается бурная карьера персоны, очень похожей на Оттона: это – Роман Лакапин, адмирал ромейского флота и вот уже 24 года опекун молодого императора Константина Багрянородного.
Не слишком ли долгая получилась опека? Назвать Романа узурпатором нельзя: он честно отстоял столицу от натиска Симеона Болгарского, который норовил сам взойти на золотой имперский трон. Но вскоре он помирился с болгарином, признав за Симеоном равный титул паря, а за главою болгарской церкви – титул патриарха. Внучка Романа вышла замуж за сына Симеона: этот брак позволил правителю ромеев сосредоточить все внимание на восточном фронте борьбы с мусульманами.
С тех пор прошла четверть века. Роман был удачлив в войнах с угасающим халифатом Аббасцдов. Но теперь старый владыка Роман надоел очень многим придворным. Особенно портят его репутацию бездарные сыновья: троих отец уже венчал соправителями, а четвертого произвел в патриархи, хотя тот более всего любит ухаживать за конями. Между тем давно вырос законный преемник Романа на троне – цесаревич Константин Порфирогенит. Рожденный от венценосного отца, он формально правит уже сороковой год, но к реальной власти до сих пор не причастен и не жаждет ее, избегая связанного с нею риска. Законный автократор ромеев предпочитает быть реальным министром науки и просвещения: он заведует университетом, руководит дружиной ученых энциклопедистов и сам готов писать книги по любым вопросам.
Подражая римскому императору Клавдию, Константин VII трудится как историк своей эпохи. Для своего сына Романа он написал руководство по управлению империей. В нем нашлось место для правил безопасности в военном лагере, для подробного описания придворного ритуала, даже для правил раздачи подарков или взяток придворным и чиновникам. Такова повседневная жизнь императора – вечного пленника своего престола и своих подданных!
Независимо от своей воли Константин VII стал знаменем одной из партий, недовольных самовластьем Романа Лакапина. В конце 944 года Константин станет императором. Последние 15 лет своей жизни ученый император проведет в роли главы государства, имея своей верной супругой дочь прежнего владыки ромеев, а своим первым министром – его незаконного сына. Но за полвека жизни радом с троном трудолюбивый Константин нажил стойкое отвращение к грязному делу власти. Он и впредь сохранит это чувство, охотно доверяя большинство дел своим толковым и властным приверженцам, а свой ученый ум нагрузит постижением тайн Империи и Власти.

Одежда норманнов

Викинг. Резьба по дереву. Фигура с корабля из Осберга, IX в.

Бронзовое изображение бога Тора. Исландия
Девять веков назад те же тайны волновали язычника-римлянина Клавдия. Он искал ответы на свои вопросы, изучая историю тех народов, которые уступили римлянам пальму первенства, – этрусков и карфагенян. Потом Клавдий занял место Цезаря и Августа и продолжил их работу, покоряя Британию и Германию. Теперь Италия впала в ничтожество; олимпийские боги забыты, но Германия и Англия процветают, задавая тон жизни в католической Европе. Не так ли будет с империей ромеев в грядущие века? Что он – Константин Багрянородный – может сделать при жизни, чтобы послужить вечному процветанию империи вокруг Босфора? Нужно крепить мир и дружбу с болгарами, грузинами и армянами; без помощи этих крещеных народов Царьград вряд ли долго устоит перед натиском Исламского мира!
Нужно крестить других варваров Европы, пока это великое дело не перехватили совсем римские миссионеры. Лаба и Висла, Днепр и Дон – вот будущие рубежи православной империи! Если обитатели степей к северу от Тавриды будут крещены, то сквозь их ряды не прорвутся с востока новые гунны! Поэтому следует ласково встречать гостей с севера, не считая их всех безгласными данниками Хазарин. Если Хазария погибнет в свой черед, кто займет ее место на торговых путях из Царьграда на север и восток? Пусть лучше это будут православные варвары, чем любые другие!
Эти размышления дальновидного Константина приведут императора через 12 лет к судьбоносному решению: по его приказу имперские чиновники ласково встретят в Царьграде княгиню Ольгу Киевскую, меж тем как посол короля Оттона I Лиутпранд будет принят холодно и отпущен ни с чем. Ибо Оттон – хозяин Рима и потому не может быть другом Царьграда. Ольга же склоняется к принятию крещения со своим народом: пусть лучше она примет миссионеров из Византии и Болгарии, чем из Германии и Италии! Столь же приветливо в Царьграде встречают мадьярских вождей, заклятых врагов Германского королевства. Чем и когда завершится культурный натиск империи ромеев на дикий север Европы? Темна вода во облацех полярных...
Между тем диалог окрестных варваров со средневековыми империями и королевствами принимает в X веке новые формы. Первый прорыв в этом деле совершили норманны: они стали нормандцами. Еще в 912 году конунг Ролло Пешеход принял крещение и получил в жены королевскую дочь Жизель. Область вокруг устья Сены, давно захваченная викингами, была вручена Ролло на основе феодальной присяги: он получил титул герцога Нормандии.

Победа Константина I в битве при Мильвии, IX в.
Здесь военная демократия викингов превращается в феодальную монархию нормандцев. Вслед за крещением (для начала – номинальным, ибо перед боем новые нормандцы молятся Одину и Тору, а не Христу) начинается освоение французского языка, ведь жены большинства нормандцев – местные франконки! В 945 году внук Ролло Ричард Бесстрашный, желая научить своего первенца норвежскому языку, вынужден пригласить учителя из Скандинавии: среди нормандских поселенцев совершенство родной речи уже утрачено...
Тот же процесс столь же быстро идет во второй – Восточной Нормандии, яже рекомая Русь. Ключевой фигурой здесь стала княгиня Ольга. Уроженка Пскова, она, видимо, была смешанного происхождения: отец – варяг, мать – словенка. При рождении девочка получила два имени: славянское и скандинавское. Лишь второе сохранилось в русских летописях как свидетельство знатного происхождения: ведь Ольга, или Хельга – это ведунья или волшебница, наделенная высшей силой и петому способная властвовать людьми.
Это умение Ольга выработала и отшлифовала в долгие годы замужества за варяжским князем Игорем. Тот, судя по летописи, был храбрый вояка, но неосмотрительный воевода. Можно думать, что в их семье Ольга была той "шеей", которая вертит главою семьи. Конечно, в Киеве у княгини вскоре появилась своя партия, значительную часть которой составили славянские дружинники и воеводы: Претич (спаситель города от печенегов), Борич (его имя до сих пор носит улица "Боричев взвоз") и другие удальиы, более доверявшие расчетливой княгине, чем ее взбалмошному супругу. Не диво, что дети Ольги известны нам лишь по их славянским именам: Святослав, Глеб.
Но имена меняются быстрее, чем нравы; кому это лучше знать, чем псковитянке Ольге, которая к концу жизни превратится сперва в "архонтессу Хельгу", а затем – в "регину Хелену"? Ее крестный отец, старый и мудрый император Константин VII, выберет для духовной дочери то имя, которое носила мать Константина I – Крестителя ромеев. Она убедила сына, что в делах державных Христос Вседержитель сильнее, чем Непобедимое Солнце, коим клянутся воины– митраисты. Пусть теперь Елена Русская убедит в том же своих сыновей! Тогда Византия на Босфоре и Русь на Днепре заживут мирно, не смущаемые пограничными распрями, что так мешают дружбе ромеев и болгар. Ведь любые народы хотят жить мирно и порознь!

Вышивка по шелку. Бамберг, музей, XI в.
Да, большинство членов любого этноса думают именно так, но остальные их соплеменники только и мечтают заварить новую кашу. Вспомним, что княгине Ольге понадобились считанные недели для того, чтобы отомстить осмелевшим древлянам за гибель мужа. Но целых 12 лет неустанного правления в Киеве и разъездов по всей Руси понадобились для того, чтобы обеспечить свой тыл перед поездкой в Царьград! Съездить-то недолго и не очень трудно, но будет ли куда вернуться крещеной и увенчанной архонтессе и регине? Худшего избежать удалось, но в отсутствие матери юный Святослав стал лидером «военной оппозиции» в Киеве. Конечно, мудрая Ольга признала законность пожеланий горячей молодежи, но, очевидно, поставила сыну жесткое условие: хочешь стать воителем – готовься к войне с хазарами, а не к набегу на ромеев! Научись искать союзников среди недругов твоего главного врага, договорись и подружись с теми кочевниками, которые чувствуют себя обиженными хазарской властью! И не забудь о мусульманах вокруг Хазарии...
Действительно, в середине X века исламский узел вокруг иудейской верхушки в Хазарии затягивается все туже. В 922 году приняли ислам булгары, живущие на Каме и Средней Волге: их правители решили встать под защиту далекого халифа при очередном конфликте с близким хаканом. К тому же лучшее войско в Хазарии составляли наемники – мусульмане из Средней Азии; все прочие степняки, оставаясь "презренными язычниками" для своих владык-иудаистов, платили им таким же недоверием и могли подвести в трудный час. Так случилось в 965 году, когда повзрослевший Святослав атаковал Хазарию с севера, – вниз по Волге, мимо нейтральных булгар и при поддержке степных печенегов.
Так Восточная Нормандия дотянулась до исламского Каспия и начала тянуться к ромейскому Понту. Если бы в ту пору во главе ромеев не оказался великий воевода Иоанн Цимисхий, пришлось бы столичным жителям вновь платить выкуп северному варвару, как было сто лет назад – при патриархе Фотии! От таких испытаний граждан Царьграда в 960-е годы уберегла судьба, но лишь потому, что сами ромеи не сидели, сложа руки.
Совсем иначе вели себя в 945 году обитатели славного Багдада – арабы, персы и иные переселенцы со всех краев Исламского мира. Бюрократическое вырождение режима Аббасидов зашло гораздо дальше, чем вырождение хазарской администрации в приволжской столице Итиль. В Багдаде наступила эра открытых сговоров или явного соперничества среди всех этносов Исламского мира.
Кто жил далеко от столицы, тот помышлял об отделении от надоевшей исламской империи. Так поступили в 929 году мусульмане Испании, объявив своего эмира из рода Омейядов новым халифом Абд-ар-Рахманом III. Менее пышно справили свое отделение от Багдадского халифата мусульмане Северной Африки (Магриба), Египта и Средней Азии (Мавераннахра). Но ближайшие к Багдаду северяне—дейлемиты с гор по южному берегу Каспия, недавно принявшие ислам в его шиитском варианте, – решили перестроить империю согласно своим идеалам. Их вождь Ахмед Буя подошел к Багдаду в 945 году и потребовал от халифа Мустакфи титул верховного главнокомандуюшего – амир-аль-умара.

Монастырь св. Дионисия на Афоне (основан в 963 году)
Получив это звание, глава дейлемитов разогнал всех бывших министров, набрал новое правительство из небогатых столичных грамотеев и наконец объявил себя султаном – верховным светским владыкой всех правоверных, признающим лишь духовный авторитет халифа Аббасида. Так столица Аббасидов обрела двоевластие по образцу Хазарии, но без серьезного раскола по вере между властителями и подданными. Эта система оказалась на диво прочной и существовала триста лет, пока доминирующие этносы и их султанские династии в Багдаде регулярно сменяли одна другую. А потом пришли монголы...
Пока в западной половине Евразии – от Испании до Ирана – идет многократный дележ наследства великих держав между окрестными варварами, сходный процесс охватил и Дальневосточную Ойкумену. Такое случалось здесь не раз, но X век внес особую климатическую коррективу: одновременно с распадом империи Тан в Восточной Степи наступила вековая засуха.
Степняки покидают степь! Одни уходят на север, в зону бывшей тайги, которая превращается в сухие хвойные леса по берегам больших рек. Так на карте Сибири появится самый северный тюркоязьгчный народ – якуты, пасущие коров и лошадей (а не оленей!) на лугах вдоль реки Лены. Другие тюрки из племени шато целиком переселились на регулярно увлажняемые земли Поднебесной империи. Здесь они основали державу Хоу-Тан, назвав ее в честь погибшей великой тезки, ибо из всех китайских династий только Тан умела грамотно обращаться со степняками.
Третья ветвь степняков – потомки сяньби, монголоязычные кидани – откочевали на самый дальний восток, в Приамурье, где "засухой" называют то, что степняку кажется раздольем. К югу от долины Хуанхэ продолжается чехарда традиционных династий: их названия чередуются в обычном порядке, согласно появлению и исчезновению правящих фамилий. Но в Поднебесной испокон веку Север командовал Югом; кто же теперь одержит верх на севере?
До 927 года чаще побеждал своих врагов хитроумный и коварный вождь киданей Елюй Амбагань. Потом он умер, и власть захватил его младший сын Дэгуан, а старший сын Дэюй бежал в царство тюрок Хоу-Тан. Его правитель Ли Сы-юань был храбрый и честный вояка, но не мог справиться с коррупцией своих офицеров во вверенных им для управления областях. Он поручил управление северо-восточным округом и войну против соседних киданей своему лучшему воеводе Ши Цзинь-тану. Тот оказался неподкупен, поэтому местные чиновники начали ему изменять, переходя на сторону киданей и передавая им класть в городах и уездах. Крестьянской массе эта игра честолюбий и корысти была безразлична: кто меньше грабит, тот и друг народу!
Честолюбивые националисты рассуждали иначе: пока варвары бьют друг друга, нужно восстать и перебить их всех! В 934 году это удалось: мятежник Ли Цзин-кэ захватил столицу Лоян, перебил правящий род тюрок и объявил себя новым императором. Честный воевода Ши Цзинь-тан был готов примириться с переворотом, если новая власть будет вести себя прилично. Но понятия о приличиях у воинов-тюрок и у городских чиновников-ханьцев были совсем разные: как только новый император окружил Ши Цзинь-тана доносчиками, тот возмутился и признал себя вассалом Елюя Дэгуана. Владыка киданей немедленно послал на помощь свою армию; в 936 году она заняла без боя шестнадцать северных округов Поднебесной, включая ее будущую столицу – Пекин.
Расчетливый владыка киданей Елюй Дэгуан не торопился объявлять себя императором новой династии Ляо. Ведь такая декларация возмутит всех националистов Поднебесной: лучше подчинять их одного за другим, чем способствовать их объединению под общим знаменем! Только в 944 году Елюй Дэгуан вторгся в Поднебесную с огромной армией; в 946 году кидани взяли ее столицу – Кайфын. Сознавая непрочность своих успехов, Дэгуан начал массовое переселение пленных мастеров-китайцев на коренные земли своего государства: там им станет не до бунтов, и пойдет синтез нового народа из киданей и ханьцев...
Скоро Елюй Дэгуан умрет, но план его окажется безошибочен. Лучший памятник ему – современное слово "Китай". Оно произошло от имени народа кидань, который исчез, растворившись в огромной массе подчиненных им жителей Поднебесной империи. Это растворение шло на северном краю Дальневосточной Ойкумены, на стыке степей Западной Маньчжурии и лессовых равнин Северного Китая. Здесь судьба пришельцев-киданей повторила судьбу пришельцев– болгар на Дунае: растворившись среди многочисленных покоренных иноплеменников, они навязали им свое имя в обмен на усвоение культуры самих побежденных и их еще более культурных учителей. Прежде ромеи стали учителями славян и болгар на Дунае – теперь ханьцы стали учителями киданей и тюрок в Маньчжурии и Ордосе.
Как известно, натиск болгарских царей на юг от Дуная не имел успеха. Аналогично, натиск империи Ляо на юг от Хуанхэ окажется безуспешным. С 960 года южная часть Поднебесной ойкумены объединится в национальной империи Сун, и вся ойкумена расколется пополам на три столетия – до прихода потомков Чингисхана.