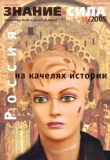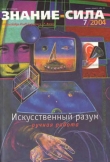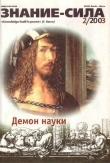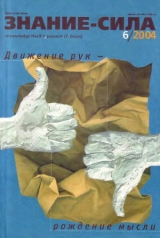
Текст книги "Знание-сила, 2004 № 06 924)"
Автор книги: Автор Неизвестен
Жанры:
Научпоп
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 12 страниц)
Пятидесятники


Это – сборник материалов о выпускниках филфака МГУ 1955 года [Филологический факультет МГУ 1950-1955: Жизнь юбилейного выпуска. Воспоминания, документы, материалы. – М.: Российский фонд культуры. «Российский архив», 2003. – (Серия «Новые источники»). – 416 с.], ими же самими и составленный. Собравшись на вечер встречи пять лет назад, 47 бывших однокурсников решили издать книгу о своем курсе и его студентах. Разослали вопросник из 12-ти пунктов всем, чьи адреса смогли разыскать. Получилась книга, первую часть которой составили рассказы о жизни 55 бывших студентов (всего их было почти 4 сотни), вторую – материалы об их учителях.
Конечно, это интересно как реконструкция истории курса, давшего ярчайших, "знаковых", как стали позже говорить, людей своего времени: среди его выпускников – Владимир Лакшин, Игорь Мельчук, Анна Саакянц, Ревекка Фрумкина, Петр Палиевский, Андрей Михайлов. Интересны живые, со всеми пристрастностями живого, воспоминания том, какими были и как воспитывали учеников знаменитые профессора, – тоже, что ни имя, то знак, даже, пожалуй, целый культурный пласт: С.М. Бонди, С.И. Радциг, Д.Е. Михальчи, Р.И. Аванесов, В.Ф. Асмус, П.Г. Богатырев, О.С. Ахманова, Ю.Б. Виппер, И.Н. Розанов, П.С. Попов, Н.К. Гудзий...
Но в первую очередь в этой книге о чужой молодости интересны даже нс факты, детали, подробности, о которых, к радости историков и к любопытству представителей следующих поколений, могут свидетельствовать только очевидцы и участники. Историки – носители систематических знаний – конечно, вольны находить в сказанном и неточности, и несогласования, и неполноту... – но у них работа такая. Самос поразительное в книге – это механизм устройства памяти. "Бытовой исторической" памяти, если угодно. Что и как помнится. Что и как забывается. Своеобразная душевная оптика молодости и воспоминаний о ней.
А вот что вспоминают и чего нет – вопрос особый и очень важный. Дело в том, что авторы почти совсем не вспоминают свое время как тяжелое, трудное, мрачное.
Сегодня в результате всего прочитанного об этом времени и в "перестройку", и позже – первую половину 50-х, кажется, просто невозможно представить себе иначе как страшные, глухие годы с как бы неподвижным, давящим воздухом.
Но о том, что, кажется, невозможно отделить от облика времени, нс исказив тем самым исторической картины, авторы сборника почти не пишут. Борьба с космополитизмом. Дело враче й-вредител ей. Ежедневный страх, постоянное напряжение, которыми довольно скоро сменилась в послевоенной стране эйфория Победы. Подозрительность, разлитая в воздухе. Повальные аресты среди московской и ленинградской интеллигенции, которые, начавшись в конце 40-х, ко времени, вспоминаемом в сборнике, давно уже шли полным ходом и отнюдь не прекратились после 5 марта 1953-го. Сломанные жизни, в том числе и ровесников-однокурсников, – прямо на глазах у мемуаристов. Обо всем этом – крайне скупо, глухо, вскользь, если вообще.
Почти не вспоминают даже работу товарища Сталина "Марксизм и вопросы языкознания", а ведь ее, вышедшую в том же 1950-м, они, филологи, ну просто не могли не изучать!
Это уже вызвало горькое раздражение умного, честного человека, к тому же однокурсницы авторов сборника – Ревекки Марковны Фрумкиной, назвавшей на электронных страницах "Русского журнала" воспоминания своих ровесников "помутневшим зеркалом". Да как возможно, чтобы ТАКОГО не помнили?!
А ведь хорошо помнят! Внимательно, заботливо помнят, как можно помнить только очень значимое. "Этих пяти лет никогда не забыть!" (Г.Г. Копылова).
Вспоминают так: "...Почему-то осталась в памяти эта картина: сидим на лекции, кто-то говорит о смерти Сталина, и все вдруг начинают плакать, особенно девочки, а ведь у нас на курсе было много детей репрессированных людей" (З.Н. Горбунова/Александрова).
Отстраненно как-то. Даже с удивлением.
А в ответ на вопрос: "Напиши о самом ярком своем воспоминании из университетской жизни", пишут: "Экзаменационные сессии и подготовка к ним" (Г.В. Антипова/Якимова); "Наиболее яркие воспоминания – это, пожалуй, наши групповые вечера – дни рождения, встречи Нового года.., групповые капустники... Вообще наша дружба в группе, которая возникла тогда и продолжалась всю жизнь" (Э.Ю. Зеленова/Сосенко);

«Самым ярким впечатлением была неразделенная любовь...» (О.Н. Михайлов); «Ярких воспоминаний о факультетской курсовой жизни у меня миллион: вечера, капустники, экскурсии по Подмосковью, практика, субботники на строительстве нового здания МГУ, театры, кино – всего не перечислить!» (Г.Г. Копылова) и, наконец, просто: «Сейчас все кажется ярким» (Т.А. Великанова /Киселева).
Не вспоминают страхов. Унижений. Лжи. Насилия. Почти не вспоминают стыда. Почти не вспоминают несвободы.
Да, время было очень несвободным. Но что если молодой человек не быть свободным просто не может? Ведь он растет, все время перерастает собственные рамки, любые рамки. Благословенное время, когда свобода и неограниченность даются словно бы даром, одним лишь фактом сугубо биологического (казалось бы) роста – только бери. Благословенный возраст, перерабатывающий в смысл все подряд. Молодость – свобода по определению.
А ведь в анкете есть и отдельный вопрос: "Остались ли в памяти какие-нибудь неприятные воспоминания о студенческой жизни?"
Отвечают коротко, как бы нехотя: "Комсомольские собрания, на которых обсуждались и осуждались некоторые моменты личной жизни студентов. Или смерть и похороны Сталина, когда мы направлялись к Колонному залу, но, к счастью, не попали" (Б.Г. Анпилогова). Или – та же неразделенная любовь, вечная спутница молодости. Или – осторожно и сдержанно: "Были, не надо забывать, какие это были годы" (П. Гарсия). Или попросту (кстати, довольно часто!): "Нет".
"Неприятные воспоминания? Были, наверное, но стерлись..." (В.Е. Сироти нина/Здобнова). "Какие могут быть неприятные воспоминания о лучших днях юности?!" (Л.Б. Трушина /Блинова). "Были ли какие-либо неприятные воспоминания о студенческих годах? Наверное, были. Но эти годы – самое светлое и неповторимое время" (Д.Д. Ивлев).
Разве иногда: "Изучение марксизма, скука на лекциях, комсомол, его лидеры и курсовые интеллектуалы, полное отсутствие свободы мысли и воображения" (Г. В. Антипова/Якимова). С другой стороны: "Помнятся лекции Капустина по политэкономии – свободой и артистичностью" (Е.Д. Михайлова). Между прочим, "первый опыт свободомыслия" кто-то тоже получил не где-нибудь, а прямо "на семинарах по марксизму" (В.А. Чалмаев). И вообще: "Филологический факультет запомнился мне... атмосферой насыщенной гуманитарной духовной жизни" (М.А. Финогенова).
"Неприятные ощущения в основном связаны с собственной разболтанностью..." (ох, как это понятно, это тоже – вечное...) "Но одно – тяжелое – связано с комсомольским собранием, которое "судило" Аню Шварцман за то, что она сама не прибежала "доложить" об аресте отца. Хоть потом и рассказывал В. Лакшин, что это был единственный способ не дать отчислить ее из университета, а чувство стыда за произошедшее так и осталось" (Е.Д. Михайлова).
Одно, заметим. Всего одно. А было – 5 лет, да каких!..
Да, все они видели, все понимали. Все они помнят. И "нищету, забитые окна деревенских домов", которые, увиденные во время диалектологических экспедиций, "как бы приподняли занавес над истинной картиной жизни" (Т.М. Швецова). И "наконец, 1953 год и постепенное "прозревание", которое и явилось характерной чертой нашего поколения..." (она же). Но важно, как при этом акценты расставлены.

Это – не шестидесятники все-таки (хотя некоторые из них называют свое поколение именно так). Это – пятидесятники.
Слово «пятидесятники» неспроста не стало в русском речевом обиходе устойчивым описанием некой реальности. Эту реальность – как психологическое и культурное целое – наше массовое сознание, кажется, не очень себе представляет. Образа нет, такого, чтобы в глаза бросался. С шестидесятниками, которые родились в сороковых и проходили свои университеты после XX съезда, проще: это поколение бунтарей, громко о себе заявившее. Настолько громко, что как бы «подмяло» под себя даже поколение своих детей (рожденные в 60-х во многом унаследовали ценности, культурные установки, стилистические признаки родителей: «шестидесятничество» в Советском Союзе длилось, кажется, по меньшей мере два поколения). А отчасти и предыдущее: крупные люди генерации «пятидесятников» вот даже и этого курса: Лакшин, Мельчук... – тоже работали в основном на идеологию, атмосферу, культурный пласт «шестидесятничества». Даже Окуджава, бывший на десятилетие старше авторов и героев нашего сборника, – несомненный и классический «шестидесятник». Конечно, дело не в дате рождения: принадлежность к любому культурно выраженному поколению – вещь прежде всего стилистическая, ценностная.
Эти же – не бунтари, даже те из них, кто не жаловал советскую реальность. Они в этой реальности умели жить. Они ее в конечном счете принимали. Кстати, не поэтому ли еще так мало в сборнике воспоминаний о "воздухе времени" – то грозном, то удушливом? По-настоящему – не этим жили.
"Шестидесятники" отчетливо хотели делать Большую Историю (даже когда публично отстаивали ценности приватной жизни). Радикально менять ее структуры. "Пятидесятники" – нет. Под свинцовыми пластами, под глыбами своей исторической реальности они жили как бы в пещерах своей частной жизни, не превращая ее ни в декларацию, ни в гражданскую позицию. Отчасти они сопоставимы с теми, кто жил через поколение: "семидесятники" с их разговорами на кухнях тоже обживали подземные пещеры истории. Правда, у тех это была уже, кажется, позиция. Иной раз даже поза. У "пятидесятников", похоже, – само естество.
По сознательным-то установкам, по ценностям это как раз поколение общественников, социально ориентированных людей, для которых общественное, несомненно, выше личного независимо опять же от того, разделяют ли они социалистические идеалы. ("Шестидесятники" это унаследовали, только усилили, в декларацию превратили.) Бессребреники, идеалисты... И "самоотдача" для них – безусловная ценность.
Крушение Союза было концом их мира.
Это – люди утраты, и воспоминания для сборника писались уже по ту сторону утраты. Мудрено ли, что утраченное – светло?
Они вспоминают преподавателей и друзей, лекции и разговоры, походы и капустники, прогулки по заснеженной Москве и баскетбол. Концерты в Большом зале Консерватории и в Зале Чайковского. театральные премьеры, художественные выставки и бурные литературные диспуты, во время которых Коммунистическая аудитория не вмещала всех желающих... Вспоминают чтение взахлеб (головокружительное расширение мира в молодости тоже, между прочим, вечное, как звездное небо!): "С каким упоением глотали мы с Петей Палневским... одну задругой трагедии Софокла, Еврипида, комедии Аристофана и сопровождающие их предисловия, комментарии И.Ф. Анненского и Ф.Ф. Зелинского!" (ВА Чалмаев). Общее чувство – благодарность. Даже тому, что казалось нелепым, не слишком-то нужным вроде какого-нибудь участия в параде физкультурников: "Дурь, а было весело" (Е.Д. Михайлова). Или: "Большой простор... для развития давали прекрасные ненужности... – старославянский, латынь" (В.А. Чалмаев). Даже неприятному и чуждому: "Благодарен и самым свирепым, например с кафедры марксизма или советской литературы, которые, когда не были "учительными", то уж поучительными точно" (П.В. Палиевекий). Даже тому, что "не задело глубоко, не стало частью меня" (О.Н. Михайлов). Не говоря уж о том, что задело, поразило, потрясло! "Самое яркое, никогда не забываемое впечатление в моей студенческой жизни..: Радциг Сергей Иванович – чудо XX века!" (Г.Г. Копылова). "Не могу забыть лекций на 1-м курсе Сергея Ивановича Радцига... Неизгладимое впечатление произвело исполнение "Былины о Добрыне" Борисом Викторовичем Шергиным... Не могу забыть спецкурса Сергея Михайловича Бонди по теории и истории русского стиха..." (Д.Д. Ивлев).
Смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа?
Для меня эта книга прежде всего прочего, даже прежде такой жгуче интересной вещи, как неизбежно пристрастные свидетельства о подробностях исчезнувшей и неповторимой жизни, интересна как свидетельство мощи смыслов, воплощенных в том модусе существования, который привычно называть "частной" жизнью. Повседневных человеческих смыслов. Они важны не потому, что-де "частные" и "маленькие", а потому, что они– то как раз и вечны. Они вообще – источник всего вечного в такой обрекающей на утраты среде, как история.

«Частные» смыслы – не «помимо» Больших, Высоких Смыслов и уж тем более им не противоположны, они, напротив, среда, в которой Большие Смыслы растут, в которых только и осуществляются. В грандиозных и глобальных исторических и прочих программах они как раз мертвеют. Их преходящие, случайные формы отпадают вместе с идеологиями, как омертвевшая корка. Потом, конечно, нарастают новые корки, чтобы в свою очередь омертветь и отвалиться... А жизнь, сберегаемая в «подземных пещерах» под базальтовыми глыбами исторических обстоятельств, продолжается.
И упоение греческими трагиками на балюстраде над Коммунистической аудиторией, и горькая досада от собственной неорганизованности и нескладности, и шальное счастье стремительного расширения мира вокруг тебя, растущего, и безответная любовь, и "хороший украинский борщ" – не то чтобы "выше, "ширше" любых политических программ, как это назвал В.А. Чалмаев, но именно, как сказал он же, "древнее, натуральней, неподдельней, устойчивее". Все политические и прочие программы отродясь питались этой неистошимой почвой, хочется даже сказать, паразитировали на ней.
Как выразился один из авторов сборника, "все-таки молодость – великое дело".
Клуб «Гипотеза»
Михаил Глуховский
Пушкин пишет анонимку на себя?

...Когда после отпевания тело поэта выносили из Конюшенной церкви, произошла заминка: на пути гроба лежал, рыдая, крупный мужчина. Это был князь Петр Вяземский.
Стихотворец-острослов, знавший близко Александра Сергеевича, почитавший его как внимательный подмастерье великого мастера, князь имел все основания написать в те дни:
"Многое осталось в этом деле темным и таинственным". Утверждение не было случайным, эмоциональным всплеском. Через десять лет Вяземский повторил в печати: "Не настала еще пора... разоблачить тайны, окружающие несчастный конец Пушкина".
Минуло более полутора веков... Нестареющий А.С. Пушкин пробуждает все новых исследователей. В их числе академики РАН Н.Я. Петраков и Б.П. Захарченя, экономист и физик, люди далекие от официальной пушкинианы. Но эта "удаленность" позволила им по-новому взглянуть на известные события, предшествовавшие вызову (картели) поэта, выдвинуть необычные гипотезы, связанные с роковой дуэлью.
Поэта убила вовсе не пуля Дантеса – "убило отсутствие воздуха". Солидаризуясь с выводом Александра Блока, академик Н.Я. Петраков еще раз тщательным образом оценил общественные силы, для которых было неприемлемо пушкинское творчество, его независимый характер. В своем исследовании "Последняя игра Александра Пушкина" он констатирует: ни один гений не уходил из жизни столь загадочно, как Пушкин, – так громко, трагично, так скандально не "хлопал дверью".
При этом директор Института проблем рынка РАН, автор двух сотен научных публикаций, монографий, опираясь на свидетельства современников поэта, приглашает читателей посмотреть на личную трагедию классика русской литературы изнутри, исходя из нравов, ценностей, самоощущения людей, живших в первой трети XIX века.
Изучая материалы минувших лет, говорит мой собеседник, он невольно обратил внимание на особенности позиции многих авторов. Люди монархических умонастроений склонны утверждать: Николай I занимал отеческую, как минимум нейтральную позицию в преддуэльной истории. Ссылаются на воспоминания Ольги Романовой, дочери Николая I: император, узнав о гибели поэта, не находил себе места... В той же книге "Сон юности", изданной в Германии и Франции, О. Романова признает: ее отец заставил Дантеса жениться на Екатерине Гончаровой. Дочери не было никакого резона выдумывать подобное. Да, монарх активно участвовал в скандале, связанном с именем поэта. Это свидетельство дорогого стоит.
Что касается друзей Пушкина, то они, убежден Н. Петраков, старательно поддерживали перед общественным мнением ту благопристойную для его семьи версию событий, которую хотел представить сам Александр Сергеевич, которую поэт заслужил в конце концов своей смертью. Тот же С. Соболевский, входивший в число лиц, которым Пушкин особо доверял, признавался: они никогда не скажут всей правды...
"Не пускает к себе Александр Сергеевич, – вздыхает ученый. – Такой детектив закрутил, что за без малого сто семьдесят лет никто пружину интриги и ее автора определить не может".
Одни пушкинисты, продолжает Петраков, идут "от сердца". Кто-то видит в Наталье Николаевне невинного человека, иные ругают: мол, в ней источник беды. Это "ревнивая любовь".
– Жизнь научила: важно быть всегда объективным, – говорит Н. Я. Петраков. – Надо проникнуться атмосферой минувшего времени. Мы же нередко смотрим на все с высоты своего века, почему-то полагаем, что вправе судить давние нравы, поступки, забывая: тогда была просто другая психология, другая философия.
Подобным вневременным подходом, считает академик, отмечена не одна работа "специалистов по Пушкину". Явно не на пользу истине. Он приглашает читателя заною посмотреть на зачитанные насквозь документы, уловить необычный их подтекст.
Два извечных вопроса: дрался ли Пушкин на дуэли с истинным виновником своего унижения и кто же выступил автором и распространителем "диплома рогоносцев", явившегося катализатором трагедии?
При этом Н. Я. Петраков пытается прояснить: были ли у поэта серьезные основания для ревности к царю.

Наталья Николаевна Пушкина. Портрет работы В. Гоу. 1842– 1843
Ответы на эти вопросы, по мнению исследователя, можно найти в анонимном пасквиле, который А.С. Пушкин и его друзья получили 4 ноября 1836 года. В нем, утверждает Николай Петраков, высвечивается не только злобная нацеленность великосветских шептунов на самое дорогое поэта – его честь, но и сарказм последнего, отлично знающего, кто дирижирует оркестром.
Н. Петраков цитирует перевод текста письма: "Полные Кавалеры, Командоры и кавалеры Светлейшего Ордена Всех Рогоносцев, собравшихся в Великом Капитуле под председательством достопочтенного Великого Магистра Ордена Его Превосходительства Д.Л. Нарышкина, единодушно избрали г-на Александра Пушкина коадъютором Великого Магистра Ордена Всех Рогоносцев и историографом Ордена.
Непременный секретарь граф М. Борх".
Горы литературы посвящены этому документу. Кого только не называли его автором – Л.Б. Геккерна, И. Гагарина и П. Долгорукова, С. Уварова, В. Боголюбова, чету Нессельроде, приближенного к ним Ф. Брунова, И. Полетику... Собеседник усмехается: гаданье на кофейной гуще!.. Текст смог бы по трафарету "растиражировать" любой, умеющий писать.
Главное, однако, в ином. Вчитываясь в строки анонимного послания, академик поймал себя на мысли: а ведь находящийся в тени автор лишен психологии царедворца. Нарушая все правила придворного этикета, он не побоялся включить в "рогоносную интригу" первое лицо государства, намекнуть на недостойное поведение самого императора, отлично понимая, что при общем доносительстве подобный шаг чреват огромными неприятностями.
Для высшего света не было секретом, что красавица М А Нарышкина годами наставляла вместе с царем Александром I рога своему супругу. "Избрать" А.С. Пушкина "коадъютором" – заместителем этого господина, значило утверждать: Наталья Николаевна, "Мадонна" поэта, – среди наложниц здравствующего императора.
Неизвестный сочинитель, похоже, из тех вольнодумцев, для которых честь дворянина не выглядела только декларацией.
Аноним, считает Николай Петраков, выдает себя в двух случаях: используя для обличения Николая I аналогии из интимной жизни его старшего брата Александра I и упоминая развратного графа И. Борха, близкого к семейству Нессельроде. Пушкин с юности питал неприязнь к "плешивому" тезке. Известна взаимная антипатия поэта и графини М. Нессельроде.
Академик уверен: содержательная, смысловая структура текста диплома с головой выдает его автора. Он резонно недоумевает: не странно ли, что диплом передан прежде всего друзьям Пушкина ("карамзинский кружок")? И откуда таинственному пасквилянту так точно, в деталях, до каждого этажа и поворота известны адреса тех, кто должен был получить его сочинение?
Кому было выгодно появление такого документа?
И наконец, догадка: он на руку самому поэту.
В России начала XIX века естественными, в рамках господствующей морали, выглядели принципы "иерархического эротизма". Помещики открыто сожительствовали с крепостными рабынями. Никто не заламывал руки, вопия: "О времена, о нравы!". У самого поэта – известно – был ребенок от дворовой девушки...
Эта же психология отличала и верха, Зимний дворец. Она органично вписывалась в систему ценностей и правил игры высшего света. Пример показывал император Николай I, за которым тянулся шлейф любовных историй. Среди его пассий – Урусова, Булгакова, Дубенская, графини Завадовская и Бутурлина, княгиня Зинаида Юсупова... Иные сановники почитали за честь, если супругу осчастливил "интимной милостью" Его Величество.
Конечно, это устраивало не всех. В дворянстве крепло ощущение человеческого достоинства. Те же декабристы... Они выступали против крепостного права. Но это лишь часть правды. Главным, убежден ученый, для них было иное: они хотели чувствовать себя людьми, как западные дворяне. Их вела идея просвещенного абсолютизма.
...Летом 1831 года венценосные супруги в Царском Селе обратили внимание на юную красавицу – жену Пушкина. А уже 14 ноября выходит приказ о восстановлении титулярного советника А.С. Пушкина в Коллегии иностранных дел с окладом 5000 рублей. Сумма семикратно превышала ставки чиновников подобного ранга.
Пушкин с его темпераментом не мог терпеть повышенного внимания к Натали со стороны царя, который вел себя при этом как "офицеришка". Поэта бесила мысль о том, что его семья может стать пищей для злословья вельможной своры. Он презирал "это скверное озеро грязи", но дистанцироваться было выше его сил. Как противостоять тем, кто ухмыляется за спиной? Молва: шу-шу-шу!.. Человеку с чувством достоинства не позавидуешь.
Вспомним, предлагает академик, наше недавнее прошлое. Доносы. Тайные досье. Никто не мог ничего опровергнуть, как-то объяснить. "Все мои коллеги побывали за границей с научными командировками. Меня 14 лет не пускали. Я не понимал, в чем дело. Да, вращался в разных компаниях, помогал деньгами арестованным. Но и только... Никаких писем с протестами не подписывал. Стена!.. Куда пойти, с кем объясниться? Все стало ясно позднее, когда появилась возможность увидеть досье на себя".
"Чорт догадал меня родиться в России с душою и талантом!.." – сколько горечи в этом пушкинском выдохе! Он мечтал вырваться из "неволи невских берегов" в чужие края, на худой конец – в деревню. Просится в отставку. Его не пускают. Давно ли человека выдернули из ссылки. Теперь он сам готов отправиться в глухомань. Добровольно. "Нет! – ему говорят. – Ты нужен здесь".
Кое-кто из литераторов объясняет: диссидента Пушкина так легче было подвергать цензуре. Наивный аргумент. В деревне он, не воздержанный на язык, точно был бы "под колпаком". В Петербурге же имел возможность распространять свои едкие эпиграммы.
Кому-то было выгодно разыгрывать гнусный спектакль. Александр Сергеевич догадывается, кому. Эта личность – сам государь, ловелас, которому при всем желании не дашь пощечину.
А между тем затягивает трясина долгов. Натали нужны все новые наряды для балов. Он – дворянин и не должен выглядеть белой вороной в светском обществе. У него наемная квартира из 11 комнат, собственная карета, дворня. Все это уживается с привычным расточительством "гуляки праздного". Пушкин читал Адама Смита. Но, по оценке Н. Петракова, на практике хозяйственником был плохим. О его попытках поправить дела с помощью журнала сейчас сказали бы: неправильный маркетинг...
И на этом фоне – унизительная финансовая поддержка со стороны императора, непрерывная травля жандармов, цензуры, света. "Я физически чувствую, – хмурится Н. Петраков, – у поэта все время билась мысль: как бы взорвать ситуацию, как бы выйти из заколдованного круга".
Взвинченный донельзя поэт не прочь создать "дуэльные ситуации". Ему не привыкать стоять под дулом пистолета. Начало 1836 года отмечено тем, что Пушкин идет на ссору с литератором С. Хлюстиным, конфликтует с князем П. Репниным, отчитывает молодого графа В. Соллогуба. До выстрелов, к счастью, дело не доходит. Но поэт явно ищет повод, который бы вызвал санкции, привел бы к высылке из опостылевшего ему Петербурга.
Аналитики порой рисуют Пушкина наивным Александром Сергеевичем, который пассивно ждет удара со стороны. А ведь речь идет о знатоке человеческих отношений, сумевшем тонко передать мотивы поведения самых разных людей. Перелистайте "Пиковую даму", "Маленькие трагедии", "Бориса Годунова"...
Нет и нет! – подчеркивает Николай Петраков. – Пушкина нельзя представить покорным обстоятельствам "барашком", он не был таковым. Человек-протуберанец. К тому же спортсмен. Залезал в кадушку с ледяной водой. Фехтовал. Стрелял. Хорошо ездил верхом. Размазней никак не назовешь.
У поэта оставался один выход – контригра, громкий скандал.

Император Николай I
Итак, главный противник – император. А как же выскочка Дантес?.. Пушкин хорошо знал цену этому пижону со стеклянными глазами, эмигранту, приехавшему искать заработок на чужбине. «Какая ты дура, мой ангел! – усмехался Александр Сергеевич, обращаясь к жене. – Конечно.., я не стану ревновать, если ты три раза сряду провал ьсируешь с кавалергардом».
Исследователь обращает внимание на любопытные оговорки в обращении поэта к Геккерну-старшему: "Поведение вашего сына было мне давно известно... Я довольствовался ролью наблюдателя с тем, чтобы вмешаться, когда почту нужным. Случай... пришелся весьма кстати, чтобы мне разделаться: я получил анонимные письма". А ведь если верить иным литераторам, то именно анонимка "открыла" глаза поэту. "Весьма кстати..." Автор явно проговаривается.
Подтверждением того, что А.С. Пушкин начал тонкую, на лезвии бритвы контригру, по мнению Петракова, служит и не отправленное письмо Бенкендорфу от 21 ноября 1836 года. Ученый находит едва ли не в каждой строчке посыл монарху. После двухнедельных "розысков" Пушкин не сомневается, что "все под контролем". Откуда у него уверенность, что диплом получили "семь– восемь человек", а не десять – двадцать? А если кто-то получил не "под двойным конвертом"? А каков намек Николаю Павловичу: "большинство лиц, получивших письма... их ко мне не переслали". Утечка информации не исключается!..
Немаловажный факт. Точная копия этого письма шефу жандармов быстро разошлась по России, хотя подлинник документа был обнаружен лишь через четверть века. Ученый спрашивает: не передал ли поэт копию своего письма кому-то из доверенных лиц?
Анонимный пасквиль – оружие в контригре? А почему бы и нет! Во времена Пушкина мистификация была естественным состоянием, потребностью светского общества. Без розыгрышей – порой шутливых, порой жестоких – было просто нельзя. Тогда не знали ни радио, ни телевидения, ни кино. Стиль жизни – театр!
Тема мистификации не раз звучит в пушкинских работах. Поэт восторгался П. Мериме, создателем талантливой подделки "Песни западных славян". Незадолго до дуэли, в январе 1837 года, сам пишет миниатюру на тему мнимого вызова на дуэль Вольтера несуществующим потомком Жанны д’Арк.
Вряд ли поэт не знал (в отличие от нынешних пушкинистов!) о проделке молодого гусара Михаила Лермонтова зимой 1835 года. Во время службы в лейб-гвардии гусарском полку, расквартированном в Царском Селе, тот написал анонимное письмо родственникам влюбленной в него Сушковой. В анонимке посоветовал отказать от дома негоднику Лермонтову, который лишь морочит голову наивной девице. Таким своеобразным способом Лермонтов решил привлечь внимание светского общества к своей персоне. Ему это удалось: скандал получился что надо.
Так что для пушкинской мистификации была взрыхлена почва.
Вспомним отзыв фрейлины высочайшего двора А. Тютчевой о высшем свете: "За всей этой помпезной обрядностью скрывается величайшая пустота, глубокая скука, полнейшее отсутствие серьезных интересов и умственной жизни..."
Нетрудно представить, каково было Пушкину. В Зимнем дворце растет волна сплетен. Геккерн-младший демонстративно волочится за Натальей Николаевной. Раздраженный поэт узнает от жены о ее свидании в доме Идалии Полетики. Впрочем, по версии Н. Петракова, Натали встречалась не с Дантесом, а с самим монархом. Ведь на тротуаре у дома Полетики "дежурил" П. Ланской. Трудно поверить, что кавалергардский ротмистр П. Ланской (впоследствии сделавший вдруг блестящую карьеру) согласился выступить в качестве "топтуна у подъезда", блюдя интересы своего подчиненного, вертопраха Дантеса. Иное дело, если бы это было поручение свыше.
А. С. Пушкин идет ва-банк, начинает "рубить лес". События, предшествовавшие роковой дуэли, достаточно подробно описаны. В короткой статье вряд ли стоит их повторять. Согласно автору гипотезы, поэт использует "диплом" в качестве инструмента, который позволил ему вести себя так, как он посчитал нужным. Вплоть до объяснения с царем.

Барон Жорж-Карл Дантес-Геккерн (1812-1895). Анесрель Г. Райта. 1830-е гг.

Барон Луи де Генкерн (1791– 1884). Портрет работы Крихубера. 1843
Как вспоминает М. Корф, историограф императора, такой разговор произошел накануне дуэли. В записях М.А. Корфа находим слова Николая I: «Под конец жизни Пушкина, встречаясь часто в свете с его женою, которую я искренне любил и теперь люблю как очень добрую женщину, я раз как-то разговорился с нею о комержах (сплетнях), которым ее красота подвергает ее в обществе; я советовал ей быть сколько можно осторожнее и беречь свою репутацию и для самой себя, и для счастия мужа при известной его ревнивости. Она, верно, рассказала это мужу, потому что, увидясь где-то со мною, он стал меня благодарить за добрые советы его жене. „Разве ты мог ожидать от меня другого?“ – спросил я. „Не только мог, – ответил он, – но, признаюсь откровенно, я и Вас самих подозревал в ухаживании за моею женою“. Это было за три дня до последней его дуэли».