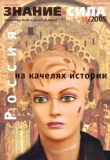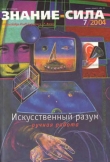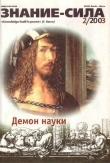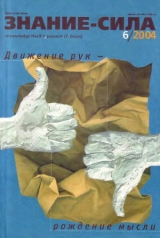
Текст книги "Знание-сила, 2004 № 06 924)"
Автор книги: Автор Неизвестен
Жанры:
Научпоп
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 12 страниц)
От Роберта я получила следующий ответ (дословно): "Венера с Вирсавией переживут, если на них станут меньше таращиться бездельники туристы. Нашим же, чтобы дорасти до "чего-то сверх необходимого" (цитирует слова короля Лира из трагедии Шекспира. – Авт.), требуется время. А детей сюда иногда возят". Куда же подевались "наши" из моего детства? Ведь здесь всегда было так много людей! И какой контраст с тем. что началось на другой день на огромном внутреннем дворе! Праздник национального труда! По периметру поставили сотню торговых прилавков с зонтиками от солнца. Товары разные, по очень низким ценам. В центре – профессиональные соревнования, детские спортивные игры, несколько тиров... Вечером – речи, награждение победителей, карнавал, фокусники, театральные постановки. Все это было замечательно! Но на сколько же лет рассчитана эта программа "дорастания до чего-то сверх необходимого"? Ответь прямо – они у Германии есть? Или от дешевого балагана человека проще толкнуть в окопы, чем от Рембрандта?
Все были счастливы, веселились, а Роберт скучал. Что с ним происходит? Его так любят! Разве эта любовь миллионов простых и искренних людей не предел мечтаний, не вершина состоятельности политика!?
Мне он почти перестал отвечать, заявив, что от моих вопросов у него ноют зубы. Завтра едем дальше, на юг. Но я уже задала тебе столько вопросов, что, задав больше, боюсь перестать надеяться на ответ.
Твоя сестра Маргарита.
Дрезден 6 мая 1938 года" (Перевод писем Андрея Никольского)

Гитлер (слева) и Риббентроп (в центре). Линование по поводу подписания с СССР Пакта о ненападении в августе 1939 года
...Немцы работали, немцы радовались новому жилью, хорошим зарплатам, автомобилю «фольксваген», который уже начали получать, образованию для детей, отпускам, которые многие получили возможность проводить, например, в круизах по Северному морю на фешенебельном «Вильгельме Густлоффе»... и как любой народ, не хотели расставаться е мирной жизнью.
Однако уже с весны 1938 года широко разрекламированные социальные программы начинают сворачиваться. Это, естественно, не нравилось рабочим. Лей в письмах жене отмечает, что "настроение на митингах меняется, тон вопросов тоже". Один раз он даже признается, что "будь сейчас осень, я бы не удивился, если бы кто-нибудь запустил в меня гнилым помидором".
"Подержите их еще немного.., еще немного, – говорил Гитлер Лею за полгода до вторжения в Польшу. – Повысьте зарплату, хотя бы символически, проведите какие-нибудь общегерманские игрища. Привлекайте кого угодно, моим именем. Средства возьмите из моего фонда. Я понимаю, что ставлю перед вами трудную задачу. Но пока мы не доберемся до кавказской нефти и украинского хлеба, мне вас по-настояшему поддержать нечем".

Гитлер и его генералы составляют планы военных действий
Одновременно Гитлер откровенно, едва ли не во всеуслышанье, жаловался, что вместо того чтобы в 1934-м "заниматься руководством СА (под словом «заниматься» он имел в виду «ночь длинных ножей», когда все руководство штурмовиков во главе с Ремом было просто вырезано. – Авт), следовало почистить «авгиевы конюшни Генерального штаба».
Гитлер по-настояшему взялся за оппозиционный генералитет в 1938-м году, перед этим заменив ключевую фигуру – министра иностранных дел, дипломата старой школы фон Нейрата на марионетку фон Риббентропа, подготовив таким образом почву для самого беспардонного "дипломатического" вранья. Второй ключевой фигурой являлся генерал-фельдмаршал фон Бломберг, который в свое время поддержал кандидатуру Гитлера на пост президента в случае смерти Гинденбурга, заявив: "армия на стороне Адольфа Гитлера". Но уже через два года Бломберг начал спорить с фюрером и решительно отказался поддержать и введение немецких войск в Рейнскую зону, и вмешательство Германии в войну в Испании, и "аншлюс" Австрии, и вторжение в Судеты. Все эти операции фельдмаршал именовал не иначе, как "ефрейторскими авантюрами".
Верховный главнокомандующий Бломберг, командующий сухопутными силами Фрич, начальник генерального штаба сухопутных сил Бек (да и почти все высшие офицеры) были стопроцентные оппозиционеры, но люди авторитетные. Гитлер их высказывания глотал, хотя, конечно, до поры. Первые же реальные успехи, особенно триумфальное присоединение Австрии, придали ему храбрости, и он однажды в присутствии Геринга и Гесса устроил настоящую истерику, смысл которой заключался в том, что он "больше не может это выносить". Все понимали, о чем идет речь; Гесс промолчал, а Геринг, вытянувшись по стойке смирно, заявил: "Мой фюрер! Я сделаю так, что они будут рады убраться сами".
Так описывала позже эту сцену одна из секретарш Рудольфа Гесса, Хильда Фат. Ее свидетельство любопытно и само по себе, и в общем-то правдоподобно. Хотя в реальности все, возможно, было проще. Герингу вовсе не обязательно было выслушивать вопли фюрера, чтобы понимать, что от него требуется. Геринг был главой "партии войны" и сам метил в главнокомандующие. А для этого еще предстояло расчистить себе место.
В феврале 1938-го в результате грязных интриг Бломберг и Фрич были уволены со своих постов. Был удален и Бек. Довольно скоро офицерский суд чести полностью реабилитировал Фрича, но дело уже было сделано.
Третьей фигурой, критиковавшей авантюризм Гитлера (тогда осторожно именуемый "торопливостью") и вообще имевшей собственное мнение, являлся Ялмар Шахт. Но этот человек был слишком хорошо известен в Европе и Америке, и Гитлер довел его до отставки, не вымазав грязью, а тем, что просто перестал с ним советоваться. Вместо Шахта в кресло президента Рейхсбанка он посадил Функа, бывшего журналиста экономической печати, человека, логично продолжившего цепочку безропотных исполнителей, – Риббентроп, Кейтель, Функ, Геббельс и т.д.
Насколько сам Гитлер к началу войны преодолел свои внутренние сомнения и страхи, можно судить по следующему эпизоду.
9.11.37. Фон Нейрат, Шахт, Бломберг, Бек и другие собрались на квартире Бекас целью составить меморандум, который мог бы вынудить Гитлера отказаться от готовящихся "ефрейторских авантюр". Гитлер об этом узнал, но тогда ничего не предпринял. А через два года высказался так: "Если бы в то же самое время (то есть 9.11.37. – Авт.) на квартире Гесса собрались Гесс, Геринг, Лей, Борман, Гиммлер, Риббентроп, Геббельс, чтобы убедить меня начать войну ценою моей отставки, я бы согласился. Клянусь честью! Я бы считал свою миссию выполненной. Ибо война вызрела в сердце самой нации".
Итак, "партия мира", к которой принадлежали такие видные деятели Третьего рейха, как Гесс, Шахт, Лей, и большая группа самых высших офицеров вермахта, которая считала, что войну надо отложить на двадцать лет, – проиграла.
Свою роль сыграл и чисто психологический фактор. Гитлеру и остальным "вождям" – сорока-пятидесятилетним полнокровным и энергичным мужчинам – плоды победы хотелось сожрать сейчас, скоро, а не через 20 лет, когда уже зубов не останется.
Возвращаясь к приведенным в самом начале словам Рема, можно сказать, что война, таким образом, "дождалась своего часа". Нужно только помнить, что так говорил все-таки не немецкий народ, а "шофер" той военной машины, которая если уж сдвинулась с места, то остановить ее значило бы практически вывести из строя.
"Я шофер машины, которая движется только вперед", – так говорил о себе Гитлер.
Борис Соколов
Красная армия перед бурей

Калашников К.А., В.И. Феськов, А.Ю. Чмыхаас, В.И. Голиков.
Красная армия в июне 1941 года
(статистический сборник). Новосибирск: Сибирский хронографу 2003
22 июня 1941 года Красная армия и советский народ в целом столкнулись с самым трагическим испытанием в своей истории.
В каком состоянии, с какими достижениями и просчетами страна и армия в чисто военном отношении подошли к часу X? Мы все еще знаем об этом не слишком много, в наших знаниях остаются многие пробелы. А ведь ответ на этот вопрос помогает понять не только истоки конечной победы и причины поражения 41-го года, но и сущность общества и правящего режима, существовавшего в нашей стране.
Группа томских историков собрала под одной обложкой, прежде всего в виде статистических таблиц, все данные о состоянии Красной армии и ее противников в июне 1941 года. Использованы и открытые публикации в журналах и сборниках документов, и данные прежде секретных сборников Министерства обороны о кадровом составе и вооружении Красной армии. В книге приведены, в частности, номера всех советских дивизий, вступивших в бой в 41-м, и прослежена их дальнейшая судьба. Перечислены все командиры дивизий, бригад, корпусов и армий, вступившие в бой 22 июня 1941 года. Приведен полный список советских генералов 41-го года и их должность в конце войны или в момент гибели. Таким образом, в книгу, состоящую по большей части из сухой статистики, привнесена человеческая составляющая.
В целом авторами сделано большое и нужное дело. Сделан моментальный срез Красной армии по самым различным параметрам накануне одного из самых трагических моментов ее истории. В результате Красная армия предстает перед нами в виде весьма мошной и грозной машины, которая, однако, при ближайшем рассмотрении отличалась громоздкостью, неповоротливостью и плохой пригонкой друг к другу отдельных своих частей.
В каком состоянии, с какими достижениями и просчетами страна и армия в чисто военном отношении подошли к часу X? Мы все еще знаем об этом не слишком много, в наших знаниях остаются многие пробелы. А ведь ответ на этот вопрос помогает понять не только истоки конечной победы и причины поражения 41-го года, но и сущность общества и правящего режима, существовавшего в нашей стране.
Авторы стремятся оценить лишь собственно военную составляющую, отказавшись от любой оценки «с каких-либо идеологических, экономических или политических позиций, предоставив эту возможность читателю».
В книге кратко рассказывается, как в процессе подготовки к войне формировались те или иные соединения Красной армии. Оригинальной представляется предложенная в книге методика оценки сравнительной боеспособности советских и немецких войск. Максимальная оценка – три "плюса", минимальная – два "минуса".
В этой системе обозначений получается, что по опыту планирования и проведения операций вермахт превосходил Красную армию в высшем командном звене вдвое, а в среднем и младшем звене – втрое. Уровень оперативно-стратегической и тактической подготовки сторон авторы признают равным в высшем звене, зато в среднем и младшем звене превосходство в два и три раза было на стороне вермахта.
В качестве танков советское превосходство считается двукратным по средним и легким танкам и абсолютным по тяжелым (таких танков у немцев просто не было). Замечу, что, наверное, по средним танкам советский перевес надо оценить большей величиной, поскольку в начале войны у немцев не было танков, способных противостоять Т-34. Зато по качеству подготовки танкистов и уровню ремонта, эвакуации и техобслуживания танков немцы превосходили нас втрое. Самое интересное, что такое же соотношение в качестве подготовки танкистов и организации технических служб сохранилось до конца войны, тогда как разрыв в качестве боевой техники сошел на нет, и превосходство здесь с появлением "тигров" и "пантер" даже оказалось на немецкой стороне.

Парад на Красной площади
Боевую подготовку советской пехоты авторы оценивают вдвое ниже немецкой.
По оценке авторов, как в качестве артиллерии, так и в подготовке артиллеристов РККА имела превосходство в два-три раза. В этом позволительно усомниться. Во-первых, у немцев были лучше прицелы, благодаря цейсовской оптике. Во-вторых, учитывая большую функциональную грамотность немецких солдат, они никак не могли уступать по уровню подготовки красноармейцам в таком требуюшем технических навыков роде войск, как артиллерия. Скорее, здесь стоит говорить о равенстве как техники, так и подготовки личного состава, что само по себе было достижением для РККА. Недаром немецкие мемуаристы подчеркивают, что русские были особенно сильны в артиллерии.
В авиации же люфтваффе по качеству подготовки летчиков, аэродромному обслуживанию и организационной структуре превосходили советские ВВС втрое. А вот германское ПВО, как подчеркивается в книге, превосходило советское по всем параметрам.
В книге дана впечатляющая картина развертывания советских вооруженных сил накануне и в первые месяцы войны. При этом отмечается: "В первые недели за счет внутренних округов было мобилизовано около 10 млн человек при общей потребности армии 4 887 тыс. человек". Пока военкомы ломали головы, что делать с пятью миллионами "избыточных" призывников, 11 августа 1941 года было принято решение призвать еще 6,8 млн человек 1895-1904 гг. рождения. В результате оснащать новые формирования все равно было нечем, так как 52 процента складов было потеряно уже к 10 июля. По этой причине, как подчеркивают авторы книги, "формирование большинства соединений и частей затянулось на многие месяцы, часть из них отправлялась на фронт не обеспеченная не только вооружением и материальной частью, но и продовольствием, вещевым, санитарным, ветеринарным и другим имуществом". Так погоня за количеством в ущерб качеству лишь увеличивала бессмысленные жертвы.
Стройной системы подготовки командного состава низшего и среднего звена, особенно специальных родов и видов вооруженных сил, у нас не было всю войну. Особенно болезненно сказались здесь репрессии 30-х годов, в результате которых был уничтожен слой мало– мальски опытных офицеров и генералов, которые могли бы передать свой опыт молодым.
Среди причин неудачного для Красной армии начала войны авторы выделяют:
– ошибки руководства в оценках сроков и перспектив вступления страны во Вторую мировую войну, а также в планировании и стратегическом развертывании, приведшие к запаздыванию сосредоточения войск и приведения их в боевую готовность, перевооружения на новые образцы техники;
– неудачную дислокацию войск, создание группировок, сильных в центре и слабых на флангах, неготовность войск к оборонительным действиям; расчет на молниеносный разгром вторгшегося противника без учета возможностей своих войск, оборону по линии госграницы без создания инженерного оборудования в глубине;
– неправильно избранную систему одновременной реорганизации большинства соединений, что привело к их небоеспособности;
– недооценку значения вспомогательных родов войск и служб;
– непоследовательную, непродуманную и порой просто преступную политику в отношении военных кадров;
– ошибки в оценке опыта действий своих и чужих войск в ходе прошедших кампаний;
– ошибки в политической работе по определению понятий "союзников" и "врагов" в будущей войне;
– отсутствие единого мобилизационного плана работы оборонной промышленности и размещение ее преимущественно в европейской части страны.
Замечу, что многие из этих ошибок могут считаться таковыми только в том случае, если предполагать, будто Сталин предполагал придерживаться оборонительного образа действий. Если же он готовил наступление, то многие из этих ошибок на самом деле ошибками счесть нельзя. Ясно, что в этом случае и группировка войск должна была быть наступательной, а строительство инженерных сооружений в глубине собственной территории представлялось ненужной роскошью. И если расчет был на скорую победу Красной армии, то размещение военной промышленности в Европейской части СССР ничем грозить не могло. Ведь ни Сталин, ни Тимошенко, ни Жуков и в страшном сне не могли вообразить, что немцы дойдут до Ленинграда, Москвы и Сталинграда.
Как подчеркивают авторы книги, "резкое увеличение числа новых воинских формирований требовало и соответствующего обеспечения, что повлекло быструю, порой коренную перестройку всей работы промышленности. При такой работе не обошлось без ошибок". Как признается в книге, ни в канун войны, ни в ходе ее "не удалось наладить производство в достаточном количестве средств связи, высокооктановых сортов бензина, магистральных паровозов, тепловозов, электровозов, вагонов, рельсов, постоянно ощущалась нехватка пороха, алюминия, меди и ряда других материалов. Существенную помощь армии и промышленности страны оказали в последующем поставки по ленд-лизу, которые практически покрывали их потребность в этой технике и материалах".

Устаревшие тонки ВТ (вверху) и Т-26 (внизу) к началу войны составляли основную массу танкового парка РККА

Пожалуй, главной ошибкой было то, что, всемерно наращивая выпуск новейших вооружений и боевой техники, советские руководители и генералы не озаботились соответствующим наращиванием гражданской продукции, необходимой для обслуживания вооруженных сил: бензина, транспортных средств, радиостанций и иных средств связи. А ведь ради этого стоило бы немного притормозить выпуск самолетов и танков.
Также и при строительстве собственно вооруженных сил, впечатляющая картина которого приведена в книге, наблюдалась гигантомания, погоня за большими цифрами самолетов и танков без учета реальных возможностей освоить в короткий срок новую технику и обеспечить ее всем необходимым. Как отмечают авторы книги, если в западных приграничных округах остро не хватало пилотов, то во внутренних и восточных округах многие летчики остались безлошадными. Красной армии прежде всего не хватало организованности и порядка.
Казалось бы, в таком состоянии нечего было и думать о нападении на Германию. Однако на самом деле эти органические пороки были присущи советским вооруженным силам всегда, в том числе и в победном 45-м. К тому же Сталин, да и многие другие руководители Красной армии не сознавали всей серьезности присущих ей недостатков и считали, что она может успешно воевать. В конце концов, кроме неудач начального периода финской войны был еще успешный, как считали Сталин и Тимошенко, прорыв линии Маннергейма, а также успех на Халхин-Голе. В то же время, как подчеркивают авторы, парадокс стратегического развертывания заключался в том, что на Западе, где ожидалось столкновение с Германией, почти не было войск, имевших опыт боевых действий в Монголии.
Краткий боевой путь стрелковых, горно-стрелковых, мотострелковых моторизованных дивизий и бригад Красной армии, имевшихся к началу войны
| Номер дивизии | Время и место формирования | Наименование | Боевой путь в составе | Судьба дивизии к концу войны |
| 54сд | 04.35, БВО | 7,14,26,31 А | 54-я Мазурская краснознаменная ордена Кутузова | |
| 55 сд | С8.25, МВО | 47 ск, 21,13А | Погибла в августе 1941 г. иод Гомелем | |
| 56 сд | 20.11.19, СФ | Московская | ЗА | Погибла в июне 1941 г. иод Гродно |
| 57 мсд | 06.22, УВО | Уральская краснознаменная мотострелковая | Всю войну в составе 17 А | 57-я Уральско-Хинганская |
| 58 гсд | 05.21. ОККА | 12 А | Погибла в августе 1941 г. под Уманью | |
| 59 сд | 04.32, БВО | Всю войну в составе 1 А | 59-я краснознаменная | |
| 60 гсд | 25.07.19, УФ | Краснознаменная | 12 А | Погибла в августе 1941 г. под Уманью |
| 61 сд | 05.36, ПрВО | 21А | Погибла в августе 1941 г. под Мозырем | |
| 62 сд | 03.34, Укр. ВО | 5А | Погибла в сентябре 1941 г. под Нежиным | |
| 63 гсд | 07.25, ОККА | Грузинская ордена Красн. Звезды им. Фрунзе | 47.44 А | Погибла в мае 1942 г. под Керчью |
| 64 сд | 04.32, БВО | 13,16,49 А.1 УА,10 гв. А | 7-я гв.(21.9.41) Режицкая краснознаменная | |
| 65 сд | 05135, СБВО | Ж'4,52 14,19 А | 102-я гв. (29.12.44) Новгородско-Померанская краснознаменная орденов Суворова, Красной Звезды | |
| 66 сд | 07.38, ОКДВА | 15,35 А | 66-я ордена Кутузова | |
| 67 сд | 05.36, МВО | Т7А | Погибла в июне 1941 г. в Либаве | |
| 68 гсд | 12.34, САВО | Туркестанская | 58 ск, 53,45,4 А | 68-я Туркестанская горнострелковая |
| 69 мд | 07.38. ОКДВА | 28,31,30, 2 гв. А, 5 5А, 46 А | 49-я гв. (07.07.41– 107 тд, мед, с 12.01. по 16.10.42 – 2 гв. мед) Херсонская краснознаменная ордена Суворова | |
| 70сд | 05.34, И ВВС) | Ордена Ленина | 48,42, 55,67, 21А.2УА | 45-я гв. (16.10.42) Красносельская ордена Ленина, КЗ |
| 71 сд | 05.40, ЛВО | Карело-Финская | 7, 32 А, 2 УА, 18,13,70 А | 71-я Торуньская краснознаменная |
| 72 гсд | 10.36,4 Тур.гсд | Туркменская | 26,6 А | Погибла в августе 1941 г. пол Уманью |
| 73 сд | 04.31, СибВО | 20А | 11оги6ла в октябре 1941 г. под Вязьмой | |
| 74 сд | 09.23, СКВО | Таманская | 9,12,18 А | Расформирована в августе 1942 г. |
| 75 сд | 04.31, Укр. ВО | 4,21 А | Погибла в сентябре 1941 г. под Черниговом | |
| 76 гсд | 05.22, ОККА | Армянская краснознаменная им. Ворошилова | 47,38, 21 (6 гв.)А | 52-я гв. (23.11.42) Витебская ордена Ленина, краснознаменная |
| 77 гсд | 1)5.22, ОККА | Азербайджанская КЗ им. Орджоникидзе | 44, 51, 58, 28 А | Расформирована в сентябре 1942 г. |
| 78 сд | 04.31 СБВО | 35, 16, 33, 38 А, 3 УА, 39, бгв. А | 9-я гв. (17.11.41) краснознаменная |
Анализ судеб генералов 1941 года показывает, что больше всего пострадали от сталинских репрессий авиационные генералы. Из 590 пехотных генералов и маршалов были расстреляны или умерли в тюрьме в годы войны лишь 12 человек. Для артиллеристов соответствующие цифры – 3 из 118, для танкистов – 2 из 46, для войск связи – 1 из 22, для инженерных и технических войск – 2 из 55 (оба расстрелянных – генералы технических, а не инженерных войск), из 43 генералов интендантской службы не был расстрелян ни один. А вот среди генералов-авиаторов погибли 17 из 105 – каждый шестой. Думаю, что уровень репрессий хорошо отражает степень неудовлетворенности Сталина действиями соответствующих родов и видов войск, особенно в первые годы войны (почти все расстрелы пришлись на 41-42-й годы). Конечно, на него повлияло начатое накануне войны «дело авиаторов», однако в действительности это дело, по которому было репрессировано руководство ВВС и ПВО, отражало не страх Сталина перед очередным мифическим заговором, а недовольство уровнем подготовки ВВС. Непосредственными поводами к репрессиям послужили высокая аварийность в авиации и то, что ВВС и ПВО в мае 41 -го пропустили до самой Москвы немецкий Ю-52. Меньше всего от репрессий пострадали генералы-пехотинцы, а дальше шло по нарастающей по мере усложнения рода войск. Поэтому на печальное второе место после летчиков вышли танкисты, инженерно-технические генералы и связисты. Лучше пришлось артиллеристам – все-таки традиционный род войск, показавший себя относительно неплохо, – это и немцы признавали. Отсталость Красной армии проявилась в том, что хуже всего воевали относительно передовые и сложные рода войск, требующие большей самостоятельности командного состава и более сложного технического оснащения. Из этой картины как будто выпадает ВМФ. Однако дело здесь только в том, что для немцев советский флот представлял собой сугубо второстепенного противника, и на Востоке было задействовано лишь незначительное число немецких кораблей и морской авиации, что не помешало советскому флоту понести тяжелые потери, хотя и избежать столь впечатляющих поражений, как сухопутные силы и авиация. Они приведены в книге. За время войны советский ВМФ потерял 1 линкор, 1 крейсер, 4 лидера, 25 эсминцев и 89 подлодок.
Система, по которой строилась Красная армия, воспроизводила систему построения советского общества той поры и была приспособлена только к заваливанию противника миллионами солдатских трупов, десятками тысяч уничтоженных танков и самолетов.
Отмечу, что в данных о противостоявших друг другу группировках Красной армии и вермахта авторы допускают отдельные неточности: и по пехоте, и по танкам, и по самолетам. В связи с этим ошибочен и один из выводов, содержащийся в книге: «Общая опенка состава вооруженных сил обеих армий была выведена с большей достоверностью советской разведкой, но противостоящие группировки на границе точнее указаны Абвером». С учетом истинных цифр, относящихся к оснащенности немецких войск танками, самолетами, и общей численности группировки у советских границ приходится признать, что именно советская разведка завысила неприятельские силы в 1,5-2 раза.
В целом же общее впечатление от результатов строительства советских вооруженных сил можно суммировать следующим образом. При увеличении числа дивизий, численности личного состава, количества вооружений и боевой техники Сталин и его маршалы и генералы исходили из несколько наивной веры в то, что само по себе превосходство в несколько раз в танках, самолетах, артиллерийских орудиях гарантирует победу над любым потенциальным противником. Важно только как можно скорее обрести такое превосходство, а остальное приложится.
То, что боевая техника требует и достаточного количества средств связи, и четко работающих служб тылового обеспечения в расчетах и планах, неизменно отходило на второй план, тогда как прежде всего думали о грозных бронированных чудовищах и дюралевых птицах.
О специалистах же, нужных для грамотного использования вооружения и техники, о тактической выучке командиров думали еще меньше, чем о радиостанциях и грузовиках.
Стройной системы подготовки командного состава низшего и среднего звена, особенно специальных родов и видов вооруженных сил, у нас не было всю войну. Особенно болезненно сказались здесь репрессии 30-х годов, начиная с операции "Весна", в результате которых был уничтожен слой мало– мальски опытных офицеров и генералов, которые могли бы передать свой опыт молодым.
В развитии вооруженных сил часто копировали немецкий опыт без учета советских особенностей. Так, прежние танковые корпуса были расформированы после похода в Польшу в сентябре 1939 года, когда из-за низкой степени управляемости они на марше отстали от кавалерии. Когда же в ходе кампании во Франции выявилась решающая роль немецких бронетанковых соединений, в СССР стали спешно формировать еще более крупные, чем прежние танковые, механизированные корпуса. Танков там было почти вдвое больше, 1031 против 560, а количество средств связи ничуть не увеличилось, так что новый корпус оказался практически неуправляемым. И не случайно одновременно формировали все 29 механизированных корпусов – чтобы сразу иметь как можно больше танков в боевом составе. То, что это будет для галочки в отчете, Генштаб и Автобронетанковое управление не волновала В ходе войны пришлось формировать новые танковые корпуса, где танков было в 3-4 раза меньше. Но служба эвакуации и ремонта танков, подготовка танкистов и обеспечение их радиостанциями и к концу войны оставались на низком уровне, что приводило к очень большим потерям в технике.
Вообще система, по которой строилась Красная армия, воспроизводила систему построения советского общества той поры и была приспособлена только к заваливанию противника миллионами солдатских трупов, десятками тысяч уничтоженных танков и самолетов– Победа была достигнута потому, что солдат и техники для этой истребительной стратегии хватило до того момента, когда вермахт уже не имел того минимума сил и средств, чтобы сдерживать натиск на Восточном фронте после высадки союзников в Нормандии.
Сталин предпочитал бросать в бой необученных солдат и офицеров. Для него большую опасность представляли не огромные безвозвратные потери, а хорошо обученная армия, в которой могла зародиться оппозиция тоталитарному режиму.