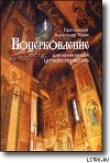Текст книги "Начальник Тишины"
Автор книги: Автор Неизвестен
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 18 страниц)
Глава тридцать четвертая.
Свидетель
Вместе с волной морозной свежести в комнату вошел отец Серафим и сразу как бы заполнил ее собою. Включив свет и увидев Власа, растерянно стоявшего посреди комнаты, иеромонах внутренне вздрогнул, но внешне остался спокоен, только взгляд его сделался настороженно-жестким.
– Батюшка, вы понимаете... Вы не бойтесь, я сейчас все объясню.
– Угу.
– Я... верующий, православный.
– Очень приятно. Как же ты, православный, сюда попал?
– Я не сам. Понимаете, я в тюрьме сидел...
– Та-а-ак.
– Да вы не подумайте ничего плохого. Они меня к вам поговорить привезли... как к духовнику.
– Понимаю. Только не понимаю, как ты сюда через закрытые двери проник. Ключи-то у "них" откуда?
– Отче, можно я сяду? – взмолился Влас. – А то голова кружится.
– Садись, но говори правду.
Влас сел и хотел было рассказать все по порядку, но тут у него перед глазами все стало расплываться. Теряя сознание и падая, он успел заметить, что отец Серафим всем своим богатырским телом устремился к нему на помощь.
– Ах ты, слабый какой, – приговаривал батюшка, поднимая с пола Власа и укладывая его на кровать, – то-то я и смотрю, бледный, как полотно. Ну вот, хорошо, хорошо. Подожди, сейчас я тебе воды дам.
Отец Серафим положил на лоб Власу полотенце, смоченное холодной водой, и тот пришел в себя. Священник не разрешил ему сразу подняться с кровати. Он заботливо снял со странного гостя обувь, а потом приготовил для него травный чай.
– Тебе полежать нужно, – приговаривал батюшка, – а то встанешь и опять свалишься. Ты, видно, брат, переволновался сегодня.
После чая отец Серафим позволил Власу подняться и спросил:
– Значит, говоришь, ты ко мне как к духовнику пришел?
– Да.
Отец Серафим положил на аналой крест и Евангелие, и надевая поручи и епитрахиль, сказал:
– Ну, брат, сейчас исповедоваться будем. Готов?
Влас просиял.
– Да я только этого и желал, батюшка! Спасибо вам.
– Бога благодари. Я только свидетель.
Отец Серафим прочитал положенные молитвы, и Влас начал свой исповедный рассказ. Говорил он долго, временами не мог удержаться от слез. Говорилось легко. Как бы сами собой вспоминались давным-давно забытые грехи. Священник не перебивал, только когда Влас дошел до встречи с Гостем в тюрьме, его лицо сделалось молитвенно-сосредоточенным. Когда же Влас поведал о второй встрече с Гостем, а затем о "Вечери смертников", состоявшейся час назад в этом самом доме, на лбу отца Серафима выступила испарина. Наконец Влас замолчал. Отец Серафим прочитал разрешительную молитву, снял епитрахиль, поручи и обессиленно опустился на стул, как будто исповедался не Влас, а он сам.
– Ну, что вы думаете обо всем этом, батюшка?
Иеромонах задумчиво посмотрел на свою келейную икону "Спас Благое Молчание" и не совсем ясно для Власа, ответил:
– "Молчание есть таинство будущего века, а словеса суть орудия века сего".
– Отче... Вы меня в духовные сыновья возьмете?
Отец Серафим медленно перекрестился и ответил не сразу:
– Пусть будет тебе по вере твоей. Если ты веришь, что я могу быть твоим духовным отцом, то я уже им и являюсь. А я молиться за тебя, теперь-то уж, в любом случае буду.
– Отче, а почему Василиса сказала, что я к Жану пойду?
– Раз сказала, значит знает.
– Батюшка, а вот вы, когда меня увидели здесь... Ну, в общем вы почему милицию не вызвали?
– Милицию? А при чем тут милиция?
– Ну как? Чужой подозрительный человек в вашем доме?
– У Бога чужих нет... А мы ведь Его ученики.
– Хорошо. А если бы я беглым убийцей был? Если бы в вашем доме спрятался и попросил об исповеди, а за мной милиционеры по пятам, вы что, и тогда бы им ничего не сказали.
– Говоришь, если бы исповедаться хотел?.. Я бы им так и сказал, что этот человек пришел ко мне, как к священнику, и я должен его исповедовать. А еще бы я их предупредил, что тайна исповеди не разглашается и потому я не скажу им ничего из того, что открыто мне на исповеди, даже если это будет касаться интересов следствия.
– Видно, вы действительно Его ученик, – Влас кивнул головой в сторону иконы "Спас Благое Молчание".
– А теперь, брат, мне пора идти в храм, правило вычитывать. А ты домой поедешь или у меня ночевать останешься?
– Да я бы остался, только мама будет страшно переживать. Их с Анжелой лучше одних не оставлять. Вы ж теперь знаете всю ситуацию. Мы сейчас, как на фронте. Каждую минуту можно нападение неприятеля ожидать. Я уж лучше поеду.
– Добре. Тогда собирайся быстрее, пока еще электрички ходят, я тебе дорогу на станцию покажу. Приезжай ко мне. Ладно? Обязательно приезжай.
* * *
Домой Влас добрался около часа ночи. Мама и Анжела, конечно, не спали. Но самым неожиданным оказалось то, что вместе с ними бодрствовал Влад. Втроем они сидели на кухне за круглым столом под зеленым абажуром и пили уже по третьей чашке багряного индийского чая.
Влас по старой привычке бесшумно открыл замок двери, вошел и замер в полумраке коридора. Из кухни доносились голоса:
– Ой, не знаю, Влад, я полвека прожила, верующая, слава Богу, а про такое только в книжках читала. Вечно у вас все не как у людей. Ну что нормально-то не живется? То вы правду какую-то искали. Потом робин-гудами были. А теперь вот к вере потянулись, и опять двадцать пять, – сплошь у вас чудеса какие-то да подвиги... Не нравится мне это. Плохо все это кончится, – причитала власова мать.
Влад в ответ смущенно оправдывался:
– Татьяна Владимировна, а я причем? Да я – первый против всей этой нездоровой мистики. Понятно было бы, если б я в нее верил, ну там, гадал по картам или духов вызывал, но у меня-то дела поважнее есть. А тут, пятый раз вам говорю, как на духу, вхожу в подъезд родного дома – и тут она! В белом вся и с цветами на голове. Ну! Так же и свихнуться можно. И смотрит на меня, как по душе чем-то теплым гладит. Я все равно, как у мамы в детстве на коленях посидел. А потом говорит ласково: "Я – Василиса. Мы за тебя с Власом молились. А теперь я ухожу далеко. Пришла проститься... Меня Бог к тебе послал, как свидетеля веры. Ты, – говорит, – покрестись, пожалуйста. Хорошо?", – и улыбается, а у самой слезы на глазах. У меня, Татьяна Владимировна, отключилось все. Ни страха, ни удивления, как будто я всю жизнь только и делал, что с покойниками разговаривал, а внутри тепло-тепло... Так бы и стоял вечно, да она исчезла. Тут уж я, не заходя домой, к вам рванул на полных парах. А куда же? У вас тут с Власом почти монастырь. Кому еще рассказать? Дома-то я все равно себе места не нашел бы. Машка моя, она ведь...
Влас кашлянул. Все трое, как по команде, вскочили с мест и устремились в коридор.
– Власушка, – мать бросилась сыну на шею, – живой!
– Мамочка, не плачь. Что со мной сделается-то?
Им было о чем поговорить в ту ночь. Все четверо не спали до рассвета.
Глава тридцать пятая.
Архипыч
Был последний день марта, однако весной в Санкт-Петербурге еще не пахло. Впрочем, и о зиме напоминали только небольшие пегие кучи снега. Время как будто остановилось между зимой и весной. Было сыро, зябко и ветрено. Солнце, если и показывалось иногда на городских улицах, то его лучи напоминали предсмертную улыбку чахоточного. Шел 1878 год.
Среднего роста немолодой господин с грустными глазами, высоким лбом, довольно густой бородой и характерными аскетическими скулами, задумчиво стоял у ограды Фонтанки. Ветер развевал полы темно-серого пальто. Левой рукой господин прижимал к груди шляпу; правой – мертвой хваткой сжимал деревянную трость, конец коей упирался в расщелину гранитной плиты. То был Федор Михайлович Достоевский.
– Голубчик! Федор Михайлович! – услышал господин радостный возглас. Он попытался было уйти, дабы избежать встречи, но его уже догнал краснощекий человек, похожий на переодетого в штатское гусара.
Запыхавшийся от бега преследователь без умолку тараторил:
– Позвольте, любезнейший Федор Михайлович! А вы словно бы от меня скрыться хотели?! Да ведь это я, Коврихин, сын Силуана Степаныча и Прасковьи Николаевны. Неужели не упомните?
– Отчего же? Помню, – грустно ответил господин.
– Да у меня ведь только к вам один вопросец и будет. Только один! Вы, как я слышал, сегодня в суд присяжных, на слушание дела Засулич собирались? И, кажется, были уже?!
Достоевский вопросительно посмотрел на краснощекого.
– А что удивляет вас, Федор Михайлович? Будто я вам про вас какую тайну сказал. Об этом вся столица шепчется. Я и сам собирался... Да, знаете ли, не смог. Причислят к сочувствующим, а у меня карьера. Сами понимаете. Так вот, что же там было, любезнейший Федор Михайлович? Поделитесь. Какое ваше общее впечатление? Я слышал, ее оправдали. Правда ли? Неужели возможно такое?
– Оправдали, – резко ответил Достоевский. – А теперь позвольте откланяться. Мои благопожелания Силуану Степановичу и Прасковье Николаевне.
И, повернувшись, он быстро стал удаляться.
– Понимаю-с, господин Достоевский! Покорнейше благодарю-с! Оправдали. Вот новость! – неслось вслед уходящему.
Пройдя довольно по набережной, Достоевский свернул в свои любимые петербургские переулки. Здесь он замедлил шаг и погрузился в раздумья.
"Господи, Боже мой, а поняла ли Вера Николаевна Засулич, Кто ее оправдал сегодня? – думал писатель. – Поняла ли? А градоначальник Трепов, простил ли он покушение на свою жизнь? Кабы она поняла, а он простил... Ах, эта молодежь, эти народники-безродники. В них, конечно, ключом бьет идея народная – сейчас же жертвовать собою и всем для правды. Сейчас же! М-да, национальная черта поколения, ничего не попишешь. Но ведь можно же их за это любить. Благослови их, Боже, и пошли им истинное понимание Твоей высшей правды. Ибо весь вопрос в том, что считать правдой. Ты, Господи, – Истина, но Ты и Любовь. Если бы поняла сие Вера Николаевна и господин Трепов. Если бы...".
В эту минуту Федора Михайловича окликнула нищенка с ребенком, сидевшая на куче мокрых дров, покрытых каким-то тряпьем.
– Батюшко, – причитала она, ударяя на "о", – Христом Богом молю, помоги, миленькой.
Писатель остановился.
– Откуда ты, мать? – спросил он, хотя по возрасту нищенка была явно раза в два моложе его.
– Издалёко, господин-барин, да что говорить, там все померли.
Достоевский достал имевшиеся у него при себе деньги и отдал их нищей. Сумма была немалой, но женщина не переменилась в лице.
"Может врет, что нуждается?", – мелькнуло в голове писателя.
– Барин, а, барин. Ты не уходи, погоди. Ты растолкуй мне, сколько и чего я на твои деньги купить могу. Я ведь в деньгах-то не понимаю. Третьяго дня мы с малым только в город пришли, а в деревне у нас не на деньги торгуют, да и не я, а батько хозяйство вел.
Писатель облегченно вздохнул: "Значит, не уразумела, сколько я дал ей".
– На эти деньги ты, мать, месяц хлебом, да капустой с квасом питаться можешь. А маленькому молочное покупать будешь.
– Молочное? Что же я, барин, басурманка что ли? Нонче же пост Велий. А вот за хлеб, да за квас спаси Господи.
– Вы что, с малышом поститесь?
– А то как же? Нас еще пока Боженька не забыл, чтобы мы Его забывать стали. Нам без поста никак невозможно.
У Достоевского на глаза навернулись слезы.
– Ты что, батюшко? Не плачь. Мамочка моя покойная говаривала: "Был пост, будет и Пасха. Было горе, будет и радость!".
– А что с твоими сталось?
Нищенка отвернулась в сторону и дрожащими губами прошептала:
– Не спрашивай, барин. Лучше не спрашивай.
– Оставайся хранимой Богом, мать. Дитя береги.
Достоевский перекрестился и пошел.
Выйдя проходными дворами на Невский и пройдя два квартала, писатель вошел в светло-голубой пятиэтажный доходный дом. Поднявшись по лестнице на второй этаж, он позвонил в колокольчик. Дверь отворила худая женщина с собранными в пучок русыми волосами. Ее острые плечи выпирали из-под изношенного пухового платка.
– Федор Михайлович! А мы вас уже заждались. Проходите скорее, сделайте одолжение. Мы очень желали и надеялись сегодня вас слушать. Именно вас!
Войдя в гостевую комнату, писатель увидел ожидающее его общество молодых и не очень молодых людей, по большей части из разночинной интеллигенции.
Достоевский вышел на середину комнаты и без передышки начал речь:
– Друзья. Сегодня я был в суде. Веру Ивановну оправдали! И вроде бы радоваться нужно. Но, поверьте, не радостно на душе. Я видел ее глаза. Я нарочно всматривался в ее глаза. И я скажу вам, друзья, это не были глаза кающейся грешницы. Не о том, не о том мы печемся и говорим. Одни давят реакцией, другие давят реакцию. Кто кого! А в двух кварталах отсюда, в подворотне на куче мусора десять минут назад я видел нищую мать с ребенком на руках. И в ее глазах я увидел то, чего не увидел в глазах Засулич и Трепова. Жалость! Вот, что я увидел в глазах нищенки, господа. Жертвенность, жалость, сострадание и любовь. Бедный простой русский народ. Народ-страдалец и страстотерпец. Неужели мы так и забьем его, так и выморим голодом, не разглядев, не услышав его глубинной почвенной правды?.. Более я вам сегодня ничего не скажу. Нет сил. Позвольте только одно маленькое замечание напоследок... – Федор Михайлович перевел дух и разгладил рукой бороду. В комнате воцарилась полнейшая тишина. Слушающие замерли в ожидании. – Друзья, неужели вы думаете, что время инквизиции прошло? Ну, тогда не удивляйтесь, если в один несчастный день за вашей дверью раздастся стук сапог!
В это мгновение у входной двери призывно зазвонил колокольчик. Все оглянулись.
* * *
Звонок хрипло поперхнулся и раздался угрожающий, чрезвычайно сильный стук во входную дверь. Архипыч проснулся и подскочил с лежанки.
– Иду, иду, мил человек! – крикнул он и пробурчал под нос: – И чего это мне последнее время Федор Михайлович сниться стал. Помолиться что ли за него поусерднее? Ох, эти сны, сны, просто беда с ними...
Стучавшим оказался мужчина в дорогом черном замшевом пальто и такой же шляпе. Он сходу напустился на Архипыча:
– Ты что тут, развальня, зря что ли деньги получаешь!? Битых двадцать минут звоню и стучу, а ты не открываешь, мать твою!
– Не ругайте мать, пожалуйста, – мягко, но решительно возразил Архипыч.
– Чего?! Я вот тебя с работы выгоню, тогда поговоришь, ветеран. Ты знаешь, что перед тобой депутат стоит?!
– А по мне хоть депутат, хоть акробат, мне всяк человек брат. Простите за задержку. Спал я. Ведь еще, почитай, шесть часов утра только. Рановато вы все же. А что за дело?
– Дело? – передразнил пришелец. – Не волнуйся, без дела не ходим. К тебе труп Василисы Зеленцовой позавчера привозили?
– Девушку эту убитую? Привозили. А вы ей родственник будете?
Пришелец побледнел.
– Чего мелешь? Какую убитую? Самоубийца она!
– Эх, мил человек, я с покойничками, почитай, полжизни знаком, и по лицу вижу, кто из них сам себя кончил, а кому на тот свет помогли отправиться. У меня своя экспертиза, духовная.
– Короче, эксперт, приготовь ее. Ну гроб там и все, что положено. Я заплачу. У нее родственников нет. Сирота. Послезавтра я ее заберу. Надо же добрые дела делать. Будет и тебе на бутылку. До встречи. Да смотри, этот бред насчет ее убийства при себе держи, а то случайно можешь вслед за ней отправиться, чтобы поточней все узнать, при личной, так сказать, встрече. А-ха-ха-ха.
Дверь за мужчиной в черном с грохотом захлопнулась.
– Да-а, дела, – пробурчал под нос Архипыч. – Ну и типчик. Сам небось ее прикончил, а теперь за трупом приехал. Вот такие вот пироги.
Кряхтя, старик вернулся на еще теплую лежанку. Не раздеваясь, укутался в ватное одеяло, сладко зевнул, перекрестился и заснул.
* * *
Каурая кобыла, понукаемая рябым подвыпившим извозчиком, нехотя тащила по петербургской булыжной мостовой коляску, в которой сидел пожилой господин с грустными глазами, высоким лбом, аскетическими скулами и густой бородой.
Глядя на проплывавшие мимо ряды суконных, книжных и церковных лавок, Достоевский размышлял: "Вон у лавки лубочника барышня стоит. Наверное, купит сейчас лубочный Страшный Суд, да Богородицу со Спасителем. Что и говорить, привыкли мы к стилизованному Евангелию: вроде как была Священная история, а вроде как и нет. Просто сказка красивая. Лубок. А ежели Этот Самый Спаситель вот сюда к нам в столицу Российской империи прибыл бы? Если б явился Он пред очи той самой барыни, приняла бы она Его? А я бы принял? Или опять бы мы Его распяли и сделались великими и малыми инквизиторами? Вот ведь вопрос поважнее шекспировского. Подожди, подожди! – оживился писатель. – А идея-то достойна изучения! Может, и в самом деле подобный сюжет в романе вывести? Но допустимо ли? Не предосудительно ли? Что скажет критика?.. Но ведь использование художественных приемов для блага Церкви и проповеди Евангелия допустимо, я думаю. Помнится, в "Истории песнописцев" преосвященнейшего Филарета, читал я, что в гимнографии, как собственно в церковной поэзии, возможно творческое осмысление и пересказ событий Священной истории. Церковные поэты выстраивали целые диалоги между Христом, адом, смертью и дьяволом, сочиняли монологи Пресвятой Богородицы. Только нужно соблюдать одно очень важное условие: все cочиненное должно соответствовать духу Евангелия и церковным догматам... Да, именно – все cочиненное не должно противоречить православному вероучению. С Божией помощью, нужно будет попробовать идею сию применить. Да вот хотя бы в "Братьях Карамазовых". Встроить бы туда такой сюжет. Ну, а чтобы цензура не протестовала против явления Христа в современной России, можно описать такое явление где-нибудь в Европе, скажем, в средние века. Обдумать надо. Вообще, многого я жду от этого романа. Это ведь первая вещь в большой эпопее будет. А цель-то всей эпопеи – показать, что Церковь Христова есть единственный всецело положительный общественный идеал, а для русского общества в особенности; и еще показать,... что Христос жив. Успеть бы".
* * *
На сей раз Архипыч проснулся сам. Спал он недолго, часы показывали семь.
"Пора вставать, – подумал старик. – Эх, Федор Михайлович, Федор Михайлович, зря ты волновался. Создали, всё создали... Ты и сам кое-что успел сделать, хотя видно не всё, что задумал. А уж после тебя образ русского Христа как хорошо Нестеров выписал. А недавно и этот еще прозорливец... Как его? Ну, который кино снял про Андрея Рублева. Да... У него там нестеровский Христос ожил и сошел к людям, и по Руси пошел, и получилось прямо по Тютчеву:
Эти бедные селенья,
эта скудная природа -
край родной долготерпенья,
край ты русского народа...
Удрученный ношей Крестной,
всю тебя, земля родная,
в рабском виде Царь Небесный
исходил, благословляя.
Очень верно ты это, Федор Михайлович, подметил, что все cочиненное должно соответствовать евангельскому духу и догматам. А коль не так, то выйдет промашка, как у Булгакова, к примеру. Писатель-то он хороший, но вот Христос у него какой-то ненастоящий получился, неевангельский. А промашка в таком деле недопустима, а то вместо Христа можно людям лже-христа начать проповедовать. Упаси, Господи".
В эту минуту в дверь снова позвонили.
Глава тридцать шестая.
Пророчества
– Звони еще. Там или нет никого, или дежурный дрыхнет, – сказал Влад другу.
– Слушай, а может, вход с другой стороны? – предположил Влас.
– С какой другой? – видишь надпись: "Морг больницы №52". Если ты Василисины слова не перепутал, то нам сюда.
– Иду, иду, – раздался за дверью голос Архипыча.
– Порядок, – обрадовался Влад.
Дверь отворилась, и перед молодыми людьми вырос настоящий старичок-боровичок из русской сказки. Седые с оттенком желтого дыма пряди волос беспорядочно свисали с его головы и почти закрывали лицо. Он был невысоким, сухеньким, но крепким. Добрые голубые глаза светились улыбкой. Только цвет лица был каким-то неестественно смуглым. На старике красовался дырявый замасленный свитер и такие же, притом слишком короткие коричневые брюки. На ногах были одеты огромные, явно не по размеру, ботинки горчичного цвета.
– Здравствуйте, дедушка. Мы к вам по очень важному делу, – объяснил Влас.
– Чаял я, что кто-то за ней приедет. Чаял... – обрадовался Архипыч.
– За кем, за ней? – спросил Влад.
– Ну, вы же за Василисой?
Лица молодых людей вытянулись от удивления.
– Что это я вас на пороге держу, люди добрые. Заходите, перво-наперво чайку попьем.
Архипыч провел обомлевших гостей внутрь помещения и усадил за стол, сооруженный из больших картонных коробок из-под медицинского оборудования. Достав самодельный кипятильник, скрученный из двух лезвий, старик поставил разогревать воду в стеклянной банке.
– Дедушка, а дедушка, а вы откуда про Василису и про нас знаете? – придя в себя, спросил Влас.
– А что я знаю? Ничего я и не знаю. Просто не хотел бы я вашу Василису Прекрасную этому чернокнижнику отдавать.
Влас метнул взгляд на друга:
– Какому чернокнижнику?
– Да был тут один сегодня, ни свет ни заря. Одно слово – чернокнижник! Ничего, ничего, ребятки, сейчас мы чайку попьем, потом Василисочку обрядим, да и заберете вы ее с Богом. Она ведь мученица.
– Откуда ты все знаешь, дед?! – сорвался Влад.
– Ой, мил-человек, – вздохнул Архипыч, – чего я знаю-то? Ничего не знаю. Просто лицо у ней, как у мученицы, как в Четьи Минеях, беленькое... Ну вот и чаек поспел. Наливайте, миленькие, у меня и заварочка есть свежая, два дня назад сделал, настоялась, – радостно приговаривал дед, разливая кипяток по алюминиевым кружкам.
Друзья с недоверием покосились на треснутый фарфоровый чайник со старой заваркой.
– Ждал я вас, добрые люди, ждал. Вот послушайте старика, сделайте милость... У народа русского теперь последняя возможность открывается. Старцами было предсказано возрождение на Руси Православия, да на короткое время. Похоже, время это короткое заканчивается.
– Как заканчивается? – встрепенулся Влас.
– А вот так. Когда безбожие рухнуло, сами знаете, почти десять лет страшная суматоха была. Особенно вначале. Все лопнуло, работу люди потеряли, магазины пустые, кругом обман, закон не действует. Как жить? Вот и потянулся народ в храмы, к Боженьке. Сотнями крестились, венчались, о Боге спрашивали, выхода искали, ответа. Молодые так те прямо крестились и в монастыри шли, а кто в семинарию, а кто и сразу в священство... А потом время прошло, отпустило, поуспокоился народ. Опять прилавки ломятся, да и деньжата стали водиться. Много чего интересного, кроме храма, есть посмотреть, и душа вроде бы не болит. Чего в церковь идти? А еще народ пугают попами на мерседесах. А чего пугаться-то. У нас так говорят: "Попов бояться, в храм не ходить". А люди всё одно боятся. Вот и стала дорожка в храм сужаться. Потому я и говорю, что сейчас дан последний шанс: или туды или сюды, – дед показал пальцем вверх и вниз, – иначе будет попущено Богом такое... похлеще семнадцатого года.
– А что же делать нужно? – спросил Влад.
– Нужно?.. – старик задумался. – Нужно, милок, чтобы русский народ всецело ко Христу повернулся. А это значит не просто мимоходом свечку в церкви поставить, а всю жизнь свою, как горящую свечу, Богу преподнести.
– Так сейчас вроде к этому и идет. Кругом патриоты, монархисты разные, – полушутя-полусерьезно заметил Влад.
– Нет, милок, настоящих-то монархистов среди них нет, это в основном всё "русские иудеи".
– ?
– Да, милок, не удивляйся. Наш-то Царь, Господь Единодержавный, прежде чем царствовать во славе, должен был Свое Царство на Кресте утвердить! Пострадать Ему должно было и умереть за наши преступления, а потом уж и воскреснуть, и царствовать. Этого Царя избранный народ ждал. А на поверку вышло, что по правде ждали единицы из того народа. Остальные говорят, мол, наш настоящий царь с первой попытки справится! Нас спасет и над миром воцарится – все за раз. По их разумению, страдающий Раб Спасителем и Царем никак быть не может. Противно им это, стыдно. Точь в точь повторилась сия древняя история при царе-батюшке Николае Александровиче, – дед перекрестился. – При страдальце нашем Николае Втором. Он ведь помазан был по образу Небесного Царя, вот и пострадал по образу Его. Окружили его "русские иудеи", генералы там всякие, "патриоты". Говорят, дескать, "Николай – человек слабой воли. Кровью матушку-Русь залить пожалел. А ну его! Долой!". А наш-то царь-батюшка, мученик Николай, грустно так на них посмотрел, на образ пречистый Спаса помолился, да и отрекся. Тут уж они взвились пуще прежнего, до сих пор успокоиться не могут: "Отрекся?! Как посмел? Пост свой оставил, державу бросил в трудную минуту. Предатель!". Точь в точь, как иудеи про Спасителя говорили: "Чего, мол, в руки врагам-римлянам дался, на крест полез, если Он Царь – пусть спасет Себя и нас!". А Царство Христово не от мира сего. Кто друг мира, тот не друг Христа. Так и наш последний царь-батюшка, той же светлой крестной дорожкой пошел, что и Христос. Отрекся он от власти мирской, от суетной земной власти. А кто его понял?.. Вот, ты говоришь, патриоты-монархисты. Не хотел бы я, милок, чтобы эти монархисты царя нам поставили. Они же ведь только о земном помышляют. Ты что думаешь, они, когда до власти дорвутся, про Царя Небесного вспомнят? Жди! Как же, нужен им Страдающий Спаситель, отверженный Царь, Любовь Распятая. Им подавай парады, музыку, марш, балы, салюты, шампанское, ордена на лентах, да барышень веселых. Страдающий Мессия для них чужой, потому и нарекутся они – "русские иудеи".
– Выходит, что же, не нужен России царь?
– Опять не так. Нужен-то нужен, да только не по образу и подобию горе-патриотов. Нам нужен отрок светлый, жалостливый, жертвенный, с образочком в руках, с красным яичком пасхальным. Одно сказать – православный царь, достойный Третьего Рима. Вот потому и говорю я, сейчас все решится. Если светлой дорожкой крестной не пойдут русские за Христом, хоть с царем, хоть без царя, то отменятся пророчества, падет наш Третий Рим, и будет воздвигнут новый Рим, Четвертый. Изберет Господь иную страну, иной народ, просветит и соделает народом-богоносцем. Хотя бы индусов. А чего? Их много и шибко они религиозные, хотя покамест не в ту сторону. Но, может, еще православное крещение примут, – Богу все возможно. И вот изберет Он себе новый народ, и наречет его Четвертым Римом. Потому как без Православного Рима, без Рима Христова земля не может стоять, невозможно миру быть без народа-богоносца. А народ этот Божий какими чертами отличается? Жертвенностью, состраданием, неотмирностью.
– Как понимать неотмирностью? – спросил Влад.
– Значит – не от мира сего, то есть народ иной, народ-инок.
– Дедушка, а что попущено-то будет, если мы свой последний шанс не используем? Ты говоришь, будет похлеще семнадцатого года... – спросил Влас.
– Похлеще, милок, похлеще. Семнадцатый год это что? Это муки тела народного. А здесь уже будет смерть души. Полная слепота, необратимая. За наше безразличие к истине, к родному нашему Православию, уйдет Христос с русской земли. Горько Ему будет уходить, а уйдет. Он ведь ее, родимую, всю исходил, благословляя. Сколько раз Его этапом из конца в конец по русской земле гоняли. И Он терпел. А тут вот уйдет. Не живет Христос среди сытости и разврата, среди скотского самодовольства. Его путь крестный по другим местам пролегает, по другим путям-дорогам. Ей Богу, уйдет...
– А нам-то что тогда делать, дедушка? – глаза Власа расширились, как у ребенка.
– И мы, сыночек, уйдем. Так следочек в следочек за Ним и пойдем. Во внутреннее изгнание уйдем, в катакомбы сердца, в молитовку Иисусову. И наречется сие – Последний Великий Духовный Исход!
– Дедушка, а почему у вас лицо такое смуглое, как запеченное, и ресницы опалены, – поинтересовался Влас.
Архипыч почесал затылок:
– Оно-то, конечно, можно вам сказать, только не соблазнитесь ли?
– Давай, дед, говори, раз начал, – скомандовал Влад.
– А чего говорить? Нечего и говорить. Это я в аду был, вот и опалил маленько лицо адским пламенем. Господь меня сподобил наперед поглядеть, чтобы грешить неповадно было.
От такого ответа Влад чуть не поперхнулся чаем.
– Ой, милки, – тяжело выдохнул дед, – Ленина я там видел собственной персоной, да и многих еще... Целую религиозную конференцию.
– Как религиозную? – не понял Влас.
– А так. Всех людей, которые себя богами или сверхчеловеками, или "просветленными" объявляли, или пророками, да религии разные человеческие понавыдумывали. Все они после смерти перед истинным Христом Богом предстали, а оправдаться-то нечем. Вот и заседают теперь в бездне адовой... Но что более всего меня поразило, увидел я там многих, кого не чаял увидеть, и, наоборот, не увидел тех, кого думал там встретить. Точно Бог людям сказал: "Ваши пути – не мои пути, и Мои пути – не ваши пути". У него Свой Промысл.
– Да что вы его слушаете, – раздался за спиной молодых людей резкий женский голос, – он же сумасшедший, у него и справка из дурдома есть.
Друзья обернулись и увидели стоящую в дверях женщину средних лет, весьма блеклого вида.
– О! – обрадовался Архипыч. – Это наш врач-патологоанатом, Елена Михайловна, пожаловала.
– Не пожаловала, а на работу пришла.
– Верно, верно вы все говорите, сударыня, истинно я – сумасшедший. И давно уже! Как в Боженьку уверовал, в Христа Распятого, так с ума и сошел. Не слушайте меня, милые, если врагами миру не хотите сделаться! А эти добрые люди, Елена Михайловна, за Василисой Зеленцовой приехали. Мы сейчас чаек допьем и аккурат покойницу в путь снарядим. Ладненько?