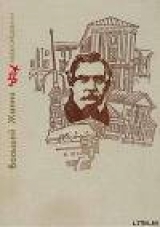
Текст книги "Большой Жанно. Повесть об Иване Пущине"
Автор книги: Натан Эйдельман
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 23 страниц)
Никакой логики
1. Александр распорядился о наследстве. Если б объявил при жизни – воля самодержца закон! Но мертвый медведь – не хозяин лесу: завещание силы не имеет, ибо не приказано вовремя.
2. Воля умершего царя, оказывается, ничего не стоит, стало быть, все решает воля следующего императора. Но его нет – именно к его назначению относится воля умершего, которая ничего не стоит.
3. Николай, не признавая воли умершего, приказывает царствовать Константину, власть которого считает естественной.
4. Константин, не признавая себя императором, по-императорски высек того, кого считает законным императором.
5. Мы отрицаем их всех, но присягнем одному и отказываемся от присяги другому, хотя, присягая кому бы то ни было, признаем эту власть de jure.
Действуем по закону и тем самым нарушаем его.
Точно как Милорадович.
12 декабря. Милорадович
«Когда вы получите сие письмо, все будет решено. Мы всякий день вместе у Трубецкого и много работаем. Нас здесь 60 членов. Мы уверены в 1000 солдатах, коим внушено, что присяга, данная императору Константину Павловичу, свято должна наблюдаться. Случай удобен; ежели мы ничего не предпримем, то заслуживаем во всей силе имя подлецов. Покажите сие письмо Михаилу Орлову».
Я бы никогда не выучил наизусть эти строки, которые удалось отправить всем нашим в Москву, если бы меня потом в течение всего следствия постоянно не спрашивали, не дергали – кому еще такие посланьица написал, кто «60 членов»?
И потом, в Сибири, было время за 25 лет потолковать о том с Михайлом Фонвизиным.
Да, вот такое написал москвичам, чтобы не держать их в неведении: письмо пошло 12-го, написал его перед тем; но вот что любопытно. Недавно верные люди показали мне другое письмо, написанное буквально в те же часы: Николай Павлович – Начальнику Главного штаба Дибичу! последний еще находится в Таганроге и получит тоже – «когда все будет решено».
Я списал, Е. И., специально для вашей коллекции.
«Dans deux jours ou je suis mort, ou je suis votre souverain».[17]17
«В течение двух дней или я мертв, или ваш повелитель» (фр.).
[Закрыть]
Вот какая почта ходила в те дни. Будто списывали друг у друга.
Так и остался я с тех пор вечным писакой разных писем. Но отложим эту статью…
12-го крепко занялся я графом Милорадовичем. Надежды уловить в наши ряды, конечно, не было: мы ведь знали его давно! Но извлечь пользу из графской меланхолии очень желалось.
Сперва был разговор с Федором Глинкой. Так и воображаю теперь (и ведь с тех пор не видел – и даже сейчас, в 1858-м, не знаю – случится ли видеть?). Вы, наверное, не раз встречали Федора Николаевича и прежде и теперь – он ведь дружен был с отцом вашим. Вообразите – вдвое моложе, чем ныне, сидит малыш с бессмысленной улыбкой – и как будто не понимает, о чем вы ему толкуете. Но вдруг сверкнет умом, сложит два-три словца, и веришь, что – в самом деле полковник, герой, автор «Писем русского офицера». В те декабрьские дни он захаживал к Рылееву, но все больше помалкивал.
Федор Глинка, видный член тайного союза, отделался, как известно, сравнительно краткой ссылкой, а в 1857 году горячо обнял старого своего друга и написал в честь его и других вернувшихся декабристов-семеновцев трогательные стихи:
И много было… – Все прошло!
Прошло, и уж невозвратимо —
Всё бурей мутною снесло,
Промчало, прокатило мимо…
И сколько, сколько утекло
Волною пасмурной, печальной
(И здесь, и по России дальной)
В реках воды, а в людях слез…
Разговор получился у нас непростой.
Пущин: Есть ли новости?
Глинка: Ждем сегодня окончательных строк из Варшавы, но даже граф уж не надеется, что Константин передумает.
Пущин: А все надеялся?
Глинка: Да как еще, да как! Приговаривает одно и то же: «Я так надеялся на К. П., а он губит Россию».
Пущин: Да чем же губит?
В ответ он прочитал странные свои стихи, из которых запомнилось мне:
Что-то делается в мире:
Где-то кто-то победил.
Может быть, вверху, в эфире,
Предреченный час пробил…
Далее в стихах теснились черные призраки, стаи филинов и сов, кротовые рати и скелет, «окутанный златом».
Я не мог многого понять в сих иносказаниях – кроме их печальной мелодии – и попросил, чтобы Ф. Н. провел меня к графу. Повод для того был – ведь я виделся перед отъездом с Дмитрием Владимировичем и мог передать живое слово от московского Милорадовича – петербургскому.
– Проведу, пройдем, – сказал Глинка, – но цель ваша ведь, как я понял, совратить графа: а вдруг вступит?
Я кивнул.
Глинка продолжал: «Я даже пособлю вам, хоть и не выйдет ничего. Помогу… Но вот что меня беспокоит: а вдруг выйдет?»
– И прекрасно, – сказал я.
Федор Николаевич внимательно проинспектировал меня своими детскими смешными глазками.
– Прекрасно, – повторил я.
– Нет, нет! – тихо отвечал Ф. Н. – И вы ведь сами не хотите, я знаю.
Тогда я не понял его мысль, да и некогда было. Позже, в крепости, в Сибири, я много думал над теми словами, почему-то никому не рассказывая о них: тебе – первому!
Думал, воображаемо спорил с Фед. Ник. Но, кажется, только теперь, на закате дней, готов не то чтобы согласиться, но понять Глинку.
Об этом я еще, бог даст, успею написать. Ты уж, друг мой, потерпи и послушай дальше.
С Глинкой зашли мы в кабинет Милорадовича. Он полулежит в кресле – в халате и босой. Впрочем, разговор был отрывистым – все время входили и выходили люди «оттуда» (так граф выражался, не желая, как видно, выговаривать – от царя или от Николая, ведь царь все еще Константин, но, с другой стороны, он и не царь).
Посреди разговора граф приказал одеваться… Потом, выйдя, я и Глинка еще перекинулись словечком, вечером я говорил с Якубовичем, который, оказывается, был на квартире у графа рано утром, – и опять не могу поручиться, что все мысли Милорадовича слышал прямо от генерала. Возможно, и от других. Поэтому не хотел бы врать – какие слова после каких точно сказаны. Просто расскажу вам о славном графе Михайле Андреевиче, жить которому оставалось двое суток и всего одну праздничную кулебяку предстояло еще откушать у платонического предмета, славной танцорки Катеньки Телешовой.
Милорадович узнал меня и что-то пошутил о статском фраке, которого видеть не может на бывших военных. Я передал поклон от князя Голицына и тем самым будто скомандовал: граф вскочил, – сейчас, кажется, и в седло.
– Мы с князем вашим чуть-чуть Россию не поделили! Я ему Константина – он мне Николая: дескать, завещание лежит у него в Успенском соборе и проч. Однако, я уж распорядился – Петербург всегда ведь быстрее распоряжается; и князю передал – пусть он поступает, как хочет, я ему не начальство – но тогда здесь будет царь Константин, а в Москве царь Николай.
Сказать по правде, до этой минуты я не знал таких подробностей, однако – «на Руси все тайна и ничего не секрет»!
– Ваше сиятельство, – вступил Глинка. – Вот господин Пущин не может уразуметь, как решились вы обойти завещание покойного императора?
Милорадович меня обнял и громко зашептал:
– Константин Павлович, отрекаясь в 1822-м, кем был?
– Великим князем.
– А на другой день после кончины Александра – кто? Он император. Власть императорская непрерывна. Итак, распоряжение великого князя для императора силы не имеет – не правда ли?
Я спросил, единственный ли это резон, которым руководствовался Милорадович?
Он тут же стал говорить о народной любви к Константину; впрочем, расхохотался и вот что прибавил:
Однажды Константина народ встречал радостными криками, а он велел отгонять толпу и даже аттестовал всех по матушке. Милорадович тогда спросил, чем же народ вызвал его недовольство, а великий князь ответил:
– Так же кричал народ, когда Кромвель вступал в Лондон, но англичанин был не дурак и заметил: «Когда меня повезут на эшафот, крики будут еще сильнее».
Тут граф резко помрачнел (вообще настроение его менялось очень быстро – от смеха к меланхолии и обратно):
– Обо мне можно всякое думать и говорить: да, я не пустил Николая на трон. У меня 60 тысяч штыков, вся гвардия думает заодно со мною. Когда пришло известие о кончине нашего Ангела, я говорю: «Корона не чашка чаю, которую подносят всякому гостю». Я повторяю это и сегодня, хотя время такое, что законного государя приходится чуть ли не с полицией разыскивать, в газетах объявление о пропаже печатать.
Мне известны городские толки. Сегодня вот мой агент подслушал у гостеприимных женщин, будто я поддерживаю Константина из корысти, как старого боевого товарища.
Выходит, что я ровня шулеру Никитину (кажется, я уже писал тебе о несчастном чудаке, который за взятку любовнице еще более гнусного министра Лобанова-Ростовского получил сомнительное право поздравить Константина с короною).
Так вот, признавшись, что его сравнивают с шулером, наш Баярд засверкал и загремел уж без всяких околичностей:
– Да, не желал и не желаю Николая. Все силы приложу, чтоб не было его на троне. А почему? Вы, Федор Николаевич, ход моих мыслей знаете. А Вас, Пущин, я знаю – и доверяю, а впрочем, пусть хоть все слышат: разве карьера моя не кончается? Разве Николай простит мне 27 ноября?
Посему готов я ко всему; плевать!
А не хочу я Николая, оттого что рыцарству конец!
И граф Михайло Андреевич принялся развивать свою мысль, пылкую и странную.
Я понял его так, что он более всего скорбит об исчезновении в мире духа рыцарства, благородства, высокой чести. Все, что связано с этим, – свято. 12-й год, и не только русские подвиги, но и фантастические замыслы Наполеона – все это в его духе! Император Павел при всей странности многих его поступков понятен Милорадовичу своими попытками облагородить мир. Он цитировал мысль Павла Петровича, что у якобинцев есть положительная идея – «пусть и безумная», у нас же одно своекорыстие – «лишь бы поболе власти, земли, крепостных душ. Нам не выстоять: только рыцарство – вот настоящая идея: рыцарство против якобинства!»
Впрочем, в 1825-м граф опасался уже не якобинства, а более всего, так сказать, мещанского принсипа. Для него ужасно, невыносимо наступление – как он выразился – «толпы, стада». Под стадом он разумеет бессловесную массу, возглавляемую расчетливыми, трезвыми, циничными политиками; а далее ему все равно, говорят ли сии политики языком Конвента, лондонского Сити или Зимнего дворца. По тому, что Милорадович знал о Николае Павловиче, он ожидал только стадного, а не рыцарского правления (в какие бы внешне благородные формы оно ни рядилось): для героя 12-го года было очень важно, что Николай и на войне не был, и крови не видел; солдат для него – «механизм, для парада предназначенный». Николай груб, жесток, лишен того благородного тона, что был у Александра, даже у Павла, что сохранялся в Константине – при всех ихних грехах.
Видя в Константине последнего рыцаря, Милорадович возлагал огромные надежды на его царствование, которое представлял неким идиллическим братством царя с дворянством во главе остальной нации.
– Вот я о чем, – я им не обер-секретарь Никитин. Рыцарство, а не тиранию!
Тут я не выдержал: «Граф, вы остановили тиранию на две недели, от вас зависит судьба отечества. Стоит вам захотеть…»
«О, – граф увлекся, – стоит мне свистнуть, и гвардия сдунет Мирликийского. А сенаторушки проголосуют, как прикажем!»
Он вспомнил о моем сенаторе-отце и смущенно заулыбался, а я захохотал, сообразив, что граф, можно сказать, повторяет нашу затею – приказать сенату.
Милорадович, все увлекаясь, воображал – как легко можно было бы – кликнув «Vivat!» – «выбросить к чертовой матери всех мерзавцев – но… но…».
Я ждал этой остановки и спросил: «Но кем заменить, граф?»
– Если бы К. П. был здесь, мы бы заставили… Если бы Елизавета Алексеевна…
Я вспомнил о маленьком великом князе.
Граф: У него есть отец, и яблоко от яблони…[18]18
Семилетний Александр Николаевич, будущий Александр II.
[Закрыть]
Постепенно остывая, Милорадович признался, что ему уж кое-кто (я позже узнал, что это – Якубович!) ставил недавно в пример графа Палена: «Я часто вспоминаю старика.[19]19
80-летний Петр Алексеевич фон-дер-Пален в ту пору еще жил в своем имении близ Митавы.
[Закрыть] Он занимал мой пост – или лучше сказать – я на его месте. Да, без него ничего бы не сделали с Павлом Петровичем. Пален был мастером дьявольских дел… Говорят, что на случай неудачи 11 марта он нарочно близ дворца отстал от толпы заговорщиков, чтобы, если понадобится, их схватить и представить Павлу арестованными. Впрочем – не верю в это. Скорее всего, если б Павел вырвался, у Палена имелся какой-то запасной план цареубийства».
Глинка заметил, что Пален сослужил отечеству службу – разве дурно было дать Александра России?
Милорадович не спорил, но сказал, что, если бы в наличности имелся хороший принц, «прямой рыцарь», он готов был бы на все для его воцарения: если б завтра царствовать Александру Павловичу, я стал бы сегодня Паленом; однако нет ни Александра, ни даже Константина. Что воевать?
– Есть Россия, – вступил я. – Народ, который ждет коренного преобразования своей жизни. И разве не рыцарский поступок – дать свободу крестьянам, бескорыстно вручить власть народным представителям, раздробить аракчеевские тюрьмы (о том, как Милорадович смотрел на Аракчеева, мне было хорошо известно).
Аракчеев, между прочим, несколько раз унижал Милорадовича, заставляя до получаса ждать в своей приемной. Зато, узнав о приближении аракчеевского адъютанта, Милорадович держал его у дверей своего кабинета ровно столько времени, сколько нужно было, чтобы выскочить с черного хода на Мойку – и умчаться подальше. Е. Я.
Генерал остановил свою проповедь и дал понять, что слыхал не раз эти мотивы и знает – кто их напевает.
– Более того, господа; вы заявлены, и крепко заявлены. Сегодня прибыл из Таганрога пакет от Дибича. Не могу сообщить вам многого, но в бумагах покойного императора документы насчет обширного заговора, а также имена заговорщиков. Ваши, может быть… И вдобавок кто-то из ваших только что раскрыл Николаю Павловичу петербургские замыслы, ибо я не далее как за час до вашего прихода получил строжайшее приказание – наблюдать и выяснять…
Мы молчали, не зная, как закрутится беседа.
– Однако вы ведь понимаете, господа, что не таков я, чтоб отличаться подобными проделками. А вы это понимаете, иначе вряд ли ко мне бы явились… Я никого не выслеживаю, мне дела нет, о чем толкуют офицеры за пирушкой…
Тут граф встал и сунул босые ноги в туфли:
– Сегодня день рождения моего императора (и он со слезой кивнул портрету Александра); ему было бы 48 лет, имена заговорщиков – в его бумагах. Однако бумаги лежали давно – и, стало быть, покойный государь не счел нужным распорядиться… Он многое знал, и давно знал, и мне кое-что говорил: наблюдать, но не забирать никого, кроме явных злоумышленников, собирающихся действовать. Он не велел арестовывать. Он один мой император, ибо Константин – не желает, а Николаю я еще не присягал. Посему – не мое дело!
Но, господа, и с вами не пойду. Увольте! Нет настоящей цели. Дожил: не за кого Милорадовичу умереть!
Не могу с Николаем, но и против него уже все, что мог, употребил. С той минуты, как присягну, – слуга покорный… Я солдат – не мятежник. И вам не советую: в лучшем случае по вашей крови на престол всплывет кто-нибудь из предводителей ваших, я же для таких проделок стар.
C'est ne pas chevaleresque. Это не по-рыцарски.
И вдруг, опять обняв меня, вспомнил: «Вы же товарищ Пушкина – поэта; я когда-то сказал ему: «C'est chevaleresque», – вот и вспомнил сейчас: это по-нашему, по-рыцарски – когда он сам откровенно, без разных там пелендрясов, написал мне все свои стишки…»
– А Ваше сиятельство еще спросили его, почему столь мало в тех стишках досталось сенаторам?
Милорадович захохотал: «Ничего не секрет! А как Пушкин? Тоже заговорщик?»
– В деревне, слава богу, в ссылке, – отвечал Глинка. – А что касается заговора, то ведь овцы стадятся, а лев ходит один.
Эту Глинкову присказку мы хорошо знали, и он ее по поводу Пушкина не в первый раз отпускал (впрочем – без связи с тайным союзом). Мне, помню, все же досадно сделалось и едва удержался, чтобы не поведать, как Пушкин обижался на меня за то, что я его не пригласил «стадиться». А насчет chevaleresque – так ведь один или два стиха Александр Сергеевич графу все же не открыл. И вот бы сейчас припечатать?
Милорадович торопился во дворец, разговор шел быстрый, ясный. Впрочем, многие очень важные разговоры происходили в моей жизни именно на ходу, между делами; всерьез усевшись друг против друга, редко договариваются до главного…
Но вот что хорошо помню – это слова графа на прощание:
– Доносчиков не терпел и не терплю. Вас ловить не стану, пока мне император не прикажет!
Император он выговаривал с особенным значением, из чего следовало, что сегодня по крайней мере в Русском государстве император отсутствует…
Последние слова были: «Николай, да еще вы с вашим заговором…» И махнул рукой в том смысле, что пропади все пропадом…
Я понял – ему все едино. Он не желал ни нам, ни себе никаких успехов. Милорадович уехал – в мундире при шарфе; в белых панталонах, с андреевской лентой через плечо – на груди десятка три звезд и крестов.
Рыцарство кончилось.
«Львиного сердца, крыльев орлиных нет уже с нами! – что воевать?»
Генерал и я еще один раз свиделись – догадываетесь, конечно, при каких обстоятельствах?
16 октября 1858-го и 13 декабря 1825-го
А теперь, мой друг, настал час представить вам нечто сокровенное – мысль недавнюю, можно сказать, вчерашнюю (хотя сегодня кажется мне, что всю жизнь так думал…). Может быть, нижеследующее и сочтете горячкой умирающего.
Недавно тут, в Петербурге, навестил меня Владимир Иванович Штейнгель, и я его первого угостил более или менее связно всей моей галиматьей. Зная его нынешнее кроткое, религиозное расположение духа, я, по правде говоря, ожидал одобрения. Но Штейнгель мой вдруг заспорил, даже взъярился и обозвал меня двойным грешником (за что – после объясню).
А сейчас начну не торопясь исповедоваться. Как раз сижу у окна на Мойку, а по ней листья плывут осенние – и всего лишь сорок седьмые листья с той осени, как я перебрался из отчего дома – в наш, лицейский.
Скоро 19 октября, наш праздник, а я ведь не бывал на нем 35 лет.
Как видишь, носит меня не только по миру, но и по времени. Как быть? Жалко уходящего. И все хотелось бы на прощание сбегать в ту осень 1811-го, – но нельзя. Пора в декабрь 25-го.
Теперь слушай – да вникай (как говаривал все тот же наш славный Иван Кузьмич).
13-го, воскресенье – этот день вижу будто в тумане. Обедал дома, и отец торжественно прошептал, что вечером их собирают.
Я, вероятно, в лице переменился, так как сестры засуетились, а брат Миша выскочил из комнаты.
Помню, очень помню – прошел по спине холод, как при хорошей музыке. И не то чтоб я был рад или не рад. Но помню, сколь тяжким в те дни было ожидание, как мечтал отделаться поскорее – чтоб не было уж выбору.
И вот на тебе – нет выбора! Сенаторов собирают, – значит, завтра новая присяга! Впрочем, в те минуты, за последним спокойным домашним обедом, я еще не угадал всей природы того холодка, что меня посетил; а вот теперь, кажись, уразумел (или придумал?).
Ах, Евгений, передо мною будто хроника.
Воспоминание безмолвно предо мной
Свой длинный развивает свиток…
Нет, друг, не жди связного рассказа о деле 14 декабря: он уже в ваших руках, составленный не чужими людьми.
Краткий очерк восстания на Сенатской площади под названием «Четырнадцатое декабря» написал мой отец со слов участников дела – самого Ивана Ивановича Пущина и Евгения Петровича Оболенского. Е. Я.
Однако та, записанная история – ну как бы сказать? – сделана отчасти константиновским способом: ведь Константин Павлович, прочитав Карамзина, был, говорят, рассержен рассуждениями и отступлениями нашего историографа: в истории, дескать, имена, даты, факты, ничего более и не надо!
Вот и мы сперва не то чтобы следовали совету Константина, но все же сушили повествование… не считали сколько-нибудь занятным то, что происходило в душах и мозгах наших. Мы даже нарочно просили написать отца вашего, как сравнительно беспристрастного и в день 14 декабря находившегося далеко от столицы.
А вот теперь, Евгений, самое время все рассказать по порядку.
Начну с того, что вздумал я сосчитать, сколько верных шансов было нами упущено 13 и 14 декабря? Сколько козырей пропущено, которыми если и не вся игра, то уж немалый выигрыш обеспечивался?
И вышло у меня, что не менее десятка раз, а по сути – и того более могли бы выиграть, но не выиграли.
Вот, суди сам, давай вместе считать.
Последний вечер у Рылеева: приходим, уходим, складываем в уме желаемые роты, полки – и я слышу слова Булатова: «Мало будет – не выйду»; помню согласное выражение лиц у Трубецкого, Якубовича, Щепина-Ростовского: то есть зря рисковать не будем!
– Да сколько же вам надо войска? – спрашивает Рылеев. Булатов объясняет, что нужно тысяч шесть, в том числе кавалерию, пушки.
Рылеев считает на пальцах, каждый палец – тысяча: вроде бы получается больше, чем шесть тысяч, и он повторяет пароль «честь, польза, Россия».
Я же просидел весь вечер молча (во фраке! К тому же, кроме самого себя и родного брата, обязавшегося выйти, если пойдут измайловцы, я никого не могу привести),
И вот Рылеев доказывает, что есть войска, а я слышу в его словах – нету!
Это мне чудится – или он сам так думает? Позже, когда Булатов и Трубецкой уйдут, слышу рылеевское: «А все-таки надо! »
Вот эта фраза всю жизнь меня сопровождает. «А все-таки надо». Почему надо – ясно, но что означает все-таки?
Бестужев Александр только что был весел, горячился, глядел завтрашним победителем – и вдруг красиво так восклицает: «Неужели отечество не усыновит нас?»
Но это все присказки. А вот начали чертить планы на завтра.
Якубович с моряками – ко дворцу. Я с Рылеевым – в Сенат. Всем остальным – на Сенатскую площадь, чтоб сенаторы солдат в окна видели и меня с Рылеевым беспрекословно слушали. Ладно – это слова! А вот уже и дело.
Рылеев и Бестужев тихонько просят Каховского – я один остался в комнате и все слышу: «Ты, Каховский, сир, одинок – иди и утром убей императора». И я встаю, обнимаю Каховского: «Убей Николая, если можешь».
Ты, Евгений, зная меня, обязан удивиться: могу ли послать другого, да еще на такое дело?
Ведь по моему обычаю – от Лицея еще – все на себя брать, самому идти – если считаешь затею необходимой.
Но – сказать ли?
Скажу. Я точно знал, что Каховский (он все время молчал) не пойдет и не убьет. Не для оправдания своего пишу это – для объяснения: все эти речи «пойди – убей», вероятно, произносились нами, чтобы отрезать самим себе путь, довести дело до предельной крайности, но как я не верил, так же, наверное, и Рылеев, Бестужев не думали, будто Петр Григорьевич пойдет; а он сам молчит – и тоже не верит в таковые свои способности, но сказать вслух не решается; в тот вечер никто не решился сказать – разве что Булатов кричал, что не пойдет, если мало народу явится на площадь.
Итак, первый шанс: Каховский. Во дворец, при сумятице тех дней и часов, ничего не стоило пройти. Необыкновенная решительность Каховского проявилась на площади, где он застрелил двоих и одного ранил: если бы Каховский убил Николая – тогда в городе полнейший переполох, Михаил Павлович – не фигура. Можете вообразить остальное…
К этому добавим второе: Якубович, проходивший 14 декабря несколько раз с заряженными пистолетами в двух шагах от Николая…
Третий – Булатов, с каждым часом терявший душевное равновесие, но – как мне точно и доподлинно известно – ходивший возле неохраняемого Николая с кинжалом, двумя пистолетами и несколько раз собиравшийся пустить их в ход…
Да что толковать! Если сам Николай считал свое спасение чудом.
Итак, три верных шанса убрать Николая, обезглавить правительственную партию. Я не говорю, что хотел этого и что жалею о несвершившемся. Я не рассуждаю пока, но просто считаю: три шанса отброшены.
Но вот и нумер четвертый.
Каховский в тот вечер бросил нам всем славную, может быть, мысль: «Сейчас ночь, сейчас и идти ко дворцу. Те же офицеры, что утром должны повести солдат к присяге, пусть теперь, в казарме, подымут шум за Константина – и во дворец! Охрана – да что охрана?»
Как раз в эти-то часы Преображенский офицер Чевкин весьма возбудил своих солдат разговором о замене Константина Николаем. Паника во дворце была неимоверная, а ведь самое интересное, что Чевкин вовсе не был членом нашего Союза, искренне думал только о Константине (позже был прощен, в генералы вышел!). И если б еще мы снаружи подступили – о господи! «Кто палку взял, да раньше встал…»
Посудите сами: в 7 утра Сенат уж присягнул Николаю. А мы где?
И в те же часы будет присяга по некоторым полкам: Николай «раньше встал»… Как видно, ростовцевский донос все же не пропал даром, но о нем, погоди, еще потолкуем…
Но мы-то, мы-то не понимали разве, что если солдаты, Сенат присягнут – то уж поздно бунтовать? Неужели – спросите вы – так крепко спалось в ночь с 13-го на 14-е?
Да нет, друг мой, никто и глаз не сомкнул. Но вот морозец какой-то сковал ноги, да и мысли.
Если знали мы, что надежных солдат мало – тем более нужно опередить, скорее, пораньше! Разве Пален давал своим людям хоть час передышки? Вечером 11 марта 1801-го собрал офицеров – как мы у Рылеева – а в полночь уж все во дворец шли, полки выведены. Конечно, 11 марта – совсем другая музыка. Но все же, все же…
Очень помню, как в темноте носились мы по улицам. Оболенский, Рылеев да я – с пяти утра… Ох, не забуду этой последней нашей с Рылеевым прогулки: черное утро, мороз пробивает шинели, будто картечью. И вот видим во мгле Петра бронзового – и никого вокруг, никто не вышел! Имеем ли право произнесть: «Я сделал все, что мог, – пусть другой сделает больше». Нет! Пока не имеем, не можем: значит – вперед!
И мы еще час-два бегаем, мерзнем, зовем – обратно идем: вокруг Петра московцы стоят! Ура!
Итак, четвертый, весьма существенный шанс: припозднились! Отчего – не могу сейчас объяснить, но шанс был. Был!
В-пятых, измайловцы: о них уж я толковал, брат Михаил с пушками ждал хоть одной измайловской роты. Но что-то сковало измайловских: подъехал полковой командир, вышел священник: «Все ли желают присягать?»
Пауза, один шаг все решает.
Андрей Розен ведь, когда присягал его Финляндский полк, закричал: «Не желаем!» – и придержал своих на пути к площади. Один остановил целый полк.
А тут в Измайловском пауза – солдаты ждут, генерал ждет. И капитан Богданович, еще несколько наших людей – все ждут чего-то. Так и присягнули, сами себя не дождались.
Однако следующей ночью Иван Иванович Богданович не вынес унижения, покончил с собой. Выходит, смерти не испугался, а в момент присяги что-то замерло, замерзло.
Но что же?
Однако подождите еще.
В-шестых, в-седьмых. Как вам известно, ранним утром явились на рылеевскую квартиру Каховский, Якубович. Первый объявил, что отказывается убивать государя, а второй – что не пойдет во дворец с моряками (как прежде обещался).
Иван Иванович не совсем точен, описывая события в Измайловском полку. Когда генерал Мартынов, полковой командир, объявил присягу Николаю, капитан Богданович крикнул: «Константину!» Присутствовавший при этом генерал Бистром не растерялся и велел продолжать обряд. Еще раздалось несколько неуверенных криков: «Константин!» – священник обошел всех с крестом, полк, увели в казармы, и все кончилось.
Морской же экипаж был на многое готов и только ждал вождя, которого охотно видели в славном герое Кавказа Александре Ивановиче Якубовиче. Е. Я.
Трубецкой тоже чем-то уж скован – я и Рылеев к нему ездили, и видно было, как он рад, что вокруг памятника – пусто. И после, на площади, как я Трубецкого проклинал, посылая за ним Кюхлю и других!
Восьмой шанс. Московский полк вышел после десяти часов, находясь в необычайном одушевлении. Щепин-Ростовский, накануне робкий, неуверенный, и, может быть, от этой именно робости (знаю такую черточку!) – поднял своих, завопил, воодушевил: в казармах порубал человек пять, даже из своих кого-то огрел – и привел вместе с Александром и Мишелем Бестужевыми половину полка на площадь – «ура, Константин!». Тут, кстати, и я к ним пристал… Щепин же был столь могуч и быстр в тот час, что ему бы вперед! Сенат, хотя уже присягнул, но еще заседал. Захватить бы это здание, мне и Рылееву, как и уговаривались, войти в присутствие – и тотчас именем России и Константина заставить гг. сенаторов все подписать, что требуется…
Однако московцы встали, куда им приказано, – и стоят: а Щепин – герой, орел – устал, оперся на саблю и так простоял до конца всего дела. Михайло и Александр Бестужевы, как и он, штабс-капитаны – им бы распорядиться, но нет! Ждем толстых эполет.
И мне бы их уговорить – пока пыл, напор не остыл и все в движении, – но опять предательское что-то. И вот – стоим, ждем. Каждому промедлению найдется после свое объяснение: там – Якубович уперся, здесь – мы не сообразили, в третий раз – Трубецкой подвел… А ведь еще Суворов говорил: раз удача, два удача – помилуй бог! Когда-нибудь и уменье!
Если же сей афоризм вывернуть – выйдет: раз промах, два промах – помилуй бог! Когда-нибудь… Что же? Вот слово нужное, нелегко подобрать – в чем тут дело? Ясно, что за этим скрывается правило, формула, что ли, нашей неудачи, то самое, о чем все время толкую.
Но, подожди, вот и еще примеры.
Пункт 9. Приходит на площадь гвардейский экипаж. Молодцов ведет наш Николай Бестужев. Что б захватить им с собою пушки? Но – торопятся, и правильно, конечно, торопятся, – да вот пушки-то после все и решат.
10, 11, 12 – целых три пункта отдам незабвенным лейб-гренадерам. Они, думаю, 14 декабря были молодцы из молодцов – и тем более подтверждается моя мысль о некоем наваждении, о таинственном хладе, сковавшем наши действия.
Судите сами: лейб-гренадеры у себя, за Невою, рано утром присягнули; так же, как в Измайловском, мы помешать не сумели. Но на том не кончили, а лишь начинали. Александр Сутгоф и Николай Панов не каются, себя не закалывают, а хоть и с опозданием, но берутся за дело. Как только в казармы пришло известие, что московские не присягнули, наш Александр Николаевич Сутгоф, как вы хорошо знаете, поднимает свою роту и рысцою прямо по льду – к Сенату. Вслед за ними – вскоре и весь остальной полк под командой всего лишь поручика Панова.
Говорят, это было замечательное зрелище: лейб-гренадеры, в боевой амуниции, даже с хлебом (обо всем подумали поручики), не строем – но быстрой веселой толпою торопятся на площадь; маленького Панова гиганты гренадеры на плечи подымают – а рядом вприпрыжку, мешая французские слова с российским матом, – полковой командир Стюрлер.
Позже Николай Алексеевич Панов, царствие ему небесное, рассказал мне: государь думал, будто именно он и Сутгоф – главные зажигатели всего пожара, и месяца два следователи их считали вождями – не меньше, чем, скажем, Рылеева или Пестеля. Но как же изумились, догадавшись, что оба молодца всего несколько недель как вступили в тайный союз, а главных своих предводителей впервые увидели только накануне бунта…








