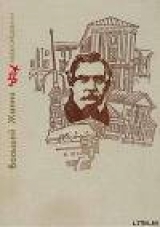
Текст книги "Большой Жанно. Повесть об Иване Пущине"
Автор книги: Натан Эйдельман
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 18 (всего у книги 23 страниц)
Я сказал ему (во время того иркутского, последнего в нашей жизни свидания), что один подарок за сорок лет любви и верности он все же от судьбы получил: «Ведь вашей Любви Бестужевне сейчас шестьдесят седьмой год, а вы ее запомнили довольно молодой, желанной, и вот возлюбленная ваша жива, здорова, но ее старость для вас не существует!»
Бестужев, конечно, сказанное мною обдумал прежде уж тысячу раз и прошептал: «Возраст при наших обстоятельствах имеет не больше значения, чем внешность, то есть никакого!» А я спросил, читал ли он «Виконта де Бражелона»? Николай Александрович не читал; там ведь бедный Рауль вот такою же любовью любит хромоножку де Лавальер и непременно должен, обязан погибнуть.
Даже шуточный пушкинский афоризм, к сему явившийся, тут покажется мрачным и зловещим:
Несите прочь медикамент:
Болезнь любви неизлечима!
Заканчивая свою исповедь, Николай Александрович убеждал меня, что ему все же много легче, чем ей, что страдания дают его душе иллюзию правоты; она же казнится, ей в петербургском устроенном быту – истинная каторга; она видит себя виноватой, хотя нету никакой вины. Он говорил так уверенно, будто только что виделся со своею Любовью.
Испугавшись, что заморил меня печалью, Николай Александрович тут же начал рассказывать о смешных, живых сторонах своей жизни и не скрыл, что под давлением сестры размышлял последние годы о женитьбе.
– А женились бы, право, Николай Александрович!
Мы отвлеклись от Степовых, возобновив эту тему только к вечеру, когда вернулись домой. Пока же, отшагивая версты вдоль Ангары, толковали о тех наших товарищах, которые женились на местных крестьянках. Я сам, как знаете, не преодолел в этом вопросе закоренелых своих предрассудков, но вообще, должен признать, что есть в подобных матримониальных эпизодах удачные примеры.
Это для княгинь наших особый подвиг – уехать из столиц, пересечь материк, отречься от прав и соединиться с мужьями в сибирской глухомани. А для Евдокии Раевской, Варвары Оболенской, Платониды Лисовской, Анны Фаленберг и других сибирячек эта самая глухомань – место родное. Пока бравый майор Раевский проказничает с Пушкиным в Кишиневе, бунтует, отбивается на допросах, его будущая жена растет в 80 верстах от Иркутска и не только о Кишиневе, но и о Москве-то вряд ли слыхала. Какая судьба, какие катаклизмы должны были свершиться, чтобы этим двум столь разным людям встретиться, сойтись, понять друг друга, жениться, – и крещеная бурятка Евдокия Моисеевна не только грамоте выучилась, но и сделалась как бы просветительницей родного края да воспитала шестерых юных Раевских, прежде чем получила в подарок от прощенного супруга потомственное дворянство.
Иные из нас, особенно на поселении, то есть в страшнейшей одиночке величиною в тысячи квадратных верст, – иные из нас сразу бы и погибли, если б не славные их подружки. Скорблю вместе с бедным Мишей Кюхельбекером и каждый раз радуюсь, получив письмецо от славной Авдотьи Ларионовны.
Нарымская мещанка Авдотья Кутаргина, выйдя замуж за члена Общества соединенных славян Николая Мозгалевского, поддерживала мужа в трудных обстоятельствах, после его смерти воспитала семь детей – была постоянно весела, исполнена надежды, вела переписку со многими из декабристов и пользовалась их любовью и уважением. Ив. Ив. Пущин уж в отношении этого семейства немало помаремьянствовал! Что касается до Михаила Карловича Кюхельбекера, то его брак с баргузинский мещанкой Токаревой был расторгнут происками епархии, и супруги подлежали разлучению. Они, однако, сражаясь с невзгодами, продолжали жить вместе, родили шесть дочерей. Девочки получили права состояния только в 1861 году после удочерения их генералом Одинцом, родственником Кюхельбекеров.
Как я узнал от Бестужева, он последнее время состоит в связи с местной буряткой; у них родился сын, которого любезно усыновил местный купец Старцов. Что за странная судьба у бестужевских детей – никогда не быть детьми Бестужева! Я спросил, отчего же не обвенчаться? Николай Александрович признался, что сделал бы это непременно, если бы не сестры, которые умоляли, в ногах валялись, даже Степовую вспоминали: все, что угодно, но только не брак с простолюдинкой, да еще и нерусского племени! Как я догадался, Николай Александрович не считал эти резоны сколько-нибудь разумными, но вынужден считаться с сестрами, все в столице бросившими и воспитывающими трех детей Михаила Александровича Бестужева.
А поздно вечером Николай Александрович разложил предо мною на столе несколько листков, пришедших недавно из Петербурга, несколько своих черновых, и вышел.
Если первые порывы его откровенности меня сильно тронули, то с каждым часом я все больше предчувствовал беду. То, что он счел нужным мне показать, было из той области, которую он оберегал от постороннего глаза всю жизнь, и, значит, всерьез не чаял дожить, да, наверное, уж и не хотел, боялся встречи.
По письмам, мне показанным (с разрешением все читать и списывать), я угадал момент, когда силы Николая Александровича кончились; пока он был в каторге, формально переписываться ему запрещено, и с ним – тоже (кроме близкой родни). Однако с выходом на поселение молчать стало невозможно.
В письме к сестре Елене (она еще не выехала из столицы, дело было 12 декабря 1841 года, то есть почти в 16-ю годовщину нашего бунта) Николая Бестужева вдруг прорвало:
«Боже мой, как мне жаль Михайлу Гавриловича, каков-то он, я видел про него страшный сон. Что поделывает Любовь Ивановна и ее милые дети?»
Вот ведь как: самое главное вскользь, в последней строчке. А Михайлу Гавриловича, в эту пору генерал-лейтенанта, директора штурманского училища в Кронштадте, было, наверное, за что жалеть «государственному преступнику, на поселении находящемуся», ибо кто измерит каторгу, прожитую Степовым, да ему в 1841-м уж 73-й год. Однако по следующим письмам я усумнился, что обращение к генералу лишь повод: сестра посетила Степовых; теперь, по прошествии лет, это не опасно, и младший брат, Павел Бестужев, незадолго до своей скорбной кончины получил, как видно, приглашение в генеральскую семью.
И вот читаю черновики. Старшие Бестужевы – брату Павлу:
«Благодарим тебя душевно за все приятные известия, которыми нас порадовал в последнем письме твоем. Но больше всех нас радует новость о свадьбе Софьи Михайловны; присылай, бога ради, цветки из ее венчального букета; поздравь ее от нас. Скажи, что мы молим бога о будущем ее благополучии и чтоб она походила нравом и характером на свою маменьку. Мы очень довольны, что ты подарил им всем по вещице нашей работы; если б мы знали, что это им приятно, то давно бы прислали им что-нибудь на память, но холодные поклоны Л. И. в письмах сестер нас останавливали. Если увидишь их, скажи Л. И., что одна строчка обрадовала бы нас наравне с родственными. Как бы мы желали, чтоб и дети ее также что-нибудь сами нам о себе сказали!»
В другой раз:
«Что поделывает Л. Ив.? Помнит ли она о бедных изгнанниках? Что же касается до милых ее детей, потому что я себе не могу представить их иначе, как детьми, – я не могу тебе выразить, как мне приятно было видеть их обо мне память».
Прочитал я и черновик письма Н. А. (по-французски, конечно) к самим девицам.
К старшей:
«Вы меня спрашиваете, помню ли я Лизу, тогда как мне приличнее сделать вопрос, помните ли Вы меня? Правда, что в те лета, в которых оставил я Вас, память уже хорошо действует – и потому я верю, я хочу тому верить, что Вы меня не забыли. Что же касается до меня, то я, конечно, Вас не забыл, ежели всякий день, вставая и ложась, молюсь богу за Вашего батюшку, маменьку и за Вас. Одного только я не могу себе представить: в каком виде маленькая Лиза сделалась большой девицей; я Вас иначе не могу вообразить, как семилетней Лизой. Все усилия моего воображения ограничиваются тем, что я Вас представляю в сарафанчике и ленте, пляшущую по-русски; и как бы я себе ни нарисовал Вас, кончается тем, что, поправляя, оттеняя и раскрашивая, я нарисую всегда одну и ту же Лизу, которую помню, знаю, люблю и которая своими ручонками обвивала мою шею. То же самое воображаю и о Sophie, о которой давно знаю, что она уже маменька: что же мне делать, когда при всех стараниях как-нибудь представить себе ее маменькой, я вижу только Фофу с куклою на руках и обеих вместе на моих коленях. Судьба, конечно, не позволит мне никогда уже видеть вас, и потому позвольте мне, старику, довольствоваться старыми воспоминаниями, которые всегда живы и никогда не изгладятся из памяти».
Софье, «Фофе», Степовой было еще и отдельно писано – судите сами, Евгений, что скрывается за каждою строкою!
«Не знаю, почему и несмотря на то что совесть моя давно меня упрекает, я не отдал должного Вам ответа, не писал к Вам, Софья Михайловна. Между тем бог свидетель, что Вы и Ваши сестрицы не выходите из моей памяти ни на минуту. Даже я отнял у Елены Александровны ваши дагерротипы и портреты и поставил на своем письменном столике, за которым сижу по несколько часов в день за своими занятиями. Отдых мой состоит в том, что я гляжу на вас всех и стараюсь угадать в матерях семейств тех милых детей, которые так много доставляли мне радостей в былое время! Почти двадцать лет прошло с тех пор, я состарился, Вы давно замужем, окружены детьми и говорите, что Фофа Ваша уже перерастает Вас. Итак, есть другая Фофа, которая носит то же имя, имя, которым мы называли Вас и которое так приятно звучит для моих воспоминаний.
Как хотите: будьте матерью семейства, пусть Вас сыщет счастье и богатство, сделайтесь знатною дамой – я всему этому буду радоваться; я буду перебирать все Ваши настоящие достоинства и окружающий Вас блеск…
Я должен Вам сказать истинную причину, почему я не писал Вам: я боялся своего сердца, мне было страшно высказать свои чувствования женщине, окруженной семейством, и высказать их как семилетней девочке, – я боялся, что это будет смешно, однако я теперь надеюсь, что Вы простили мне, если я вижу, что у меня, у которого отнято и нет ни настоящего, ни будущего, осталось одно только прошедшее, полное Вами, тем более дорогое, что оно только одно осталось!.. Этого прошедшего никто у меня не отнимет. Сам всемогущий бог, не лишив меня памяти, не в состоянии сделать, чтоб того не было, что уже было. Сверх всего этого, Вы напомнили самое счастливое время моей жизни, тихое, прекрасное, когда мы с братом Михаилом помогали почтенной и уважаемой Вашей матушке руководить Вашими младенческими понятиями.
Прочитав Ваше письмо к Елене, где Вы выражаете Ваше расположение ко всему нашему семейству, совесть моя переломила боязнь, и я пишу…
Не сердитесь за мой способ выражения того, сколь дорого мне Ваше воспоминание. Волосы мои седы, силы меня оставляют, но сердце мое тепло по-старому, потому что здесь я не истратил ни одной искры того, что у меня оставалось от прошлого».
Вот, брат Евгений, каковы были «внутренние происшествия» у Бестужевых.
Прошедшего ничто не отнимает…
Холодные поклоны от Л. И.
Но маленькие девочки, Лиза, семи лет, Софа, шести лет, Варя, трех лет, могут помнить Бестужева, если им кто-то с детства напоминает, и постоянно; и кто же, кроме самой Любови Ивановны, Любви Бестужевны?
Не знаю, сколь далеко простирались познания девочек об их близком человеке.
Одна за другой они делаются превосходительствами:
за генерала Гогеля – «Фофа»,
за генерала Яфимовича – Варвара,
за генерала Энгельгардта – Лиза.
Михаил Гаврилович оканчивает свой земной путь на 76-м году жизни, в 1845-м.
В те дни, что я был в Селенгинске, Иркутске, они наконец одиноки: Любовь Ивановна и Николай Александрович, но ничего не будет, и писем не будет.
– Зайдите к ней, Иван Иванович, если бог приведет, ей очень сейчас тяжко, а мне уж не нужно старое бередить.
Еще раз прибавил: «Это моя женщина была, потому что за 13 лет не наблюдал в ней ни одной не понравившейся мне интимности, черточки, жеста».
Я заметил, что Николай Александрович говорит, как моряк с мостика: «не наблюдал». Он улыбнулся: «Так учился, так учил».
Через шесть лет в Ялуторовске мы узнали, как скончался Николай Александрович: ехал ранней весною по озеру, а ветер холодный, но по пути отдал бедняку свою повозку и, весело посвистывая, заиграл со смертью; я не сомневаюсь ничуть, хотя доказательств никаких не имею, что и до того Н. А. не раз в такие известные нам игры пускался. На этот раз партия получилась: приехав домой, слег и не встал. Окончил дни на 65-м году, 15 мая 1855-го. Пережил, правда, тезку-императора, но года до амнистии не хватило.
Однако боялся он амнистии страшно и, думаю, не тронулся бы с места, как и брат Михаил, который еще 12 лет просидел в Сибири, не желая ни Петербурга, ни Москвы.
Когда Николай Бестужев умер, все часы, его руками сделанные, говорят, остановились.
И на том месте, у Селенги, где мы гуляли и толковали с Мишелем Б. о судьбе, теперь крест Николаю Бестужеву; какой, господи, человек был – ах, при всей моей демократической складке, все же не совру, что один стоил сотни.
А мы на следующую осень после его кончины потянулись к западу, под амнистию, и вот оказался я в Петербурге в начале 57-го года. Сразу попросил братца доехать к генеральше Степовой и оставить листочек мой – просьбу о приеме, но вот с чем брат мой вернулся: генеральша Любовь Ивановна Степовая скончалась 1856-го года, марта 20-го.
Так-то, Евгений.
Оставались девочки-генеральши, но к ним Николай Александрович не приказывал, а он был точный человек.
Жалею, жалею, что не повидался с его Любовью. В таких делах я не судья (хоть и судья бывший) и, возможно, слишком близок к одной стороне, а для равновесия следовало бы поспрашивать вторую; тем более что Бестужев в этой истории много понятнее мне: подобная страсть вообще кажется немыслимой, даже неправдоподобной, если б я сам не видел Николая Александровича ежедневно с 1828-го по 1839-й, а в 1849-м – последний раз.
Бывает, значит, на свете и такая любовь.
Героиня же этого романа – ее слишком легко упрекнуть, но, наверное, не стоит: она любила до предела своих сил, умела любить, а он любил до предела и через предел.
Мир праху и аминь.
Пройдет еще 11 лет, и незадолго до кончины своей, в 1869 году, Михаил Бестужев с детьми, родившимися в Селенгинске, отправится в Москву и Петербург. В столице, точно знаем, он повидался с одной или двумя «девочками-генеральшами», и читатель записок Ивана Ивановича может вообразить, какова получилась беседа. Знаем также, что М. А. оставил дочерям портрет их матери, сделанный братом по памяти в Читинском каземате. Сам Михаил Бестужев тоже вскоре окончил свои дни в Москве, малые же дети его, как видно непривычные к московскому воздуху, быстро померли один за другим, и остались на пепелище, после пяти братьев, после такой бурной истории рода, три несчастных престарелых сестры. Одна умерла в 1874, две – в 1889 году. Нет повести печальнее…
Вот вам, Евгений, и задачка – почему Боклерк? И теперь поймите, как я благодарил бога, что не только жены – невесты или даже постоянной возлюбленной в это время не имел. То есть в Москве была связь, которая все пыталась перейти в более высокий ранг привязанности, любви – но удержался, ибо при своем пылком, глупом нраве сильно боялся именно влюбиться.
С другой стороны, тяжко было нам, добрым молодцам, в казематах без красных девиц. Об этого рода пытке не принято писать – а отчего же? Нас все же держали построже, чем генерал-майора Зубова. Не помните этой московской истории?
Подделал превосходительство билет на 600 тысяч, сел вместе с сыном – и из тюрьмы (как раз в 1825 году!) просил разрешения жениться на дочери тюремного священника. По этому поводу император Александр сделал еще замечание моему Голицыну: «Что у тебя в Москве творится в тюрьмах?»
Таковы, Евгений, первые штрихи казематского моего портрета. А затем побежали недели и месяцы. Перестукиваться по своей системе Мишель Бестужев научил уж к весне, а в конце нашего следствия при известных доброжелательных надзирателях некоторые из нас исхитрились еще пением сообщаться.
Бывало затянешь – по-французски, конечно, – на какой-нибудь известный мотивчик вроде Сарафана. Получалась ария – примерно в таком духе:
О, мой друг, в нумере шестом
Имя свое назови мне, прошу.
Я Пущин Иван (Pouchtchine Jeannot!).
И уж слышу в ответ, например:
Жанно, бонжур, тебе я рад,
Сергей я Муравьев.
Скорей, скорей мне расскажи,
Где мой любимый брат?
А также, друг мой, расскажи —
Чем мучают тебя?
Завтра ожидаю Никиту Козлова: племянничек помог старика разыскать и утром привезет ко мне. Как видите, друг мой, и дня я в тюрьме не продержался, на волю! На волю!
А ведь чувствую себя лучше после тюремного воспоминания, точно как и было в действительности: за решеткой не допускал себя хворать, а на воле заболевал.
Окончена запись 27 октября
Далее – без указания даты, – но явно в эти же дни
Ожидал Никиту Тимофеевича, но он занемог, просил кланяться и обещает, что, как только встанет на ноги, тотчас без приглашения явится. Я бы сам к нему сходил, да сегодня и мне худо, как давно уж не было, и голос пропал.
А каков был крикун!
Модного доктора, приглашенного сестрами чинить мои хворости, кажется, все сильнее пугаю. Утешаюсь, что не надолго. Так-то, друг Евгений Иванович, два немощных старичка друг дружку не найдут: одному, правда, 60, а другому – Никите Тимофеевичу – восемьдесят, арифметика не в мою пользу.
Эх, опять пустился в элегические аккорды, снова забыл главное правило, что, чем хуже – тем уж лучше! И по этому случаю замечу вам, что вообще-то годы считать пустое дело. В газете прочел недавно, что на английской фабрике владелец велел некоторые машины вдвое скорее пускать, и оттого рабочий на той фабрике за те же девять часов тратит сил и нервов против прежнего вдвое, то есть за один день проживает два (а прибавки в деньгах почти не получает, хотя товару производит тоже вдвое больше).
Точно так происходит со многими известными людьми. Пушкин, к примеру, прожил как будто 38 без малого лет. Пустяки! У него колеса машины вертелись, так сказать, раз в двадцать быстрее, плотнее, чем у обычных людей; и сил, и нервов, и мозга расходовалось в двадцать раз – в сравнении, например, со мною. Другой бы не выдержал такого износу (за который тоже – увы! – не дают прибавки!) – так Пушкин все же не другой!
Я проживу моих 60 с небольшим лет, а Пушкин – помножь 38 на двадцать – 760 лет! Вот слышу я – Лермонтов погиб 27 лет, и скорблю, ибо по моей таблице прожил он лет 400, а мог бы хоть 800! Вольтеровы 84 года спокойно считаю за тысячу. Любимый же мой автор Дон Кихота за 69 своих лет берет никак не меньше 12 веков.
Может быть, эти люди оттого и любезны последующим поколениям, что, если их необыкновенные жизни представить в нормальном масштабе, тогда выйдет: Сервантес до сего дня еще и четверти положенных ему лет не прожил, а Пушкин мой будет здоров и весел даже в 2500 году.
Встречаются, впрочем, и обратные биографии; тот, кто за свои сто лет не больше проживет, чем его сосед за 25: эдакая замедленная спячка; про нас, людей 14 декабря, думаю, что если пред 1825-м проживали за один год три, то после – в казематах и на поселении – существовали замедленно, три за год, и в конце концов приход с расходом сошлись, и вышли мы обычными нешумными людьми. А все же, кто уцелел, вышел на волю, – опять хочется побыстрее ту машину запустить, и вроде бы —
На старости я сызнова живу…
Все кажется, будто наверстываю упущенное. Так что, друг Евгений, не умею даже сказать, сколько же мне сегодня настоящих лет. И чтобы выболтать до конца мою старческую теорию о жизненных временах, скажу, что недавно нашел странное сравнение своей судьбы и наших пяти казненных товарищей.
Они ведь не думали, что их повесят (или если воображали такой оборот дела, то не более, чем мы все, допускавшие такую участь для каждого). Кондратий Федорович, к примеру, до самого 12 июля 1826-го, когда объявили приговор, мог еще думать о своем будущем времени, о себе в 1827, 1835, 1858-м. Только после объявления виселицы, на протяжении одного дня, 12 июля 1826 года, он точно знал, что не для него 1827-й – и следующие все не для него. Только один день (хотя его надо множить, по моей арифметике, на 100, а может быть, на тысячу – по напряженности последних мыслей и страстей).
Я же, друг мой, точно, доподлинно и давно знаю, что не жить мне в 1860-м, никогда не увидеть дождя, рассвета, листьев осенних в 1861-м, 63-м. И почему-то очень жалко не только себя, но (не смейтесь!) и тех людей, и тех листьев, что уж явятся без Пущина. Как же им, бедным, одиноко будет без меня!
Впрочем, Евгений, даже 1859-й, хотя до него рукой подать, кажется скользкой, неприступной вершиной, до которой мне пыхтеть и кряхтеть.
Пока же ко мне собирается Никита Тимофеевич, вернемся-ка, Евгений, в молодые тюремные годы, полетим-ка зимовать в дальние края, 1826 год.
Рассказывая вам подробно о капитане Беляеве, добром моем знакомом, я, кажется, посетовал на его единственный недостаток – на его отсутствие. Некоторые из наших страдали от одиночного режима пуще, чем от любой пытки. Не могу, впрочем, этого о себе сказать, имея немало постоянных собеседников. Прежде всего – самого себя; королей и императоров тоже оказалось много больше, чем я полагал спервоначалу. Хорошо и медленно прошелся по древним, но конечно же – с особенным тщанием – по российским. Однажды с утра я заладил с Рюриком, несколько замялся после Владимира Мономаха. Дальше совсем легко – по великим московским князьям и царям; а как до императоров дошел, то встал во фрунт, затем и на голову встал для гимнастики – выкрикиваю: Ее императорское величество Анна Иоанновна, с 1730-го по 1740-й! Е. и. в. Иоанн Антонович, с 1740-го по 1741-й! Е. и. в. Елизавета Петровна! Петр Федорович! Екатерина II Алексеевна! Е. и. в. Павел Петрович царствовал с 7 ноября 1796-го по 11 марта 1801-го!
Как раз на Павле Петровиче дверь отворилась, и Лилиенанкер нашел меня в позиции обратного перпендикуляра или – в просторечии – ногами вверх.
На этого шведа-надзирателя Бестужев Михаил долго грешил, будто он глухонемой: ни звука, объясняется только жестами, старости неопределенной; есть такие фигуры, возраст которых умещается в любом месте меж 40 и 70. Говорили, будто он совершил какое-то тяжкое преступление и был вместо кандалов назначен надзирать в крепости, а затем на этой должности и прижился.
Поэтому я немало смутился, услышав впервые его голос и довольно правильную русскую речь:
– Простите, сударь, вы кричите очень громко, и я вынужден вам заметить, что император Павел Петрович скончался не 11 марта 1801 года, как вы изволили воскликнуть, но 12 марта того же года.
Разговорившись, глухонемой не желал остановиться:
– Я стоял во внешнем карауле той ночью и видел, как Бенигсен и Зубовы пришли во дворец. Незадолго пред тем пробила полночь, шум начался примерно чрез полчаса, а около часу или даже несколько позже граф Пален поздравил нас с новым императором Александром Павловичем.
Все царствование Павла, сударь, продолжалось точно, как предсказал Авель, 4 года 4 месяца 4 дня и 4 часа.
Я продолжал слушать странного надзирателя с растущим любопытством. Точная длительность павловского правления была именно такой, как он сказал. Я слыхал, разумеется, и о прорицателе, однако, для поощрения своего собеседника, сделал вид, будто узнал это громкое имя в первый раз.
Надзиратель поведал Ив. Ив-чу о монахе Авеле, которого несколько раз привозили в крепость за его смелые прорицания, а затем освобождали, ибо все предсказания будто бы сбывались. Лилиенанкер утверждал, будто советовал монаху себя укоротить и не открывать своих видений, а тот отвечал: «Хоть раз совру – свой дар утрачу».
Позже товарищи мои по казематам долго мне не хотели верить, когда я им передавал беседу со шведом, ибо никто так и не услышал от него двух слов; только Якушкин спас мою репутацию: оказывается, и он успел однажды разговорить молчальника насчет религиозных идей и узнал, что г-н Лилиенанкер являет собой особенный тип суеверного атеиста, ибо решительно отрицает бога-отца, сына, святого духа, но верит в черную кошку, подкову и зайцев, дорогу перебегающих, еще сильнее, чем Александр Сергеевич Пушкин.
Вот, Евгений, отчет о моем первом собеседнике или, если посчитать меня самого, – так о втором.
Но Никита Козлов все не едет, и я продолжаю рассказ о моей нескучной тюрьме.








