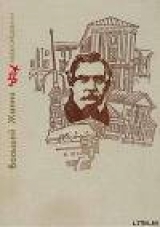
Текст книги "Большой Жанно. Повесть об Иване Пущине"
Автор книги: Натан Эйдельман
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 23 страниц)
Из анекдотов и пр. с той пирушки
Казимирский шепотом предложил спеть: мы ожидали Марсельезы, но он ловко спародировал малороссийский говор Горбачевского:
И не пий, и не лий,
И люби, и не бий.
А мы подхватили в пять шепотов:
Буду пить, буду лить,
Буду любить, буду бить!
* * *
Нарышкин сказывал, что обнаружена старинная музыка, сочиненная самим Иваном Грозным, можно назвать: «Концерт для плахи с оркестром».
* * *
Матвей: недавно важный нижегородский чиновник из старинной фамилии, лупцуя купцов палкой, приговаривал:
– Вы алтынники, мы же благородное дворянство, у нас декабристы были, а вам только бы наживаться!
* * *
На одного псковского конторщика донесли, что он повесил у себя на квартире портрет государственного преступника Герцена. Явились жандармы.
Конторщик: Я повесил этого злодея, дабы с каждым взглядом на сей портрет ненависть моя к нему непрерывно усиливалась.
* * *
О крестьянском вопросе толковали немало; было, между прочим, сказано:
«Z[7]7
Понятно, что таким образом И. И. шифрует государя Александра II.
[Закрыть] наш, как медведь, нелегко сказать, что думает».
* * *
Славное римское надгробие: «Гражданин такой-то не был. Был. Никогда не будет».
* * *
Время не стояло. Просидели, будто на лицейской сходке, с половины четвертого до половины десятого – и обнялись, прощаясь, все со всеми. Нарышкин не забыл любимого напутствия:
«Друзья, не станем пить воды.
От них великия беды».
Волконский же парировал: «Есть что слушать, а нечего кушать». Сергея Григорьевича я с особенным чувством обнял, ибо послезавтра он отправляется в Париж, и думаю – не свидеться нам больше. Однако ничего подобного вслух не высказал.
Завтра жду Казимирского – толковать о Пушкине. Чуть не написал – «жду Пушкина с Казимирским».
22 сентября 1858-го. Казимирский
«Из поручиков в фельдмаршалы все же легче, чем из мичманов в цари»; отсюда поймете, что Яков Дмитриевич эту свою присказку не забывает. Сперва я в ней никакого смыслу не видел, кроме обыкновенного пикирования сухопутных и флотских. А сейчас померещилось – не скрыто ли тут чисто российское мечтательное рассуждение, сочиненное неким поручиком, которому дальше майора не выслужиться?
Прежде чем я вернул нашего жандармушку к вчерашнему пушкинскому делу, чрезвычайно меня занимавшему, он мне поднес две выписки из архивов, да каких!
Вот что значит – своего человека там иметь! Копирую для вас, Евгений, с аптекарской точностью.
Первое – из дел дежурного генерала: нумер 349 за 1826 год, лист второй:
«Сестра коллежского асессора и капитана коннопионерного эскадрона Пущиных[8]8
У Ивана Ивановича было одиннадцать братьев и сестер.
[Закрыть] просит о дозволении ей и всему их семейству иметь свидание с помянутыми ее братьями».
На полях рукою покойного Николая Павловича: «Когда все кончится!»
Из этого страдальческого восклицания (дело происходит в июле 1826-го, как раз когда одних казнят, других отправляют) дежурный генерал Потапов сделал вывод, что свидание дозволяется, и запросил – «какая сестра?»; отвечено – Анна Пущина.
18 июля «дано дозволение на свидание».
Подпись: генерал-адъютант Потапов.
Одновременно с «коллежским асессором» Иваном Пущиным в крепости сидел и младший брат капитан Михаил Пущин, который был сослан в Сибирь, затем рядовым на Кавказ, выслужился в офицеры; после был окончательно прощен (скорее всего, благодаря слабости императора, вернее, еще великого князя Николая, к этому исправному военному). В 1858-м году Михаил Иванович Пущин служил уже в генеральском чине. Е. Я.
Мне ли не помнить того свидания, пред отправкой в Шлиссельбург, а потом в Сибирь; но, как понимаете, я все это переписал не ради своей или братниной персоны, а из-за «когда все кончится!».
И в самом деле – когда же?
Вторая архивная бумага еще занятнее, и, если б Яков Дмитриевич не слыхал от меня этой байки раз пять, он никогда бы не догадался.
Из бумаг того же дежурного генерала:
Дело о штабс-капитане Беляеве
Сначала запрос за подписью военного министра Татищева Потапову о служившем в 1820-м или 1821-м в Киевском гренадерском полку штабс-капитане Беляеве; запрос передается в инспекторский департамент; в Киевском полку таковой никогда не числился, но директор инспекторского департамента 16 января 26 года представляет следствию списки о всех офицерах с такой фамилией «на 1815-й, 1820-й и 21-й – в других полках и батальонах».
Списки на всех офицеров Беляевых!
А вы, Евгений Иванович, разумеете?
Вот вам еще один вид «реальной нереальности» (как в истории с Лихаревым). Но, слава богу, фата-моргана возникала не только в нашем революционном воображении, – кажется, буквально во всех делах и бумагах.
Спросили меня чуть ли не на первом допросе: «Кем принят в тайный союз?» Отвечаю, не моргнув: «Принят в 1821-м штабс-капитаном Киевского гренадерского полка Беляевым».
И вот, оказывается, на штабс-капитана моего выдали ордер, отпустили прогоны, пошли запросы, писанина. Несколько чиновников заняты исключительно тем, что ищут по всем полкам всех Беляевых: вот-вот грянет гром над тихим штабс-капитаном (а, может, с тех пор уж выслужился). Простите меня, неведомые Беляевы, которых я невольно всполошил: выдумал я своего штабс-капитана – просто подвернулся мне на язык почему-то именно этот чин, этот полк, эта фамилия.
Долго прожил мой Беляев – всю зиму с 25-го на 26-й год, – пока не привели меня на очную ставку с незабвенным Иваном Григорьевичем Бурцевым, а он, осердясь, кричал на меня: «Да я тебя принял в общество, я; признавайся и поскорее, а то мне одни через тебя хлопоты!!»
Ну как тут не признаться? Я сразу же крепко покаялся в своем дурном поведении и клялся, что впредь буду называть тех, кто меня принял, – так даже в этом раскаянии мой следователь, граф Чернышев, насмешку увидел. Впрочем, так или иначе, Беляев с тех пор исчез, сгинул. Думал, не повстречаемся более – а, глядь, Яков Дмитриевич вдруг привел старого знакомого. Так и хотелось: «Давно не виделись, капитанина! Как жил, служил, жена, детки?»
А теперь – говорю Казимирскому – хватит Пущиных, выкладывай насчет Пушкина, а то я после Беляева уж решительно не разумею, что есть быль и где небыль.
Яков Дмитриевич: Да нечего выкладывать, Сергей Александрович Соболевский, отправляясь за границу, случайно сошелся со мною в одном петербургском доме, мы как-то разговорились, и он, узнав мой чин и должность, вдруг спрашивает: «По случайности Пушкина не имели под своей, так сказать, опекою?»
Я сперва и не понял; говорю – «имел», разумея Бобрищева-Пушкина.
Декабристы Николай и Павел Бобрищевы-Пушкины; Николай уже в 1827 году был аттестован сибирскими властями как умалишенный, но был возвращен на волю (так же как и ходивший за ним младший брат) только 29 лет спустя. Е. Я.
– Да нет, не Бобрищевых, а поэта, Александра Сергеевича, друга моего.
Я отвечал, что, к счастью, нет – поэта опекать не довелось.
Соболевский же на это заметил, что неизвестно, к счастью ли?
– Надзирали за тем Пушкиным многие, да не уберегли. Может быть, как раз вы бы сумели. И себя, горько очень, Соболевский клял, что уехал из России именно тогда, когда поэту нужен был добрый друг; раза три он уверенно повторил, что, если б находился во время дуэли в Петербурге, ни за что бы не допустил…
Я слушал Казимирского нетерпеливо, удивляясь, зачем он, так сказать, не перейдет к делу. Соболевского я едва знал, но слышал, что Пушкин с ним вместе и проказничал, и бражничал, и умничал… Ну да ладно, «знакомых тьма – а друга нет!».
– Так где же, – спрашиваю, – то самое мое письмецо, в Михайловское?
Яков Дмитриевич: Сейчас явится, не торопите. Соболевский о вашем письме ничего не сказал: либо не знал, либо позабыл. Он только сообщил мне как общеизвестное, что Пушкин выехал из Михайловского накануне 14 декабря, и если бы не попались дурные приметы, один раз заяц, другой раз поп, то приехал бы прямо к мятежу на квартиру Рылеева и бухнулся бы в самый кипяток мятежа, дальнейшее можно вообразить!
Ничего этого в моем сибирском погребе я не слыхал, все узнаю впервые и сразу же спрашиваю Казимирского:
– Почему же думаете, что Александр Сергеевич по моему письму ехал?
– Да, во-первых, – отвечает, – вы однажды, в Ялуторовске, обмолвились (а я запомнил), что во время последнего свидания в Михайловском советовали Пушкину, если уж являться без разрешения в столицу, то заехать на квартиру к Рылееву, который чужд большого света; но только не к кому-нибудь из старинных лицейских или светских приятелей, которые куда более посещаемы, более на виду и оттого опаснее: полиция пронюхает мигом… Запало в мою жандармскую память сие любопытное совпадение: квартира главного заговорщика надежнее любого аристократического особняка… Вот я и подумал, что Пушкин собрался в путь по вашему плану.
Я: Но откуда знаете о письме? Ведь Александр Сергеевич мог отправиться в путь, и не получив моей цидулы, просто взбудораженный междуцарствием… Откуда знаете о письме?
Казимирский: Простое сопоставление фактов. Соболевский меня только навел на мысль, что вы как-то замешаны в этих пушкинских отъездах и приездах. А несколько дней назад мои подозрения подтвердил один молодой человек, прямо сообщил о том вашем последнем письме как о чем-то тривиальном.
– Кто же?
– Александр Александрович Пушкин.
– Сын? Никогда его не видел, но ведь ему было годика четыре, когда отца убили!
Тут Яков Дмитриевич терпеливо объяснил, что ему на одном из приемов представили офицерика – весьма молчаливого. Не склонный пускаться в родственный разговор, только и упомянул двух своих «дядьев», но Казимирский, узнав, что перед ним сын поэта, тут же передал добрый привет от незнакомого Пущина, «первого, бесценного друга» отца (я прошу извинения, но Яков Дмитриевич настаивает, что он именно таким образом выразился). Ал. Ал. Пушкин, судя по всему, не сильно разгорячился моим заочным поклоном, но, между прочим, вспомнил (с оттенком упрека – так, во всяком случае, показалось Казимирскому), как Пущин прислал папа письмо в Михайловское перед 14 декабря, чтобы ехал в Петербург, и папа поехал… А далее все, как в рассказе Соболевского: зайцы, попы и т. п.
– Откуда же он знает о письме?
– Дядя, говорит, рассказал. Лев Сергеевич Пушкин.
Да, это правдоподобно: у покойного Левушки память была необыкновенная.
Значит, Александр Сергеевич мое письмо получил, рассказал Льву, а Лев умер шесть лет назад, племяннику его тогда было уже 19 лет, и он мог все понять… Тут вспомнил я, что Казимирский упомянул о «двух дядьях» Александра Александровича Пушкина. Кто второй? У моего Пушкина ведь был один брат.
– Не догадываешься?
– Нет.
– Жорж Дантес! Муж тетушки Катерины Николаевны.
Ладно, пройдем мимо… Главное – история с письмом, вызывающая у меня сразу мильон вопросов, и ради этого надо ехать в Петербург, куда я еду и без этой истории. Аминь.
Того же 22 сентября. Вечер
«Мир ловил меня, но не поймал».
Так, говорят, велел написать на своем надгробии мудрый человек, Григорий Сковорода.
Я же ради вас… Нет, наполовину ради вас (остальное отнесите на счет моего любопытства) поехал после беседы с Я. Д. делать визиты и упарился так, что пишу за полночь.
Сперва явился по приглашению графини Закревской. Не отказал генерал-губернаторше, хотя дурная слава ее уже и в Лондоне пропечатана.
Ал. Ив. Герцен в своем «Колоколе» не раз помещал разоблачительные материалы против печальной памяти московского главнокомандующего графа Арсения Андреевича Закревского и его знаменитой, супруги Аграфены Федоровны. Е. Я.
У нее дурное имя, я же, по словам моего московского главнокомандующего Дмитрия Голицына, «имел хорошее имя в Москве».
Итак, добродетельный преступник едет к дурной губернаторше.
Она – моя ровесница; оригинальна, нервна, минутно – хороша до невероятия, но лишь минутно. Мешает, что много знаю о ней, и она знает, что знаю: и о Баратынском, и о Пушкине, и еще о многих; знаю, что именно она – «беззаконная комета в кругу расчисленном светил».
Но знаю также, что несколько лет назад граф (коего все в Москве так же сильно боятся, как он жены своей) – граф Закревский застал графиню в объятиях лакея и, не выдержав, осмелился воскликнуть:
– Лакей! Это уж чересчур!
На что и последовал мгновенный отпор:
– Вот до чего ты меня довел!
Для меня оставалось загадкой, зачем она зовет в гости, зачем я ей? Несколько светских фраз; намек, что могу безбоязненно задержаться (спасибо! спасибо!), и вдруг, неожиданно:
Декабристам запрещалось пребывание в столицах, кроме как на краткий срок и по специальному разрешению. Генерал Закревский безжалостно выгнал из Москвы моего отца, нуждавшегося в серьезном лечении, что, конечно, ускорило его кончину. Е. Я.
– Мне Александр Сергеевич сказывал про вас…
– ???
А. Ф. повествует о любовной интриге ее с Пушкиным. Вспоминает, как с Пушкиным, «в отличие от многих других», всегда было интересно. Я верю, потому что А. С. умел говорить с ними на их языке.
– Вы, кажется, недавно женились?
– Да, графиня.
– Александр Сергеевич говорил мне, что это вам не пойдет…
– Он прав, если иметь в виду того Пущина, которого он знал, но сейчас, мадам, перед вами Пущин, совершенно неведомый нашему Пушкину.
И тут я, не знаю почему, рассказываю ей историю, мне чести не делающую (и, конечно, вам известную, но не от меня: пусть будет и от меня).
А дело простое: связался я с одной сибирячкой, ждет от меня ребенка, требует законного брака; чуть не отправились мы к венцу, и тут видит она у меня пистолет.
– Зачем вам пистолет?
– Да вот, говорю, обвенчаемся, чтоб не было позору, да и застрелюсь: не могу же я (то есть тогдашний Пущин!) сделаться женатым человеком.
А я ведь и вправду б себя прикончил: в ту пору особенно скучно было…
Ну, пошептались, договорились: я забираю ребенка и обеспечиваю. А моя дама славу приобрела, что из-за нее стрелялись…
У Ивана Ивановича было двое детей, родившихся в Сибири, – сын Ванечка и дочь Аннушка, о которых он нежно заботился. Е. Я.
Закревской мой стыдный рассказ понравился, и она обещала когда-нибудь приехать ко мне запросто и рассказать, как прощалась с Пушкиным. Я отвечал, что знаю о том немало, но услышал в ответ:
– Моей истории не знаете.
Торопясь куда-то, губернаторша успела обрисовать как бы контуры будущего своего рассказа (да, боюсь, что подробностей мне уж никогда не услышать). История в ее изложении такая:
Отпевали Пушкина 1 февраля 1837 года с утра в Конюшенной церкви, а мы там заперлись с вечера: десять дам и девиц, – более никого. Понятно, ночь, страхи… Ну, я и начала рассказывать о покойном свое: как понимаете, весьма интимное. Я в ту пору любила все выставлять как есть, и даже хуже! За мною разговорилась вторая, третья, поведали свои истории с поэтом; кое-кто, полагаю, присочинил свой адюльтер; другие описали отношения платонически, но не было ни одной, которая бы не нашла хотя нескольких потаенных воспоминаний; и тогда я воскликнула: «Что за дамский Декамерон – в ночь-то перед отпеванием, у мертвого тела! Хоть и грех тяжкий, а думаю, покойный, если слышал наши разговоры, немало радовался…»
В следующий раз Закревская обещает вспомнить весь тот Декамерон до мельчайших подробностей. Признавшись, что теперь не с кем о тех незабвенных днях потолковать, графиня поднялась: «Приходите свободно, прошу вас» – и подала руку.
Вспомнил тут я совсем некстати из последнего «Колокола», вспомнил, вздохнул, руку поцеловал, простился – и к Андрею Васильевичу.
Ив. Ив. подразумевает, вероятно, напечатанные в ту пору Герценом разоблачения г-жи Закревской: она наживала немалые суммы посредством незаконной торговли сукном – разумеется, благодаря мужниной протекции. «Колокол» писал: «Все эти Клейнмихели, Закревские и прочие большие и малые рыцари с девизам «рука руку моет» и доселе бодро стоят на страже беззакония и произвола». Впоследствии Закревский пал именно благодаря чрезмерным проделкам своей супруги (она выдала второй раз замуж свою неразведенную дочь!). Е. Я.
Андрей Васильевич
В Москве было бы кого навестить – старинных возлюбленных, например; но боюсь (как Пушкин говаривал) – «чай, дьявольски состарелись». И коли посещать седины и морщины – так уж выбираю самые почтенные и отправляюсь к двоюродному деду моему генерал-майору Андрею Васильевичу Пущину. Ему 117-й год. Живет в любимом моем московском уголке, у Спаса на Песках, в том доме, где 34 года назад снимал квартиру молодой надворный судья Иван Пущин, имевший в Москве хорошее имя и бог знает о чем мечтавший, отсюда – ездивший в Михайловское; отсюда – отправившийся в Петербург бунтовать и вследствие того 30 с лишним лет Москвы не видавший.
Свернул с Арбата, гляжу – мой Спас на Песках стоит как старый приятель и спрашивает: «Где ж ты, брат, так долго пропадал?»; а рядом Трубниковский переулок зовет зайти, Собачья площадка – не побрезговать, и дворики улыбаются; а я сгреб опавшие листья, ей-богу очень похожие на те, что лежали осенью 1825-го. Ну да ладно, проза и только!
Нет, говорю я себе, ты, Иван Иванович, все-таки не знаешь внутренних происшествий, зайдем-ка к дедушке, уж он наставит!
Андрей Васильевич мой вышел в парадном екатерининском мундире и при всех регалиях, даже марокканских (последние получил не помню за что и очень гордился, ибо ни у кого не было!), обнял меня старец, расцеловал, но совсем не удивился: я решил было, что он не узнает, ан ошибся: «Ванюша, Ванюша! Как славно, что тебя в Лицей зачислили, хотя болею сердцем за Петрушу».
Тут я сразу догадался, что ему в сей момент всего лишь 70 лет, а на дворе 1811 год, когда меня взяли в Лицей, а кузена моего Петра Павловича Пущина, тоже выдержавшего вступительный экзамен, не взяли, так как государь желал, чтобы от каждой фамилии было в Лицее не более одного представителя.
– Дедушка, – отвечаю, – да я уж царскосельский лицей окончил, – сказал и жду, что же засим последует?
– Да знаю, дружок, – спокойно объявляет А. В., – только уж, прости, в надворный суд – это напрасно, это погорячился из гвардейской артиллерии-то в судьи – тут какой-то фокус…
Выйдя в отставку после стычки с великим князем Михаилом Павловичем, Иван Иванович перешел из гвардии в московские надворные судьи, что было по тем временам нечто вроде недавнего хождения образованных людей в народ. Иваном Ивановичем руководили при этом благородные стремления, связанные, впрочем, с планами тайного общества – укрепиться в разных сферах государственного управления. Е. Я.
Гляжу, ну все-все помнит мой старик, все хитросплетения моей карьеры знает, и мне показалось – так близко принимает к сердцу, что вот-вот начнет плакать из-за моего фокуса; но присмотрелся – вижу, просто за минуту А. В. из 1811-го перенесся в 1824-й, на глазах состарился; а тут вдруг сверкнул очами и пошел вспять: к победам 1812 года, потом к рождению моему – всех братьев, сестер, кузиночек перебрал, и про какой год вспомнит, ей-богу, на такой и выглядит! О моем рождении, например, толкует 57-летний бравый сокрушитель многих добродетелей – затем снова стареет, но на 1825-м – стоп! Далее ни на шаг; дальше – не вспоминает и не стареет: ему как будто и не рассказали, что я был арестован, а он, видно, не спросил. Нет, скорее всего узнал, но усилием воли позабыл, приказал позабыть! Застыл на 1825-м: подумаешь, всего 33 года назад!
– Ванечка, помнишь, как императрица Елизавета в Москву-то приезжала?
Я сперва решил, что речь идет об Елизавете Алексеевне, и хотел поведать деду, что в Лицее мы все одно время повлюблялись в супругу Александра, но вдруг слышу:
– Елизавет приезжала, а с нею граф Алексей Григорьич Разумовский, и еще в Троицкую лавру обет дали идти пешком, а шли по версте в день, и так целых два месяца. Весь двор следом, а я, юнец, с ними – и весело-то как, да тебя ли не было там?
Понимаю, что дело относится к императрице Елизавете Петровне – и действие происходит в 1755 году, то бишь 103 года назад…
– Да ведь это было, дедушка, за 43 года до моего рождения…
А. В. открыл рот, да как захохочет:
– Может, ты, брат, просто не захотел там быть и решил попозже с визитом явиться.
– Да с визитом к кому?
– Да в этот мир с визитом!
Понял я, что деда не собьешь: не им время владеет, а он – временем: захочет – пошлет меня к Елизавете Петровне или Павлу I; пожелает, так и арест мой придержит.
А пока я все это смекаю, дед продолжает веселиться, предлагает закусить и, между прочим, сообщает мне два самых последних анекдота (каждому, как увидите, никак не меньше, чем лет 85–90):
1. Демидов одалживал миллионы каждому, но отказал императрице (я не понял только, какой именно императрице – Елизавете или Анне!). «У меня, – говорит Демидов, – обычай: ни гроша тому, кто может меня посечь!»
2. Смоленский губернатор однажды жаловался, что про него распускают лживые слухи, будто взятки берет. Услыхав это сетование, граф Алексей Григорьевич Орлов посоветовал: «А ты, брат, поступай, как я: про меня в Италии болтали, будто я древние статуи ворую; но как только я перестал их воровать, сразу болтовня прекратилась!»
Под конец дед внезапно меняет тему и восклицает:
– Если б господь бог знал, что будет сочинена такая ужасная пиеса, как шиллеровы «Разбойники», он бы не стал создавать этот мир. Я молюсь, чтобы этого Шиллера отозвали.
– Дедушка, так Шиллер же скончался в 1805-м!
– Ну и что же? Я говорю – надо отозвать.
Обнял я деда, самого свободного из мне известных людей; впрочем, прощаясь, и он пожаловался:
– Знаешь ли, друг мой, отчего в мире так много войн, обмана, крестьян тиранят (господи, да он еще и либерал!)?
– Отчего же?
– Как же ты, Ваня, не понимаешь: да оттого, что со мною худо обращаются.
– Кто же обижает вас?
– Да все обижают! Дети, внуки обижают: дерзят, умирают без спросу. Если бы со мною хорошо обращались, в мире все было бы в порядке. Вот и ты – добрый мальчик, однако, если еще задержишься в надворных судьях, значит, мне огорчений прибавишь, и в мире вследствие того обязательно произойдет нечто унылое.
– Нет, дедушка, клянусь, что не задержусь.
Уже на пороге поддался я все же детскому соблазну и спросил А. В., давно ли Пушкиных видел?
– Сергея Львовича давненько, а Василия Львовича на пасхе (и ведь действительно, только 1830 года; а про Александра Сергеевича дед, конечно, и не слыхал).
– Прощай, мой друг, и не вздумай затесаться в эти тайные общества или как их там – мартинисты, розенкрейцеры. Если ты ослушаешься – еще раз меня огорчишь, а вследствие этого, знаешь, что в мире может произойтить?
Вот что, Евгений, терплю я из-за вас!
Впрочем, не проехал и 60 верст от дому, а уж где не побывал: и в 825-м, и в 49-м, и в 11-м, и даже – при Елизавете Петровне; и как рад, что со Спасом на Песках свиделись! Но все же от коляски до кровати, ей-богу, шел, пришепетывая ногами! Как быть?








