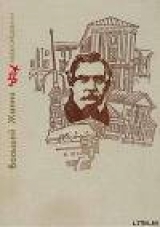
Текст книги "Большой Жанно. Повесть об Иване Пущине"
Автор книги: Натан Эйдельман
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 23 страниц)
Ох, и бунт российский – и подавление отечественное!
Картечь засвистела (и между прочим, не только в нас, но и в своих, павловцев).
Один солдат пригнулся – другие еще успевали ерничать: «Не низко ли кланяешься?» А потом в нас ударило. Кровь брызнула. И последняя, кажется, улыбка: вижу Александра Николаевича Сутгофа, как памятник неподвижный среди бегущих и падающих.
– Вы что? Уходите скорее!
– Не могу.
– Почему же?
– У меня жалованье целой роты.
Он ведь думал, в поход придется идти, за свое дело воевать – как Риего.
Гренадеры его, к счастью, были под рукою: «Ваше благородие, да провались оно, жалованье, идемте голову спасать…»
Так и уходил я с площади, почему-то размышляя о лейб-гренадерском жалованье и что, может быть, следовало (как прежде рассуждали) отступить, отойти к военным поселениям.
И вот все побежало, помню – один Мишель Кюхельбекер остался. После узнаю, что подошел младший Кюхля к генералу Мартынову, чтобы отдать саблю, а на него наехал полковник Засс и уж хочет мятежника рубить. Мартынов, однако, остановил молодца: «Ай да храбрый полковник Засс! Вы не видите разве, что он вручил мне свою саблю?»
Вот так и отвоевались – отсмеялись вволю. Да все вспоминаю, как Лунин с особенным выражением – «солдатиков жалко».
Снова, снова и снова обмысливаю, что шли они за Константином – имя вело, – а имени-то не было, ибо Константин ни при чем, призрак…
Но силен же призрак. Мне Саша Одоевский тогда на площади, еще до картечи, рассказал (я этот эпизод и сам прежде знал, но запамятовал) – что вот так же в 1730 году, сразу после внезапной кончины Петра II, князь Иван Долгорукий подделал завещание умершего в пользу своей сестры, царской невесты Катерины Долгорукой, а затем вышел к офицерам, шпага наголо: «Да здравствует императрица Екатерина!»
Однако никто не отвечал – и князь Иван отправился домой то завещание сжигать, а вскоре и сам был уничтожен.
Вот ведь тоже был призрак и выглядел нашего, пожалуй, не хуже, надежнее: несостоявшаяся Екатерина II Долгорукая была, в отличие от Константина, готова на царство, и брата бы не ослушалась, и фальшивость завещания не была очевидной – может, и в самом деле умирающий Петр II подмахнул.
Отчего же не получилось?
Да не было жизни, крови, души в том «vivat!», которое возгласил князь Иван, – ни офицеры, ни солдаты не шелохнулись.
А наш-то Константин: все время слух – будто приехал, уехал, сидит в Сенате, сейчас выйдет с волей и т. п. Будущий историк, чего доброго, напишет, что мы-де обманули солдат и тем их погубили.
Отвечу: мы ведь не собирались обманом держаться. Прежде чем солдаты догадались бы, что дело не в Константине, революция уж сослужила бы им службу, освободила их самих и крепостных людей!
Без Константина они бы не поднялись – но поднявшись, уж не вернулись бы…
И еще одно странное, нелепое обстоятельство утешает меня, хотя постоянно и всегда жаль и жаль солдатиков, – и все равно грех…
А вот какое обстоятельство.
За редкими исключениями, солдаты ушли в Сибирь, под розги, на Кавказ, в дальние гарнизоны, – на нас никогда не обижаясь.
Ив. Ив. под «исключением» имел в виду, кажется, эпизод, случившийся на юге во время восстания Черниговского полка. Когда бунтовщики были рассеяны пушками, один из них пытался убить Сергея Муравьева-Апостола «за обман», однако его остановили другие солдаты.
Почему же солдаты нам простили?
А вот почему: разоруженным солдатам после объявили, что все наши рассказы про Константина – ложь, офицерские выдумки и что законный государь – Николай Павлович.
Однако я уж приводил вам примеры, как русский человек задним умом крепок – и, конечно, никогда не поверит подобным объяснениям начальства (независимо от того, правду говорят или кривду). Пошли рядовые Московского, Черниговского, лейб-гренадерского полков да Морского экипажа под конвоем, куда назначено, – идут и соображают: значит, правду-то скрыли, волю скрыли, значит, Константин-то давал, а Николай отнял!
Помер Константин, как известно, при обстоятельствах, и для нас не совсем ясных, а народу – и подавно; и лже-Константины объявились, а солдаты, кто еще жив в ту пору оставался, так и не подумали, будто мы их обманывали (пусть для их же блага). Они нам прощали.
Вот мы себя не слишком ли легко простили? Имели иль нет право – делать людям благо, их обманывая, не спросясь?
Ладно. Бог и история рассудят. Нельзя только уж слишком высокое о себе иметь понятие, как некоторым нашим свойственно. Нельзя.
Вот тебе, дорогой Евгений, Сенатская площадь глазами весельчака, такого большого весельчака, как я.
Ну что, сумел ли удивить?
Если б я у другого подобное прочитал, – возможно, и огорчился, осерчал. Но по прошествии десятилетий, находясь на пороге полнейшего успокоения, хотел бы еще и еще раз повторить: 14 декабря был день веселый. День такой свободы, какой ни я, никто другой никогда не видал – и прежде, и после не видали.
«Воздух свободы», славно!
И вот еще что на ум пришло: ежели могу я говорить о такой гибели, о крови, об ужасах с веселостью – то из этого что следует? Кощунство? О нет!
Следует, что я не проиграл, не пал духом. Ей-ей, не верю в революционеров сумрачных и куда больше доверяю мятежникам легким, веселым. Первые (сумрачные то есть) над людьми стоят и могут сотворить не то; а вторые среди людей, как все. Вспомнился вдруг рассказ Матюшкина (из той самой серии, где он обязан был нас удивить): ему показывали в монастыре святой Розы в Перу большой гвоздь, на котором подвешивала себя местная святая, чтобы не уснуть во время многодневных молебствий. «Требует ли Всеблагой такой любви?» – записал по этому поводу наш моряк.
Любовь к истине, даже страдание за нее – разве это не веселое, радостное дело?
Так что 14 декабря почти до самого конца весело было. Кто не понял того – вот о ком погрустим.
Но солдатиков все равно жалко, и тут не имею точного ответа, тут не сходится у меня что-то, и надо еще думать, а когда же думать?
22 октября 1858-го, утром (или 14 декабря 1825-го, вечером). В кофейне
Продолжаю будоражить старину.
Когда картечь ударила, одни, как Бестужев Мишель, кинулись в сторону, чтобы перестроиться, занять лучшую позицию и проч. Другие рассыпались, третьи были тут же взяты на площади. Остались тела, кровь.
Я пошел с площади спокойным шагом, как будто непричастный. К приему этому, известному мне еще с детских игр, я решился прибегнуть, как только началась пальба. Позже узнал я, как брели в этот же час по разным улицам мои товарищи, но между памятником Петра и Невским не встретил никого.
Домой идти не хотелось – расспросы, причитания… Надо было обдумать свое положение.
Первая попавшаяся кофейня (кажется, в Толмазовом переулке) устраивала как нельзя лучше. Заведение не первосортное, но зато полупустое, и едва ли встретишь там знакомого.
Вошел я туда часов примерно в пять, а просидел до восьми или девяти.
Выпил кофею, заел какой-то булкою, потом заказал рюмку ликеру – и задремал, так как спал последний раз 36 часов назад.
Очень помню – какое чувствовал облегчение. Стыдно сказать это – и тогда было мне даже пред собою неловко. Облегчение, какое бывает после тяжелейшего дела, перед которым мечтаешь – «хоть бы прошло!» – и вот прошло, и совсем не так, как надо. Но все же прошло! И от тебя более ничего не зависит, не требуется. И не надо беспокоиться, выйдут полки или не выйдут.
После, поздно вечером, налетит горечь – мысль об упущенных шансах, о том, что теперь российская свобода, не родившись, умрет. Но это после. А в кофейне отпустило меня, что ли? Разумеется, был не пьян и не безумен: сразу обдумал и все происшедшее, понял, что; вскоре схватят меня, посадят в крепость, возможно, и прикончат. Более дальних последствий я пока что не мог разглядеть.
Чтобы время убить, помню, занялся любопытным расчетом: где я был и что делал 14 декабря прошлого, позапрошлого и еще более ранних лет. Не ручаюсь, что вспомнил именно те поступки, которые совершал по 14-м числам последнего месяца. Но все же имел два ориентира: чуть позже начнется рождество, а на два дня раньше – 12-е – табельный день, рождение государя Александра I.
В прошлом, 1824-м, я находился 14 декабря еще в Москве, но уж получил отпуск и, обходя знакомцев, собирал оказии в Петербург. Еще несколько дней – и я в Питере, в родительском доме на рождестве; Новый год – сперва с Рылеевым и Бестужевым, а затем у нашего директора с Матюшкиным, Малиновским, Дельвигом, Львом Пушкиным, наконец, на крещение – к сестре во Псков, а оттуда к Пушкину, в Михайловское. Вот каков был прошлый год (и знать бы, где и что я буду год спустя!).
Еще перебрал я таким образом «веселые годы, счастливые дни»… Как раз доехал обратным ходом до лицейской эпохи и вспомнил очень хорошо, как 12 декабря нас водили в залу к Высочайшему портрету – и мы слушали смирно речь кого-либо из педантов, а все искусство заключалось в том, чтобы, не попав на заметку, состроить страшную, нелепейшую рожу – и обратить внимание бедного Николеньки Ржевского, Матюшкина или Мясоедова. Им хоть палец покажи – зальются. И можете (нет, не сможете никогда!) вообразить, как умел в такие высокоторжественные минуты осклабиться Яковлев или Пушкин зрачками крутануть. И вот «в лицейской зале тишина…»[26]26
Первая строчка известной лицейской песни.
[Закрыть] – но ее в самый парадный миг нарушает непристойный хохот, я бы сказал, рычание Мясоедова или визг Федернелке. Нас распекают, нас презирают, а мы уж и сами не можем удержаться: Ржевский давно успокоился, и вдруг молчун Гревениц, да еще басом – ху-ху-ху! Ладно…
Точно помню, я тогда в кофейне заулыбался, ибо вызвал вопрос дородного старичка в вицмундире, расположившегося по соседству: «Над чем изволите смеяться, уж не надо мною ли?»
Вопрос был задан добродушно, в том смысле, что, если надо мною, так очень хорошо!
Слово за слово – история необыкновенная: передо мною сидел человек – имени я не спросил – едва грамотный, из солдатских детей. Солдатом и унтером был при Кинбурне, Фокшанах, Рымнике, Мачине, затем – Итальянский поход, Шёнграбен, Аустерлиц. К тому времени он сумел не только выйти в офицеры, но усердием, исполнительностью, нерассуждением привлечь внимание Аракчеева.
На том пороховая, так сказать, карьера моего собеседника окончилась: он оставался при Аракчееве, а после был поставлен в Новгородских поселениях уже полковником и, как я мог понять, вполне по-аракчеевски муштровал и гонял вчерашнего брата солдата. Все шло хорошо – и сам император заметил строевую сноровку полковника, – но однажды пропали какие-то суммы: старичок столь усердно клялся мне в своей невиновности, что я судейским нюхом быстро догадался – он украл, но не эти, а совсем другие деньги. Ладно!
Аракчеев перед строем прочитал приказ о разжаловании в солдаты. Тут-то мой старичок не сплоховал: снял эполеты, переоделся, сдернул шапку перед первым же унтером, вытянулся перед мальчишкой-прапорщиком, прошагал в казарму и сказал вчерашним своим подчиненным: «Принимайте-ка, братцы, служивого!» Приняли.
И он не возмущался, не грустил: как в юности, шагал, нес караул, ел и пил по-солдатски. Старик не хвастал, но я понял: гордость и достоинство свое видел в том, чтобы все время держаться, будто ничего особенного и не случилось. Солдатом был – и остался. Аракчеев же, видно, почувствовал неладное, и полковник вчерашний ему как бельмо в глазу. Еще раз придрался за упущение, к которому собеседник мой уж совсем не был причастен. Его тут же – в железы (однако не били, так как приобретенное службою дворянство при разжаловании не было снято). Солдат-полковник крикнул: «Видит бог, безвинно страдаю!» – и отправился в сибирский гарнизон, где столь же исправно служил и был замечен; блестяще исполнил какое-то поручение Сперанского – и был за то определен в статскую, коллежским регистратором.
«Вот, батюшка, – сказал он мне, – на старости лет – елистратишка. Подал прошение о переименовании в прапорщики, хочу умереть в военной».
Я успокоил его, как умел. Самое же любопытное, что о дневных баталиях на площади он вроде бы и не слыхал: занимался своими делами и выполнял, что приказано.
Собираясь уходить, он, правда, признался мне, что служит в Инженерном замке и что уж два года как 11 марта покойный император Павел непременно является. С утра дворцовый штат уже знает и подтрунивает над новенькими – а к вечеру сами себя так зарядят, что и на лестницу выйти боятся, не говоря о подвале и темных коридорах. Но обязательно откуда-нибудь истошный вопль – это государь с перекошенной шеей явился…
Я предупредил старичка, что будущим ноябрем следует ожидать Александра Павловича.
Чиновник мой ушел, и я совсем задремал, а проснулся от тихого разговора двух молодых людей, как видно, университетских – но не студентов, а каких-то младших – по ученой части. Вскоре к ним подошел и третий их товарищ – с новостями. Разговор же их был простой, его было легко запомнить.
«Дурачье, – сказал один, – плебса не знают». – «С жиру бесятся, – отвечал второй, – ведь у них карьера вдвое быстрее нашей. Кто-то подсчитал, что графу или князю генеральство дается вдвое быстрее, чем нашему брату».
Третий же – чего только не наболтал (а может, и первые два прибавляли, не ручаюсь): и про Константина с Конституцией и что преображенцы, узнав – как Николай уступил Константину, а Константин – Николаю, восклицали: «О-ба мо-лод-цы!» Один из троих сам видел, как некий простолюдин швырнул снежок в принца Вюртембергского. Высочество наехало лошадью и закричало: «Ты что делаешь?», а простолюдин: «Сами не знаем-с, шутим-с».
Посмеялись.
А одного купца спросили у Сената: «Ты за кого?»
– За Николая.
Его тут же побили. Он побрел к Дворцовой. Там опять хватают: «Ты за кого?»
– За Константина.
Опять побили.
– А одного немца бунтовщики поймали и заставили во всю глотку орать: «Ура, Константин! Ура, Константин!» Немец охрип и просит: «Господа, вы бы нашли свежего немца – а я уже попортился».
Потом по-латыни, чтобы я не понял – «sanguinis multa signa» – «многочисленные кровавые следы».
И вдруг один, подражая просторечию, начал, а другие подхватили: тихонько, но будь я шпион, эх, и не сдобровать бы ребятушкам:
Россия, где твой царь!
Один скончалси,
Другой отказалси,
Третий сам навязалси…
Заметив, кажется, что я хоть и дремлю, но «во сне» ухмыляюсь, они выскочили вон, а г-н Пущин опять принялся за воспоминания – о четырнадцатых декабря в его жизни.
Так дошел до самого первого лицейского царского дня: тогда собрали наиболее успевающих (мы сами выбрали почему-то тринадцать лучших) – Пушкин не попал. Я быстро ушел. Помню роскошную иллюминацию. А на другой день вечером гувернер Сергей Григорьевич Чириков пригласил нас к себе – и вдруг предложил сочинять. Сначала стеснялись, а потом один произносит фразу, другой – вторую, третий – следующую. Ох, история получилась! Илличевский все старался стихами свою долю внести, а Пушкин – как его очередь подходила – такие словечки в ход пускал, что мы все ждали – его сейчас выставят. Однако Чириков будто не слышал и не выставлял – Пушкин назавтра подошел извиняться.
А история-то получилась фантасмагорическая: Испания и какая-то лодка, уносимая потоком, в ней разбойники; посреди пути в лодке, неведомо откуда, оказалась красотка, и Пушкин сразу же начал делать в днище лодки углубление.
– Зачем?
– Герой будет обниматься с красавицей на дне лодки.
– Но зачем же углубление? – спросил я.
– Для горба: красотка горбата!
Но тут подошел ко мне новый посетитель заведения (не Лицея, конечно, а кофейни), последний, из хорошо запомнившихся в тот вечер. Он представился «дипломатом», а я в том же духе – «служу по юстиции». Я был уверен, что передо мною шпион, так как дипломаты в подобные заведения не ходят, и приготовился выслушать очередную жалостную одиссею.
Вдруг мой vis-a-vis заказал водки и начал щелкать именами королей, герцогов, министров, коих встречал по службе. Если и врал, то с большим умением. Когда же он отказался уточнить свой чин и должность, я объявил, что, опасаясь ошибиться рангом, стану обращаться к собеседнику как к особе первого класса, выше которой никого нету: «Господин Канцлер, так будем объясняться».
Так вот Канцлер мой умел у каждого исторического лица найти неожиданную черточку, в основном стыдную, уничижительную, и делал это столь злобно, я бы сказал – талантливо, что беседа меня позабавила. К тому же я решил не прерывать Зоила, даже если наскучит, ибо вдруг подумал, что скорее всего последний раз эдак вольно, беззаботно (хотя бы с виду беззаботно) сижу развалясь и лясы точу. Больше так не будет. Бог знает, что будет: может быть, и жить-то осталось несколько дней или даже часов… Во всяком случае я твердо был уверен, что вот так, в случайной теплой кофейне, ничего не делая, это в последний раз. Поэтому я слушал моего Канцлера, как диковинного, последнего встречного.
А он-то, помню, начал с Бернадота, которого знал самолично (когда служил в Вене, а Бернадот прибыл туда Наполеоновым послом): «Это был гордый победитель с пистолетными бакенбардами, и казалось, будто сама революция вступила в Вену. После, как знаете, из славного республиканца получился король Швеции, ныне здравствующий, – но любопытно было бы узнать, известно ли шведам то, что я самолично видел во время попойки с генералом Бернадотом?..»
– Что же?
– На груди у будущего короля вытатуировано «Смерть королям!».
Посмеялись.
От Бернадота – к Бетховену, которого мой канцлер встречал у того же француза. Я похвалил, а дипломат сморщился: «Ах, гордыня-то! Всем известно, что разорвал посвящение Третьей симфонии Бонапарту; разорвал, восклицая: «И он обыкновенный человек, и он тиран!» Это все знают, и уж Бетховен – Брут, Бетховен – республиканец, не так ли? А кому, позвольте спросить, посвятил Людвиг ван Бетховен сонаты для фортепиано и скрипки, опус 30? Отвечу: нашему государю Александру Павловичу…»
Я решил защитить композитора и парировал выпад моего собеседника известной историей, как Гёте низко поклонился герцогу Саксен-Веймарскому, а Бетховен мимо прошел (разговор делался несколько опасным, но я шпионов, по понятным причинам, уж не боялся).
И знаете ли, как меня опроверг сей иностранных дел выпивоха?
– Ваш Бетховен просто невежлив, Гёте же, хорошо знавший, что именно он приносит девять десятых славы своему хилому герцогству, Гёте, которого охотно принял бы любой князь, император, Гёте, знающий себе цену, низко поклонился…
Остер мой застольный друг – не так ли? Но если б минуту назад я похвалил не композитора, а самого Гёте, – Канцлер тут же придумал бы, как унизить великого олимпийца; поскольку же я похвалил великого Бетховена, он просто обязан был не оставлять за мною последнего слова.
– Это вежливость высшего, – продолжал он о Гёте. – Это подчеркнутое уважение не к личности какого-то там Карла Августа, а к определенному принципу, порядку вещей; свободное уважение – замечу вам, а не приказанное свыше – и вот почему (неожиданно закончил Канцлер) я готов признать нашего Пушкина великим поэтом только тогда, когда он перестанет стрелять грубостями и дерзостями в министров и повыше: он думает – смело, все почти находят – геройство! А я скажу – вид рабства! Для великого поэта царь достаточно мал, чтобы отнестись к Величеству снисходительно, невнимательно. Вот когда Пушкин спокойно и гордо поклонится важной особе, я скажу: «Великий характер!»
Этой материи, столь для меня занимательной, я готов был внимать сколько угодно – но мой говорун вдруг разом захмелел и принялся доверительно рассказывать о том, что сегодня было на площади (из имен зная, впрочем, одних Бестужевых), и так он подробно, обстоятельно и неверно расписывал, таким очевидцем представлялся, что я все же не выдержал, взыграл:
– Да что же вы, сударь, мне рассказываете, когда я один из главных мятежников, а здесь отдыхаю после работы – впрочем, если желаете, пройдем к Сенатской, и я вам все покажу и расскажу…
Канцлер не желал. Он улыбался и пятился. Я махнул ему рукою, он еще раз улыбнулся – развел руками: дескать, должны же вы понять.
Как не понять? Я понял, что наше дело обрело первого историографа.
Вскоре и я вышел из кофейни. Великая российская река Мойка лежала предо мною. Налево пойдешь – домой придешь, направо пойдешь – мимо площади пройдешь, к Рылееву придешь. Все дни ходил я направо и сейчас – туда же.
Шел, как вчера, как позавчера, – но уж мимо Исаакия, как тать, и, конечно, сжался, уменьшился, услыхав с той стороны свист, разговор и увидев костры, возле которых грелись солдаты.
У Рылеева, по обычаю, дверь не запиралась: я вошел – все вздрогнули, видно, решили – идут! (А пришли только через несколько часов.)
В комнате почему-то одни статские: Батеньков, Каховский, Штейнгель; и все шепчутся – лишь один Рылеев громок. Говорит быстро – плохо помню, лишь в общих чертах: что Трубецкой обманул, и если б он пришел, если б Якубович не сплоховал etc…
Почему-то, как на лицейском уроке, я мысленно перевел его несколько фраз, начинавшихся с «если бы» на французский.
Потом – вмешался: «Чего толковать зря? Что сделать еще можно?»
Оказалось, что К. Ф. уже послал Оржицкого на юг, предупредить (да Оржицкий недалеко уехал). Еще кто-то входил, уходил, на миг показалось – не было еще Сенатской площади, все как вчера. Я спросил: что Сутгоф? Его видели схваченным. А Кюхля, Бестужевы? Никто не знал.
Булгарин вдруг ворвался, Рылеев выставил: «Нечего тебе здесь делать». На миг засмеялись даже. А тяжко. От чаю я отказался.
– Надо бежать, – сказал кто-то.
– Не надо, – отвечал Каховский.
И я согласился – не надо: мы затеяли, умели грешить, сумеем ответ держать. Если убежим – неловко. Мне казалось тогда, что если скроемся – на нас бог знает какую напраслину возведут. Смешно вспоминать, каким дитятей выступал. Ладно.
Я сказал еще Рылееву, что на допросах скрывать наши общие цели не буду. Рылеев отвечал, что здесь все мы, и еще кое-кто – главари, но слишком открываться негоже. Посему про нас, семерых или десятерых, можем все говорить, а про других, про случайно вовлеченных, про подчиненных нашей Думе – не нужно! Я заметил, что лучше бы только на самого себя показывать, ибо, назвав хоть одного, попадешь на скользкую дорожку. Впрочем, об этих предметах почти не говорилось. И конечно, не могли предугадать – как неожиданно и тяжело все после повернется. Ладно!
Каховский молчал, вид его был ужасный. Я сказал: «Петр Григорьевич, не скучай, еще будет время!»
А он вдруг: «Вот стыд-то, первый в Российской истории неудавшийся государственный переворот!»
Озадаченный этими словами, я обнялся со всеми: с Рылеевым и Каховским в последний раз – больше не пришлось свидеться. Обнялся – и пошел. К полуночи был дома, где вызвал неожиданный эффект: все уж давно зачислили меня в убитые и так обрадовались своей ошибке, что ни упреков – даже вопросов «как же это ты?» не последовало.
Старик мой обнял меня – и, промолчав минуту, вышел. Так и не поговорили! В следующие два дня он заходил несколько раз ко мне в комнату, несколько раз гладил легонько, улыбался виновато и выходил. И так до того самого часа, как в дверь постучали жандармы.
Впрочем, это вы уже знаете.
Рылеева взяли в первую же ночь, в следующие дни – большинство других. Иван Пущин не значился в петербургских списках, за ним даже посылали в Москву – и обнаружили на Мойке только 16 декабря. За двое суток – что он дожидался – успел, к собственному же великому сожалению, сжечь лицейские свои дневники. Другие же важные бумаги были сложены в известный портфель. В последние три дня Ив. Ив. почти не выходил, только забежал к директору. Будущий же канцлер наш Александр Горчаков явился, кажется, 15-го к своему лицейскому товарищу и предложил деньги, паспорт – для побега за границу. Пущин никогда этого благородного дружеского поступка не забывал, бежать же отказался, согласно уговору с Рылеевым и другими.
В отличие от большинства декабристов, Ив. Ив. успел спокойно подготовиться, привести дела в порядок, проститься. Я знаю, что, забежав к Энгельгардту, он вспомнил древнеарабский обычай: приговоренного к смерти отпускают (в сопровождении палача) перед казнью домой – и там все вместе пируют, веселятся – до заката…
Прощаясь, Пущин не рассчитывал еще когда-нибудь свидеться, но уходил веселый – слуга же его Алексей, исплаканный весь, просил жандармов – нельзя ли до крепости вещички поднесть?
Устал я, друг Евгений, писать и вспоминать. А назавтра дел сколько! Во-первых, к Наталье Николаевне Ланской с визитом, и завтра же (а не дойду – так послезавтра) – с жандармами в крепость.
В тюрьму идтить – не котомки шить.








