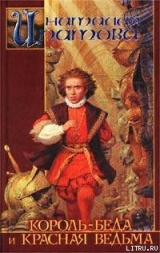
Текст книги "Король-Беда и Красная Ведьма"
Автор книги: Наталия Ипатова
Жанр:
Классическое фэнтези
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 23 страниц)
Наталия Ипатова
Король-Беда и Красная Ведьма
I. Король умер – до здравствует король
25.12.1999
Рождество
1. Ужасти Ужасного Короля
Он лежал, будучи уже практически совершенно недвижим, окруженный со всех сторон трусливой тьмой, которая, подобно царедворцам, выставляла себя напоказ лишь тогда, когда ей это ничем не грозило. Бред смешивался с явью, камни кладки под золотыми драпировками дышали обжигающим холодом, проникавшим в самый костный мозг, а мимо нескончаемой чередой тянулись колеблемые сквозняком тени тех, кто оставил его здесь умирать одного, и каждую он награждал проклятием. Костлявые руки то сжимались, то разжимались, комкая льняные белые простыни и будучи уже не в состоянии оставить на них действительно неизгладимые следы. Его бесило даже это незначительное обстоятельство.
То, что они просвечивали, никоим образом его не удивляло: он и при жизни-то видел их всех насквозь. Его только немного озадачивало то, что сегодня из-под небрежно напяленных лиц торчали звериные хари. Лопочущие куры и лисы – фрейлины-однодневки и устоявшиеся фаворитки, Званные бараны и истинно всегда голодные волки – раззолоченные пустышки-офицеры и министры, у которых хватало ума не выставлять нажитое напоказ, родня всех пород и мастей в зависимости от их поведения при его жизни. И теперь ни один не задерживался у его изголовья, ни один не пожелал вместе с ним взглянуть в лицо самому последнему и самому неизбежному посольству. О, он понимал, что это было свидетельством и закономерным следствием великого страха, внушаемого им при жизни. Испытывая мрачное изощренное удовлетворение, он и не хотел, чтобы было иначе. Если бы было иначе, он бы, пожалуй, разочаровался, ибо с ранней юности был убежден в подлости человеческой натуры. И все же он предпочел бы, чтобы в складках тяжелых портьерных занавесей вместо жалкого аптекаря, донельзя перепуганной белой мыши, бывшей явно не в состоянии переварить свою роль в истории, здесь трясся кто-то хорошо ему знакомый и обязанный присутствовать здесь вопреки собственному желанию.
Скажем, эта беспредельно породистая рыжая сука – жена. Королева. Всюду, куда бы ни следовал за нею его озабоченный, недоверчивый взгляд, рядом с ней угадывался силуэт крупного зверя, несомненно, хищного. Его существование не удивляло, тяжелое гнетущее сожаление вызвано было лишь тем, что уже нет возможности выяснить его имя: тварь благоразумно не показывалась на свету. Бедняжка Ханна, безусловно, догадывалась, что ему известно, какими усилиями она изображает преданную любящую супругу. Он не верил в преданность и любовь, во всяком случае, по отношению к себе. Он бросал ей жирные куски – она изображала. Разумеется, она понимает, насколько быстро сейчас ее оттеснят от кормушки, если у нее недостанет ума позаботиться о том, чтобы тот, кто там стоит, как прежде – другой, продолжал оделять ее подачками.
Он прекрасно знал, по какому сценарию пойдет дальнейшая игра. Начнется все с грызни из-за регентства. Он не стал назначать регента, превосходно зная, что любая его воля будет оспорена, стоит ему лишь закрыть глаза. Кстати, он оставил бы регентство Ханне, когда бы верил, что она его удержит. К сожалению, он был убежден, что она поспешит передать его в чью-нибудь крепкую руку. Слишком многим интересам пришлось бы ей противостоять в одиночку, а Ханна – едва ли деятельная натура. Стоит ожидать яростной схватки среди приближенных за право влиять на наследника, и непременно кто-нибудь предпримет попытку уничтожить королевскую семью. Ханна должна это понимать, она не дура. Не настолько. Потом, когда партии определятся, начнется возня по углам: бароны захотят вольностей, церковь – равноправия с государством, и все это будет им обещано, поскольку в их поддержке заинтересована каждая сторона. Дальновидные фаворитки спешно бросят потенциально опальных любовников и сразятся за потенциально устойчивых. Еще более дальновидные отложат эту процедуру до тех времен, когда все прояснится. Слетит несколько дельных голов, из тех, кого он сам нашел и приблизил к трону. Сгинут труды целого царствования.
В одном лишь все они будут едины: в счастье избавления от него, от железного ошейника чужой властной воли, который каждый ощущал на себе ежеминутно и без которого вряд ли представлял свое существование. Ах как бы ему хотелось, чтобы миг его долгожданной смерти не стал для них мигом обретения свободы, чтобы долго еще они жили под его чудовищной тенью, лишь шепотом, в страхе, поминая его имя, чтобы часа смерти его они страшились больше, чем его грозного могущества при жизни. О, как бы ему хотелось, чтобы им было хуже, чем ему, и чтобы он мог видеть это и наслаждаться этим, как упивался при жизни их страхом, как презирал их рабское подобострастие, желал, чтобы было иначе, и не давал тому ни малейшей возможности. Почему они бросили его с этой редкозубой мышью? Не потому ли, что знали его слишком хорошо? Не оттого ли, что были счастливы отыграть ему хоть мелкой пакостью весь ужас многолетнего приниженного существования? Не хотели ли они продемонстрировать, что, упав им под ноги, он не достоин более ничего?
О, как ему хотелось одержать над ними еще одну, последнюю победу! Обыграть их так, чтобы они и знать о том не знали, и уйти, улыбаясь, оставив за собой последнее слово несказанным, так, чтобы оно прозвучало тогда, когда ему придет срок, как гром средь ясного неба.
Он не мог уже встать, пройти в зал, кликнуть всех и обрушить на них грозу монаршего гнева, чтобы наиболее слабые умирали на месте от разрыва сердца, а сильные – завидовали им. Он понимал, насколько детским выглядело это желание, но от понимания оно не становилось менее сильным. И кажется, он нашел такую возможность. Правда, слишком дорогую. Раньше он вряд ли воспользовался бы ею. Но желание править бал стоило того.
– Ты, – сказал он, не поворачивая головы. – Я хочу видеть сына. Наследного принца. Иди скажи. Эй! Одного, без матери и нянек.
Мальчик, выглядевший, как это ни странно, человеком, нерешительно переступил порог и остановился, почти скрываемый тенью полога. Видно было, что ему сюда не хотелось. Почему-то это неожиданно остро и болезненно кольнуло короля. Чтобы рассмотреть наследника, ему пришлось напрячь зрение, но все равно при первом взгляде на парнишку он ничего не смог бы сказать. Разве что тот наверняка вырастет очень красивым мужчиной.
– Итак, милорд, вы мой сын?
– Мне так говорят, Ваше Величество… Тон ответа был растерянный, но умирающий король закашлялся от смеха.
– Ты, – окликнул он, – аптекарь… Можно ли считать этот ответ проявлением природного ума?
К нечленораздельной реплике аптекаря он не прислушивался. Тот был всего лишь инструментом. Он сам знал все, что ему следовало знать.
– Сколько тебе лет?
– Мне исполнилось десять на прошлой неделе, государь отец мой.
Черноволосый, как обугленная головешка, худой, неулыбчивый, но цвет лица здоровый. Даже сейчас, когда движения его стеснены, видно, что отрок занимается благородными искусствами, сиречь мечом и верховой ездой. Обычай требовал отдать принца какому-нибудь верному рыцарю на воспитание, но… король не верил в верность, которую нельзя купить, и знал, что после его смерти всегда найдется тот, кто предложит больше.
– Что ты читаешь сейчас? – спросил он. – Я хочу знать, что ты собой представляешь, а в твоем возрасте человек есть то, что он читает.
– Я читаю «Песнь о Роланде» – ответил принц торопливо, словно спешил избавиться от заученного урока. – Ту часть, где он с небольшим отрядом прикрывает отход государя Карла в Ронсевальском ущелье и жизнью доказывает свою доблесть и верность.
Ему мучительно не хотелось подходить ближе к постели. Ему не нравилась смерть, а кроме того… как только он вошел, лежащий старик померещился ему огромным пятнистым питоном, свернувшимся среди простыней и подушек. Видение сгинуло, но ощущение осталось. Истинно змеиным был взгляд немигающих круглых желтых глаз в дряблых складках век.
– А, – сказал старик, – меня тоже заставляли ее читать в. твоем возрасте. Тебе нравится?
– Нравится. – Это было вымолвлено упрямо, и король выразил свое изумление, пошевелив бровями. – Он был храбрый и могучий и чтил своего короля. Все скорбели о его смерти, и о нем сложили песни. Я бы хотел… так.
Он выглядел слишком маленьким, а к тому же – слишком перепуганным, чтобы его можно было заподозрить в намерении нанести булавочный укол самому Ужасному Королю.
– Как командир арьергарда он действовал паршиво, – высказал свое мнение король. – Будь он моим офицером, я отдал бы его под трибунал. За подобный героизм надобно карать. А ты станешь королем. Тебе скорее придется принимать такие жертвы, подобно Карлу, а не приносить их, как Роланд. Придется научиться терять людей. Некоторые считают, что это тяжелее. Я полагаю, это просто иной жребий. Другие станут жертвовать жизнью ради тебя. Что ж, заплати им хоть песнями, что ли.
Он помолчал, собираясь с мыслями.
– Ты знаешь, что я не таков, как остальные?
Молчание было ответом на эти слова, весьма красноречивое молчание.
– Знаешь, – удовлетворенно протянул старик. – Тебе объяснили, что это страшная тайна, может, даже велели не заикаться об этом вслух. Называли это грехом. А я назову это Могуществом. Всю мою жизнь оно вело и направляло меня, и само было направляемо мною по моему желанию, и помогало мне достигать моих целей. Я позвал тебя, потому что могу передать его тебе.
– Это колдовство? – неуверенно спросил сын.
– Абсолютное! – усмехнулся король. – У тебя будет своя великая тайна.
– Я… не знаю, государь отец…
– Но ты хочешь стать королем?
– Мне говорили, я должен.
– Тогда так: ты хочешь выжить, став после меня королем? Знаешь ли ты, сколько у тебя появится врагов, как только ты взойдешь на трон? И сколько у тебя останется друзей? Тех к кому ты сможешь повернуться беззащитной спиной?
– Я… не поворачиваюсь спиной, государь.
– Похвальная привычка. Тогда выражусь так. Сию минуту я могу передать тебе все, чем обладаю. Когда я умру, а это случится скоро, все пропадет втуне, и все сожаления будут бесплодны. Другого случая не представится. Или ты делаешь выбор сейчас, или остаешься с пустыми руками и полной неизвестностью впереди. И всю жизнь будешь зависеть от всех подряд. Короче, я не вижу ничего, что способно вытащить тебя из дерьма, в котором ты окажешься буквально через несколько часов.
– Да, государь, я хочу выжить. Я хочу править и хочу, чтобы моя спина была в безопасности.
– Тогда сделаем это немедленно, – приказал король, – пока у меня есть еще силы произнести нужные слова. Эй ты, там! Как тебя… подай кубок!
Аптекарь, сгорбившись, метнулся за спиной принца к столу и дрожащей рукой протянул Ужасному Королю его питье в массивной серебряной чаше.
– Нет! – Последовал раздраженный взмах руки. – Выплесни эту дрянь! Вот…
Он утвердил над краем чаши узловатое старческое запястье. Рука не дрожала, будто и не он тут умирал.
– Отвори мне вену.
– Не-ет, – прошептал бедный безымянный аптекарь, отшатываясь к стене. – Я… у меня… у меня ланцета нет…
– Лжешь, – негромко и деловито сообщил ему король. – Если бы ты не был готов оказывать услуги, тебя бы ко мне не пропустили. Для этого не надо быть колдуном. Посмотри под своей табуреткой.
– Государь! – взмолился тот. – Да меня же страшной смертью казнят, ежели я причиню вред царственной особе, а если даже и нет, так от цеха отлучат, запретят и мне и детям добывать хлеб аптечным ремеслом, а то и сожгут, как пособника…
– Кронпринц – свидетель того, что ты исполняешь монаршую волю, – сказал ему король, находясь уже на опасном пределе своего раздражения. – Если уж его слову не верить, то чего стоит вообще вся королевская власть?
Разумеется, будучи не в состоянии дотянуться до него, церковь и гильдейские старшины отыграются на пешке, но кого это, в самом деле, волнует в свете смены царствования!
– Ты делаешь то, что тебе приказывают. А у меня еще хватит жизни, чтобы наказать за неповиновение. Отворяй, и чтобы я тебя не слышал больше!
Он так боялся, что причинил боль, и кровь брызнула из голубой вены на белое с червлением серебро, заполняя собой бороздки, вынося из тела тепло и жизнь. Она казалась черной в свете камина, чей жар колыхал занавеси, пожирая доступный дыханию спертый воздух, но не мог прогреть скрученные ознобом старческие кости и прогнать мурашки с мальчишеской спины. От сквозняка шторы шевелились, как живые, и ни на секунду не пропадало ощущение, что здесь происходит нечто бесовское, богомерзкое, оживают самые страшные, слышанные в спальне на ночь сказки. Магия, творящаяся на крови. Мальчик опустил глаза, и они буквально прилипли к черной выпуклой поверхности вязкой жидкости, понемногу наполнявшей чашу. В ушах все еще стоял звон от первой капли, ударившейся в серебро. Он был уверен, что сегодня увидит все это во сне: и ручеек цвета камбрийского вина, струящийся по иссохшей белой руке, и понемногу наполняющуюся чашу, и чувство, что его обманом заманили в ловушку и предадут и каким-то образом используют. Сжимающийся и разжимающийся над чашей узловатый старческий кулак заставлял думать о последних судорогах умирающей змеи. Все здесь было пропитано ненавистью и смертным страхом. Но более всего было страшно думать о том, что король заставит его сделать с этой кровью. Вдруг… выпить заставит?
– На что бы тебя заклясть? – задумчиво произнес король, тоже не отводя глаз от своей крови, словно провожал взглядом покидавшую его жизнь. – Может, у тебя найдутся какие-либо соображения? Что-то у меня начинается путаница в мозгах.
– Что значит – заклясть, государь отец мой?
– Да кончай ты государить! Пора забыть, как произносится это слово, и воспринимать его только на слух! Наложить заклятие можно только определив условие, при котором оно перестанет действовать. Таков закон. Ничто не дается даром. Ты будешь обладать силой, лишь соблюдая некоторые условия, каковые мы с тобой сейчас постараемся определить. Есть что-либо такое, чем ты не мог бы пожертвовать?
Мальчик молчал.
– А закляну-ка я тебя, пожалуй, на победу, – молвил король. – В самом деле, какой смысл отдавать подобное достояние слабаку? С каждой одержанной тобой победой сила твоя будет разворачиваться и расти и нести тебя на своих крыльях. Если же ты дашь себя одолеть… ну что ж, тогда все придется начинать заново. Видишь, как много от самого тебя зависит? Выиграешь – возвысишься, проиграешь – упадешь.
– Прикосновение к крови мага уже само по себе способно оделить силой, – продолжал из-под полога слабеющий шелестящий голос. – Но без заклятия она станет неуправляемой. Тебе это не надо. Поставь кубок перед собой, вот так…
Он опустил кровоточащую руку рядом с собой, и темнота поплыла по ткани, пятная ее, как зло – девственный мир.
– Смочи пальцы. Коснись ими глаз. Это придаст силы твоему взгляду. Теперь увлажни ладони, это сделает сильными руки. Иногда тебе придется доказывать правоту собственной физической силой. Теперь язык. Я хочу, чтобы ты умел единым словом повергать города. Теперь сделай глоток и постарайся, чтоб тебя не вывернуло. Для того чтобы править миром, ты должен обладать крепким здоровьем!
Как странно. Чем дальше заходил ритуал, тем легче было принцу выполнять условия короля. Практически не творя над собой никакого насилия, он отхлебнул из серебряной чаши густеющей крови.
– Я ничего не чувствую, – сказал он. – Никаких изменений.
Старик, похожий на питона, с лицом как череп, ухмыльнулся ему в глаза.
– В тебе поселились безудержные бесы. Но они спят. После… – он сделал рукой слабый жест, сказавший наконец о том, как он близок к своему последнему рубежу, – после первой победы, не раньше! Кстати, я забыл… Как тебя зовут?
– Рэнди… Рэндалл Баккара… – Губы мальчишки изогнулись, и он с усмешкой выговорил: – Го-су-дарь отец мой.
– Пока не уходи… Рэндалл. Я еще не закончил. Мне еще надобно передать тебе, для чего, собственно, мы городим весь этот сыр-бор. Сядь здесь и жди.
Он откинулся наконец на подушки и позволил своему телу расслабиться, словно растечься по царскому ложу. Закрыл глаза, зная, что уже не откроет их. Он, Рутгер Баккара, прозванный Ужасным, сделал свое дело и готов получить свободу. Он не верил, что душа его пойдет в ад, ибо хоть и верил в магию, но не верил в существование души.
Он пустился мыслью по иным тропам, выпустил ее из груды стесненных строений, именуемых дворцом, где уже много лет, с тех пор как он добился всего, до чего смог додуматься, безвылазно томился его дух, где маялись бездельем его собственные безудержные бесы, и пустил ее по улочкам, по дорогам, по лесам и полям. У него была тайна, в какой он постеснялся бы признаться словами. Король-Чудовище любил свою землю.
Северная Страна. Большая, ибо он не удовольствовался бы малым. Холодная, большую часть года скованная льдом, закутанная в снега, как юная принцесса в горностаи. Изысканные изморозные кружева, дымки испарений над проталинами, грачи с их гнездами в еще голых ветвях и их варварские вопли, бодрящие дух пуще любого дамского угодника-соловья. Хруст утреннего льда под ногами и вода с утра такая, что зубы ломит. Пар от конских боков, да что там, даже пар от навоза! Божественно, как колокольный звон на заре. Еще была живая суета торговых рядов и города, старые – полные тайн, и новые – полные надежд. Еда. Мясное и печеное, все остро пахнущее, все горячее, насыщенное вкусом, все испускающее этот так любимый им белый пар! Он представил себя сидящим в санях, под медвежьей шкурой, да так явно, что мороз начал пощипывать скулы и снег заскрипел под стальными полозьями. Он был один в этих санях. Наконец-то и в кои-то веки – один, принадлежащий лишь себе и своим желаниям. Четверка вороных неслась, звеня бубенчиками, вдаль и вдаль, комья голубого снега летели из-под копыт. И слава богу, он уходил, оставляя позади их всех с их дрязгами, осточертевшими ему еще при жизни. Он летел по заснеженной равнине, а потом парил над нею, думая о том, что неожиданно оказалось способно напоследок согреть его оледеневшее "я". «Мой мальчик, мой сын, мое продолжение…»
2. А в это время в глубинке…
Декорации, как это ни странно, не слишком изменились. Только, как говорится, труба стала пониже да дым – пожиже. Точно так же, как у смертного ложа Ужасного Короля, источник света обрисовывал вокруг себя пятачок видимости, за пределами которого теснилась тьма. Вот только пряные травяные запахи были здесь резче, стены за пределами освещенной зоны угадывались не каменные, вобравшие в себя свинцовый холод зимы, а бревенчатые, прогретые, черные от копоти и смолы, добротные, знававшие лучшие времена, да и сами в наследство от них оставшиеся. Были когда-то в семье мужики, способные срубить этакую хату.
Да вот еще суеты здесь было побольше. Не короли, могли себе и позволить. Аккурат в тот час, когда Король-Чудовище стоял перед разверстой могилой, повитуха Ува потела, помогая родиться новой жизни и вовсю поминая неладну мать. В профессиональной карьере Увы насчитывалось не так уж много неудач, во всяком случае, она не без оснований гордилась своей репутацией, однако этот раз заставлял ее задуматься о пользе смирения и о том еще, что все касательно женских дел находится в руках божьей матери и заступницы милосердной Йолы. Вот уж воистину, ежели плуг с самого начала пойдет не так, то и не жди, что борозда выйдет прямо.
Вообще Ува на дому не работала. Привыкла, что ко времени или по скорой нужде приглашали ее в дом, угощали все время, покуда она там пребывала, в случае успешного исхода наливали чарочку и щедро одаривали за труды. Настолько щедро, что своего хозяйства она не вела. И так все было: и мясо по холодам, и пива жбанчик, и ларчик с цветными платками, и даже денежка под половицей. На этот же раз счастье буквально привалило к порогу. Самым брюхом.
Схватки начались давно, были сильными и, судя по сдавленным стонам, болезненными, и воды уже отошли. Грех было бросить бабу в сугробе, ясно ведь, на чью совесть легли бы две жизни. Помогла бы уж, чем могла, даже если бы не обнаружилась в скрюченной полузамерзшей руке серебряная денежка, подлинная, согласно пробе на зуб, так что формально Ува внакладе не оставалась.
Дитя греха стремилось на свет, это ясно. Законных-то по-установленному, в своей постели рожают. Уже в хате Ува рассмотрела, что баба молодая и шуба на ней богатая, в пол. Шапки не было, в смоляных волосах снег, а глаза в таких темных кругах, что за банного луня могла бы сойти, детей да девок пугать в темную ночь. Черная масть в этих краях ох как редка: все больше белесые да рыжие, темно-русый волос аж за версту видать, а тут диво такое, аж в синеву, в вороний отлив.
Опытный глаз подсказал: медлить нельзя. Раскатала на столе холст, вытряхнула чуть живую гостью из шубы да из платья, алого, словно грех, взгромоздила на стол, благо молода была еще и здорова, метнула котел на огонь, повязалась кругом тряпкой, чтоб платья не испоганить, и приступила денежку отрабатывать.
Близко стоял у огня стол, да заметила повитуха, что сторонится свет страдающей бабы, словно стороной ее обходит, по закраине, и не видно толком ничего, что видеть надобно. Вот тогда первый раз пожалела Ува, что отворила дверь в неурочный час. Пожалела – и испугалась мысли этой, трусливой и подлой. Вот только… не раз еще ей пришлось о доброте своей пожалеть.
Ни разу еще в ее руках так долго баба не мучилась. Вся холстина была в кровище, весь передник ее, на пол капало, и меж хлопотами своими поражалась Ува пределу человеческой, а то, лезла мысль, может, и нечеловеческой вовсе выносливости. Час за часом подымалась незнакомка на локтях, на жестких досках стола, толкая из себя плод, когда, по представлениям опытной повитухи, давно должна бы уж лежать недвижно, в поту и крови, и когда дитя таки вылезло, показалось сперва, что мертвое оно.
Порядку ради перевернула Ува ребенка вверх ногами, встряхнула, шлепнула – и зашевелилась девочка. Но ни звука не издала. До того чудно показалось ей это, что даже проверять полезла, на месте ли у малютки язык.
– Чегой-то она молчит? – изумилась она вслух. – Ребятенок всегда в голос вопит, когда рождается, грехи отцов оплакивая.
– С характером у меня девочка, – отозвалась с ложа своего мать.
Ува, держа малютку на руках, вернулась к ней, посмотрела на волосы, темные, как ночное зимнее небо, спутанные, как грива, которую леший заплетал, влажные, как водяные змеи, и поняла, что душ живых сегодня у Господа не прибавится. Слишком многое та, безымянная, дочери отдала, да до того еще что было с нею, как она, зажимая в руке денежку, добиралась сюда по снегу, что выше пояса, – следы остались в сугробах, не со стороны деревни, не по дороге принесла ее нелегкая…
Не унималась кровь. Темная, горячая. К жизни привыкла Ува, не к смерти, встречать жизнь на ее пороге, а не провожать за черту привыкла она, и до паралича ее все это пугало. Бывали у нее редкие неудачи, но одна она в глухой ночи никогда перед ними не стаивала.
– Ты у исповеди давно была? – спросила Ува. – Дотянешь, если за священником побегу, али как?
Та оскалилась, показав зубы в кровавой кайме.
– Нет у таких, как они, права судить и прощать таких, как мы. Сами за себя ответ держим. Потому и не хоронят нас на освященной земле.
И не хотела Ува, а отшатнулась и ребенка вытянула на руках подальше от себя, словно не поздно еще было. Словно не измаралась она с головы до ног в нечистой крови.
– Ты, – выговорила она, – из этих! Заклятая!
И заметалась по хате, ища чистые тряпки, забыв, что в руках ребенка держит.
– Дай, – прошептала ночная гостья. – Дай хоть подержу.
Сунула Ува молчаливую кроху в руки матери, и та стала поглаживать ее, баюкать. Комочек плоти, весь в крови, как сырое мясо. А Ува терла руки в горячей лохани, в памяти воскресали все самые чудовищные страхи, все жуткие намеки о том, что способно сотворить с человеком прикосновение крови заклятого, проклинала, стиснув зубы, свою доброту и жадность.
– Так, значит, – шептала, словно в бреду, незнакомка. – Ежели не сделаю сейчас, значит, пропадет все даром, никому не достанется. Может, ей от этого выйдет помощь в пути. Может, назовет мой дар проклятым. Но пропасть этому нельзя.
Окинула бесовским взглядом свидетельницу и сказала громко, с вызовом, будто зная, каков будет ее испуг и протест:
– Закляну-ка я, пожалуй, малютку на девственность! Пошло, просто и действенно. Чтобы думала головой, прежде чем оной кого попало одаривать. Чтоб знала, что потеряет, коли сладким речам позволит путь себе указывать. Чтоб малое от великого межевала.
Сказала – и отложила ребенка в сторону, как будто сама решала, когда ей сделать последний шаг за черту. И усмехнулась, да так жутко, как в жизни своей Ува не видела.
– Девочку назови Арантой, – велела.
– Крестить-то… можно ли?
– Как хочешь. Все равно.
Глаза у нее были как две бесовские ночи, бесстыжие, огромные, колдовские, и вспыхнула вдруг перед Увой картинка: словно со стороны увидела она себя. Неуклюжая, толстая, с красным лицом, в растрепанных белобрысых космах, в окровавленной тряпке, повязанной под бесформенной грудью, с руками, растопыренными в стороны, как можно дальше – на них ведь ведьмина кровь была, хоть и смытая, да памятная. Жалко она выглядела, смешно и глупо. Презирать таки" надо. Черная кость. А когда картинка, мигнув, погасла, ведьма была мертва.
Лишившись речи, Ува с размаху плюхнулась на табурет.
На столе перед нею с одной стороны простерся труп в окровавленной сорочке, с другой – слабо, без привычного писка шевелился младенец, проклятый едва ли не раньше, чем рожденный. Никем наверняка не желанный.
Вот страсть-то! Куда его деть? Была бы баба местная, так родне бы отдала, пусть решают. Ну, положим, с утра побежать к пастору, исповедоваться, рассказать все, как было, предъявить тело и отродье и снять с ума непосильную ношу. Пусть они сами его истребляют, берут на душу грех во спасение.
Будь у нее поменьше времени на размышление или стой кто-нибудь за ее плечом, так бы Ува и поступила. Но буря выла за окном, гудела печь, оранжевый свет огня становился понемногу все краснее, и Ува как-то понемногу стала вновь обретать привычную способность рассчитывать только на себя.
Ничего хорошего от вмешательства пастора ждать не приходилось. Незнание в глазах церкви не освобождало от ответственности. Ну, положим, от сорока чтений «Богородицы» с земными поклонами в пояснице Ува не переломится, однако было у нее подозрение, что на сей раз поклонами святой отец не ограничится. По всему видать, Ува влипла крепко. Без пожертвований не обойтись. А когда речь шла о мирском благе, пастор одними лишь сухими корками не довольствовался. Вытрясут последнее, ироды, честным трудом накопленное, и хорошо, коли вовсе не запретят христианских детей на свет принимать. Ему-то ведь, безбрачному старцу, нет что бабе в этот час помогать надобно. Ему важней, что неведомая тьма к ней прилипла. А там… не хватало еще, чтобы пошла о ней черная молва пособницы чуждых сил. Станется, дождется она отводящего знака в свой след, злого трусливого шепотка, а то и камня в спину от деток, цветов жизни.
Нет без ремесла одинокой женщине не прожить. А стало быть надобно сделать так, как будто и не было ничего. Не скреблась слабеющая рука в дверь ее домика на отшибе, не принимала она сегодня в мир новую душу. Метель за окном, лес рядом. Никто носа не высунет, и следы к утру скроет. Обрядить мертвую как она была, взвалить на сани, отвезти на полмили в лес. Не дошла, мол. Жаль, пуповину дитю обрезала. Видно, что роды принимали. Да, впрочем, если рядом с матерью положить, так волки к утру так похоронят, что никто и не догадается, что тут кто-то третий участвовал. Да и был ли младенец… Вон она какая махонькая и молчит, умница.
Ува взяла подушку. Задушить было проще, чем оставить голенькую на морозе. Как-то… ну не по-христиански, что ли, не говоря уж о том, что вдруг все-таки закричит, выдаст.
Барабанный стук в дверь заставил ее выронить подушку и потерять все нити разом. Пока она металась по горнице, пытаясь сообразить, что ховать, что оставить, громкий женский голос за дверью клял ее на чем свет стоит. С перепугу она даже не узнала подругу. Потом махнула рукой и впустила, решив сказать как есть, но умолчать о главном. Нелегкая принесла самый длинный язык в округе.
Не такие уж они на самом деле и подруги были. В самом Деле, какая она ей, добропорядочной повитухе, подруга, эта беспутная Ида из придорожного кабака! Разве что денежки у нее водятся и услуги ей иногда нужны такие, о каких на исповеди и то иной раз постыдишься признаться. Так и якшались, к обоюдной выгоде.
– Ох! – весело сказала та, отряхивая снег у порога. – Вот это метель – с ноженек валит, глазыньки залепляет. Право слово, аки любовь.
Размотала шаль, сбросила сабо, шагнула цепкими босыми ногами на веревочные половики.
– Ой, что это у тебя происходит? Никак покойница!
– Вот, – сказала Ува, в глубине души удивляясь собственному мрачному спокойствию. – Добрела до порога, выродила дитя и померла тут же. Ничего про нее не знаю. Ребенка… не возьмешь?
Ида истово замотала головой:
– Я, думаешь, зачем пришла? От такой же нечисти избавляться. Дай травки какой-нибудь, в долгу не останусь, ты знаешь. Нет, вряд ли кто-нибудь девку возьмет. Кормить ее пятнадцать лет, потом приданое… Так что, считай, подруга, счастье это привалило именно тебе.
Ида издали бросила брезгливый взгляд на сучащую ножками малютку.
– Когда они начинают свою жизнь, считай, мы свою заканчиваем. Так-то. Ну да ты ведь другого мнения? Новая жизнь, опора в старости, смысл жизни, знаем, наслышаны. А вот только я думаю, наши с тобой матери были бы счастливее, коли кто-то берег бы их так, как ты меня бережешь. Крепкая малышка, здоровая. Похоже, выживет.
Прекращая поток пустопорожней болтовни, которая сегодня была некстати, Ува не глядя сунула Иде какой-то пузырек с полки.
– На, и иди давай…
Ида не обиделась. Гоняли ее часто, и куда грубее. К тому же характер у нее был хороший.
– Назовешь как? – долетел из вьюги последний вопрос.
– Арантой.
Вьюга присвистнула с Идиной интонацией.
– Это ж в старом написании будет целых семь букв. Не по сверчку шесток, подруга. Так только принцесс называют.
Наконец ночь поглотила свидетельницу. Ува облегченно вздохнула. Горячечному плану ее не суждено было исполниться и отчасти она была этому рада. Безотчетно. Она продолжала чувствовать на себе гнет, но как-то иначе. Отвернувшись от мертвой, она поглядела на ребенка. И почувствовала, как страх вползает ей в душу.








