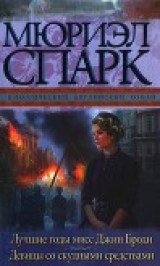
Текст книги "Лучшие годы мисс Джин Броди. Девицы со скудными средствами"
Автор книги: Мюриэл Спарк
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 16 страниц)
Девицы со скудными средствами
Посвящается Элану Маклину
1
Давным-давно, в 1945 году, все приличные люди в Англии, за немногими исключениями, были бедны. Улицы больших городов изобиловали обшарпанными, давно не ремонтировавшимися или вовсе разрушенными домами, грудами каменных осколков от бомбежки, рядом с которыми остовы домов зияли, словно гигантские зубы, в которых уже высверлили, но еще не запломбировали дупла. Некоторые искореженные бомбами здания напоминали руины древних замков, пока, приблизившись, не разглядишь обои самых разных, совершенно обычных комнат, выставленных на всеобщее обозрение, будто на театральной сцене; иногда виднелась цепочка уборной, свисающая над пустотой с потолка пятого или шестого этажа. Большей частью выживали лестничные клетки, словно формы нового искусства, ведущие вверх и вверх, к непонятно какой цели, и это предъявляло непривычные требования воображению. Все приличные люди бедны: таково, во всяком случае, было всеобщее убеждение, а лучшие из тех, кто богат, – бедны духовно.
Не было никакого смысла переживать из-за окружающей обстановки – это было бы все равно что расстраиваться из-за Большого каньона или какого-то события на земле вне пределов человеческого видения. Люди продолжали обмениваться огорчениями по поводу дурной погоды или дурных новостей или по поводу Мемориала Альберта[45]45
Мемориал Альберта – огромный мемориал в честь принца Альберта, построенный в 1863–1876 гг. – Здесь и далее примеч. пер.
[Закрыть], который так и не задела ни одна бомба, и он даже не пошатнулся за все время налетов – от начала и до конца.
Клуб Мэй Текской[46]46
Мэй (Мария) Текская (May/Mary of Teck, 1867–1953) – королева, супруга Георга V, короля Великобритании с 1910 по 1936 гг.
[Закрыть] скромно расположился почти напротив Мемориала Альберта, в одном из высоких домов, все-таки выдержавших войну, хотя и с величайшим трудом: несколько бомб разорвалось совсем рядом, а некоторые – в садах за домами, оставив в зданиях трещины снаружи и расшатавшиеся соединения внутри; и несмотря на это, жить здесь покамест было еще возможно. Разбитые стекла в окнах заменили новыми, дребезжавшими в расшатанных рамах. Совсем недавно черную, как битум, краску затемнения счистили с окон лестничных площадок и ванных комнат. Окна приобрели первостепенное значение в тот последний, решительный год войны: они с первого же взгляда давали понять, обитаем дом или нет; а в течение лет предыдущих они имели не меньшее значение, оказавшись главной зоной опасности между домашней жизнью и войной, происходившей снаружи. Все и каждый не уставали повторять: «Не забудьте про окна! Не подходите к окнам! Осторожно, берегитесь стекол!»
В клубе Мэй Текской с 1940 года окна разбивались трижды, но прямого удара здание ни разу не получило. Окна комнат верхнего этажа в нем выходили на волнообразно поднимающиеся и опускающиеся верхушки деревьев в парке Кенсингтон-гарденз на другой стороне улицы, а Мемориал Альберта можно было увидеть, если вытянуть шею и чуть повернуть голову. Верхние спальни смотрели вниз, на противоположный тротуар парковой стороны улицы и на крохотных человечков, что двигались там парами и в одиночку, некоторые катили перед собой коляски с булавочными головками младенцев или шли с еле различимыми свертками продуктов или точечками продуктовых сумок в руках. Все и каждый имели при себе продуктовые сумки в надежде, что им повезет увидеть магазин, где что-то вдруг продается помимо товаров по карточкам.
Из дортуаров нижних этажей люди на улице выглядели гораздо крупнее и были видны дорожки в парке. Все приличные люди были бедны, некоторые были даже приличнее – ведь такое с приличными людьми случается, – чем эти девушки в Кенсингтонском клубе, которые выглядывали из окон рано утром, чтобы посмотреть, какая погода сегодня, или просто смотрели на зеленые летние вечера, как бы размышляя о тех месяцах, что ждут впереди, о любви, о любовных отношениях. Их глаза горели пылким стремлением, похожим чуть ли не на одухотворенность, но это была просто юность. Первое из правил устава, начертанного в какой-то отдаленный и наивный день эдвардианской эпохи, сегодня все еще более или менее было к ним применимо:
«Клуб Мэй Текской существует для финансового благополучия и общественной защиты девиц и дам со скудными средствами, не достигших тридцати лет, которые обязуются жить отдельно от своих семейств, с тем чтобы впоследствии получить должность в Лондоне».
* * *
Как сами они в той или иной степени сознавали, лишь немногие девушки того времени могли быть более восхитительны, более оригинальны, более трогательно прелестны и, между прочим, более необузданны, чем эти девицы со скудными средствами.
– У меня есть что тебе рассказать, – объявила Джейн Райт, обозреватель газеты.
По ту сторону телефонного провода голос Дороти Маркэм, владелицы процветающего модельного агентства, откликнулся:
– Дорогая, куда ты подевалась?
В тоне ее звучал необычайный энтузиазм – по привычке, сохранившейся с тех пор, как она была юной дебютанткой.
– У меня есть что тебе рассказать. Помнишь Николаса Фаррингдона? Помнишь, он приходил в наш старый Мэй-Тек сразу после войны, он тогда был чем-то вроде анархиста и поэта? Высокий такой мужчина с…
– Это он забрался тогда на крышу, чтобы спать там на свежем воздухе с Селиной?
– Ну да, Николас Фаррингдон.
– А-а, ну да, более или менее помню. Он что, объявился?
– Нет. Его замучили.
– Что?.. Мучили?
– Замучили в Гаити. Убили. Помнишь, он стал Братом…
– Но я только что была на Таити. Там все просто замечательно! И все замечательные! Откуда ты об этом узнала?
– Гаити. Абзац в новостях – только что пришли от «Рейтера». Я уверена – это тот самый Николас Фаррингдон, потому что там говорится – миссионер, бывший поэт. Я чуть не умерла. Видишь ли, я ведь его в то время хорошо знала. Думаю, все постараются замять, если захотят опубликовать статью о его мученичестве.
– Как это произошло? Это очень страшно?
– Ох, я не знаю, там только один абзац.
– Ты побольше разузнай по своим личным каналам. Я просто в шоке. И мне так много надо тебе рассказать.
«Административный комитет выражает недоумение в связи с протестом, высказанным членами клуба по поводу обоев, выбранных для гостиной. Комитет считает нужным указать, что плата за проживание не покрывает текущих расходов клуба. Комитет также считает нужным выразить сожаление, что дух данного учреждения, по всей видимости, так сильно ослабел, что такой протест оказался возможен. Комитет отсылает членов клуба к своду правил данного учреждения».
Джоанна Чайлд была дочерью сельского пастора. Девушка отличалась неплохой сообразительностью и сильными, подчас смутными чувствами. Она готовилась стать преподавателем ораторского искусства и посещала занятия в школе драмы, в то же время она имела собственных учеников. К этой профессии Джоанну Чайлд влекли ее прекрасный голос и любовь к поэзии, которую она любила, как (такое вполне можно предположить) кошка любит птичек: поэзия, особенно тот ее вид, что поддается декламации, возбуждала ее, завладевала ею целиком; она бросалась на этот материал, играла с ним, пока он трепетал в ее мозгу и, когда она запоминала его наизусть, она произносила стихи вслух со всепоглощающим наслаждением. По большей части она не отказывала себе в этом наслаждении, когда давала уроки красноречия в клубе, где благодаря этому заслужила весьма высокое о себе мнение. Вибрации декламационного голоса Джоанны, доносившиеся из ее комнаты или из рекреационного зала, где она часто репетировала, как полагали, придавали еще более утонченный стиль и тон клубу, когда сюда наносили визиты молодые люди. Поэтический вкус Джоанны стал поэтическим вкусом всего учреждения. Она испытывала глубокие чувства к определенным пассажам из Библии, не говоря уже о «Молитвеннике для всех», Шекспире, Джерарде Мэнли Хопкинсе и недавно открытом ею Дилане Томасе[47]47
Джерард Мэнли Хопкинс – английский поэт, католический священник, профессор Дублинского университета. Дилан Томас – английский поэт, прозаик, публицист, автор сценариев для фильмов и радио, прославившийся не только своими стихами, повестями и очерками, но и чтением своих произведений по радио и со сцены.
[Закрыть]. Ее совершенно не трогала поэзия Элиота или Одена[48]48
Томас Стернз Элиот – англо-американский поэт, историк культуры. Уистен Хью Оден – английский поэт.
[Закрыть], кроме двух лирических строк последнего:
Джоанна Чайлд была крупная девушка, со светлыми сияющими волосами, голубыми глазами и ярко-розовыми щеками. Читая объявление, подписанное леди Джулией Маркэм, председательницей комитета, она стояла вместе с другими молодыми женщинами перед доской, обтянутой зеленым сукном, и бормотала вполголоса: «Он гневается, гневается снова, ибо он знает – его время истекло»[50]50
Строка из трагедии У. Шекспира «Король Лир».
[Закрыть].
Немногие знали, что изначально эти слова относились к дьяволу, но реплика вызвала всеобщее веселье. Однако Джоанна на это вовсе не рассчитывала. Ей не было свойственно цитировать что-либо, подходящее к случаю, и в тоне беседы.
Джоанна, которая теперь уже достигла совершеннолетия, отныне станет на выборах голосовать за консерваторов, что в те времена в клубе Мэй Текской ассоциировалось со страстно желаемым образом жизни, о котором ни одна из обитательниц клуба, в силу юного возраста, по собственному опыту ничего не помнила. В принципе все они одобряли то, за что ратовал комитет. Поэтому Джоанну встревожила веселая реакция на ее цитату – дружный смех, означающий понимание, что те дни, когда члены чего бы там ни было не могли выказать протест против обоев для гостиной, давно отошли в прошлое. Невзирая на принципы, все и каждая видели, что объявление просто чертовски смешное. Леди Джулия, должно быть, просто дошла до точки.
«Он гневается, гневается снова, ибо он знает – его время истекло».
Маленькая, темноволосая Джуди Редвуд, работавшая машинисткой-стенографисткой в Министерстве труда, сказала:
– Я так понимаю, что как члены клуба мы имеем полное право высказывать свое мнение об управлении клубом. Мне надо спросить у Джеффри.
Джуди была помолвлена с этим Джеффри. Он пока еще служил в вооруженных силах, но до того, как его призвали, успел получить квалификацию поверенного. Его сестра, Энн Бейбертон, стоявшая вместе с другими перед доской объявлений, откликнулась:
– Вот уж у кого я не стала бы спрашивать, так это у Джеффри.
Энн Бейбертон сказала так, чтобы продемонстрировать, что она знает Джеффри много лучше, чем его знает Джуди; она сказала так, чтобы продемонстрировать любовное презрение к брату; она сказала так, потому что именно это и должна была сказать прилично воспитанная сестра про брата, которым она гордится; и помимо всего этого, в ее словах «Вот уж у кого я не стала бы спрашивать, так это у Джеффри» крылся и элемент раздражения, поскольку она понимала, что нет никакого смысла поднимать вопрос об обоях для гостиной. Энн презрительно затоптала окурок сигареты на полу огромного клубного вестибюля, выстланного розовой и серой викторианской плиткой. На что ей незамедлительно указала худенькая, среднего возраста женщина, одна из старших, если и не совсем из самых первых членов клуба, которая заметила:
– Здесь не разрешается бросать окурки на пол.
Казалось, эти слова не дошли до слуха собравшихся перед объявлением, во всяком случае не успешнее, чем тиканье старинных напольных часов, стоявших позади группы. Однако Энн откликнулась:
– Что, даже плевать на пол не разрешается?
– Конечно, не разрешается, – ответила старая дева.
– Ах, а я-то думала, разрешается, – огорчилась Энн.
Клуб Мэй Текской был основан королевой Марией до того, как она вышла замуж за короля Георга V, когда она еще была принцессой Мэй Текской. В один прекрасный день, где-то между помолвкой и венчанием, ее уговорили приехать в Лондон и объявить об официальном открытии клуба Мэй Текской, содержание которого обеспечивали различные благородные (и хорошо обеспеченные) особы.
Ни одной из первых девиц и дам в клубе не осталось. Но трое из последующих обитательниц получили разрешение жить здесь после установленного предельного возраста – тридцати лет. Им было теперь за пятьдесят: они пришли в клуб Мэй Текской еще до Первой мировой войны, а тогда, утверждали они, все обитательницы были обязаны переодеваться к обеду.
Никто не знал, почему этих трех женщин не попросили покинуть клуб после достижения ими тридцатилетнего возраста. Даже сама ректор не знала, не знал и комитет, почему эта тройка осталась. А теперь было слишком поздно, да и неприлично, выселять их отсюда. Было слишком поздно даже упоминать в разговоре с ними проблему их проживания в клубе. С 1939 года сменявшие друг друга комитеты непременно приходили к выводу, что – в любом случае – старшие обитательницы могут оказывать положительное влияние на более молодых.
Во время войны дело было отложено в долгий ящик, поскольку клуб наполовину опустел; в любом случае взносы за проживание были совершенно необходимы, а бомбы столько вокруг уничтожили, особенно совсем поблизости, что вопрос о том, выстоят ли три старые девицы вместе с домом до конца, оставался открытым. К 1945 году они стали свидетельницами множества приходов новых девиц и дам и уходов старых, и каждое новое пополнение обычно относилось к ним с приязнью, ведь они легко становились предметом оскорблений и насмешек, если пытались во что-нибудь вмешиваться, и с той же легкостью – восприемницами самых интимных секретов, если держались в стороне. Признания редко содержали в себе всю правду, особенно те, что сообщали обитательницы верхнего этажа. Три старые девицы были спокон веку известны – и к ним так и обращались – как Колли (мисс Коулмен), Грегги (мисс Макгрегор) и Джарви (мисс Джармен). Именно Грегги сказала Энн, когда все они стояли у доски объявлений:
– Здесь не разрешается бросать окурки на пол.
– Что, даже плевать на пол не разрешается?
– Конечно, не разрешается.
– Ах, а я-то думала, это разрешено.
Грегги издала притворный вздох великой терпимости и пробралась сквозь толпу обитательниц помоложе. Она подошла к распахнутой на широкое крыльцо двери – выглянуть в летний вечер, словно владелец магазина, ожидающий доставки товара. Грегги всегда вела себя так, будто она – владелица клуба.
Совсем скоро должен был прозвучать гонг на обед. Энн ногой зашвырнула окурок подальше, в темный угол.
Грегги крикнула ей, полуобернувшись:
– Энн, твой молодой человек идет!
– Вовремя, хоть раз в жизни, – произнесла Энн тем же притворно-презрительным тоном, какой приняла, когда говорила про своего брата: «Вот уж у кого я не стала бы спрашивать, так это у Джеффри». И она направилась к двери, небрежно покачивая бедрами.
Румяный, коренастый молодой человек в форме капитана английских вооруженных сил, улыбаясь, вошел в дверь. Энн стояла, глядя на него так, будто у него она уж точно не стала бы ничего спрашивать.
– Добрый вечер, – приветствовал он Грегги, как и подобает хорошо воспитанному молодому человеку приветствовать женщину такого возраста, стоящую у входа. И, признавая присутствие Энн, издал невнятный носовой звук, который, если бы его правильно произнесли, означал бы: «Привет!» Энн вообще ничего не произнесла в качестве приветствия. Они были уже почти помолвлены.
– Хочешь зайти, посмотреть на обои в гостиной? – предложила Энн.
– Нет, давай-ка рванем отсюда поскорее.
Энн вернулась с пальто, переброшенным через плечо.
– Пока, Грегги, – сказала она.
– Всего хорошего, – попрощался капитан.
Энн взяла его под руку.
– Желаю хорошо провести время, – напутствовала их Грегги.
Прозвучал гонг на обед, послышалось шарканье множества ног, спешащих прочь от доски объявлений, и постукивание каблучков с верхних этажей.
Поздним майским вечером на предыдущей неделе весь клуб – сорок с чем-то женщин, со всеми молодыми людьми, которые по случайности могли там оказаться, бросились, словно быстрокрылая стая перелетных птиц, в темный, прохладный воздух парка, пересекая его бесконечные акры по прямой, как летит ворона, в направлении Букингемского дворца, чтобы там, вместе с другими лондонцами, выразить свои чувства по поводу окончания войны с Германией. Они крепко держались друг за друга, по двое и по трое, боясь, что их затопчут. Если же их отрывали от подруг, они хватались за ближайших к ним одиночек, и за них тоже хватались ближайшие к ним одиночки. Они стали как бы частицами морской волны, они вздымались с нею и пели, а через каждые полчаса свет заливал далекий маленький балкон дворца и на нем появлялись четыре маленькие фигурки: король, королева и две принцессы. Монаршая семья поднимала правые руки, их ладони трепетали, словно под легким ветерком, они были похожи на свечи – три свечи в военной форме, а в четвертой можно было узнать королеву – по отделанной мехом гражданской, но военного времени королевской одежде. Рокот толпы, похожий на звуки огромного органа, не сравнимый ни с одним из голосов, издаваемых живой материей, скорее похожий на грохот водопада или геологического сдвига, рос над парком, распространялся по Моллу. Только медики, бдительно стоявшие у машин «скорой помощи» от больницы Св. Иоанна, сохраняли хоть какую-то идентичность. Королевское семейство помахало толпе руками, повернулось, чтобы уйти, задержалось перед дверью, снова помахало и наконец исчезло. Множество незнакомых рук обнимало незнакомые тела. Множество союзов – некоторые даже оказались постоянными – образовалось в эту ночь, и множество младенцев от экспериментальных вариантов союза, восхитительных по оттенкам кожи и расовой структуре, появились на свет по завершении должного цикла из девяти месяцев после этой ночи. Звонили колокола. Грегги заметила, что все это вроде бы похоже на свадьбу и похороны одновременно – в мировом масштабе.
На следующий день все и каждый принялись размышлять, где именно его или ее личное место в новом порядке вещей.
Многие ощутили потребность, причем некоторые даже получали от этого удовольствие, оскорблять друг друга, чтобы что-то доказать или проверить свою позицию.
Правительство напоминало широкой публике, что страна все еще воюет. Официально это было неопровержимо, однако за исключением тех, чьи родственники находились в дальневосточных лагерях для военнопленных или застряли в Бирме, эта война на самом деле ощущалась как нечто весьма отдаленное.
Несколько машинисток-стенографисток в клубе Мэй Текской начали подавать заявления о приеме на работу в более надежные места, то есть, так сказать, в частные предприятия, не связанные с войной, в отличие от недолговечных министерств, где большинство из них тогда работали.
Их братья и молодые люди, служившие в вооруженных силах, еще не демобилизовавшись (до этого было еще очень далеко), поговаривали о том, чтобы заняться каким-нибудь «живым» делом, использовать возможности мирного времени – например, завести грузовик и с него начать создание транспортного бизнеса.
– У меня есть что тебе рассказать, – сказала Джейн.
– Подожди минуточку, я только дверь закрою. Ребятишки расшумелись, – ответила Энн. И тотчас же, вернувшись к телефону, сказала: – Ну, выкладывай.
– Ты помнишь Николаса Фаррингдона?
– Кажется, помню – только имя.
– Помнишь, я его в Мэй-Тек приводила в 1945-м? Он часто на ужин приходил. У него еще были шашни с Селиной.
– А-а, Николас! Который на крышу залез? Как давно это все было! Ты что, с ним виделась?
– Я только что видела в газете новость. Агентство «Рейтер» сообщает, что его убили во время очередного восстания в Гаити.
– Неужели? Какой ужас! А что он-то там делал?
– Ну, он ведь стал миссионером или кем-то вроде того.
– Не может быть!
– Еще как может. Ужасная трагедия. Я ведь его хорошо знала.
– Кошмар какой! И так все сразу вспоминается. А ты Селине рассказала?
– Ну, я не смогла ей дозвониться. Ты ведь знаешь, какая теперь Селина, она по телефону лично не отвечает, приходится пробиваться через тыщи секретарей, или как их там…
– Ты можешь из этого сделать хороший материал для своей газеты, Джейн, – посоветовала Энн.
– Я знаю. Просто жду, пока станут известны детали. Конечно, столько лет прошло с тех пор, как мы были знакомы, но это была бы интересная статья.
Двое молодых мужчин – поэты (в силу того факта, что сочинение стихов покамест было их единственным постоянным занятием) – возлюбленные двух мэй-текских девиц и в данный момент больше ничьи, облаченные в вельветовые брюки, сидели в кафе на Бейсуотер-роуд со своими молчаливо внимавшими им обожательницами и беседовали о новом будущем, одновременно перелистывая гранки книги отсутствующего приятеля. Один из мужчин сказал другому:
А другой улыбнулся, как бы скучающей улыбкой, но с сознанием, что мало кто во всем огромном метрополисе и его провинциях-данниках осведомлен о том, откуда проистекают эти строки. Этот другой, который улыбнулся, и был Николас Фаррингдон, тогда еще неизвестный или еще вряд ли имевший возможность таковым стать.
– Кто это написал? – спросила Джейн Райт, полноватая девушка, работавшая в издательстве и считавшаяся мозговитой, но как-то чуть ниже мэй-текского уровня – с социальной точки зрения.
Ни тот, ни другой мужчина не счел нужным ответить.
– Кто это написал? – снова спросила Джейн.
Поэт, сидевший поближе к ней, сказал:
– Некий поэт из Александрии.
– Из новых поэтов?
– Нет, но довольно новый для нашей страны.
– А как его имя?
Он не ответил. Молодые люди снова заговорили. Они беседовали об упадке и провале анархистского движения на острове, где оба родились, уже не заботясь о том, понятен их разговор остальным или нет. Им надоело в этот вечер заниматься просвещением юных девиц.








