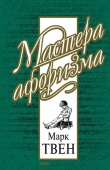Текст книги "Марк Твен"
Автор книги: Морис Менлельсон
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 15 страниц)
– Я стремился к этому так долго и добился этого наконец. Мне безразлично – буду ли я писать с юмором, или патетически, или красноречиво, или что-либо в этом роде, – моя конечная мечта и желание – быть «подлинным», считаться «подлинным».
К тому времени, когда Твэн закончил «Гека», ему уже было почти пятьдесят лет. Он успел изучить свою родину, ее людей. Недаром Твэн говорил, что американский писатель может начать писать по-настоящему лишь пос-м того, как ой «впитывал в себя действительность по меньшей мере четверть века».
Сатирическое или критическое направление, которое, по словам Чернышевского, в русскую художественную литературу прочно ввел Гоголь, в американской литературе началось с Твэна – писателя, который, по отзывам вульгарной американской критики, стремился только утешить человека, окрасить ему действительность. Твэн был учителем американских писателей конца XIX и начала XX века, подошедших к американской действительности с критериями критического реализма. Он проложил путь и для Крейна, и для Дрейзера, и для современных революционных писателей Америки.
Разоблачая, бичуя, сатирически отражая действительность Америки, Твэн исходил из идеалов демократического гуманизма. Даже в «Томе Сойере» есть элементы протеста против того, что душит жизнь, любовь к солнцу, лесу, реке, чистому воздуху, что здоровой, мощной природе противопоставляет скуку и ханжество воскресных школ и церкви. Марк Твэн издевается над чванливым мещанством, над ложью, лицемерием. Том и все его приятели завидовали Геку, ибо «…ему не надо было ходить ни в школу, ни в церковь, ему некого было слушаться, над ним не было господина. Он мог удить рыбу или купаться, когда и где ему было угодно, сидеть в воде, сколько ему заблагорассудится. Никто не запрещал ему драться. Он мог не ложиться спать хоть до самого позднего вечера. Весною он первый из всех мальчиков начинал ходить босиком, а осенью обувался последний… Словом, он обладал всеми радостями, которые делают жизнь прекрасной…»
Гек и в первой книге с большим трудом, чем Том, уживается в мире добродетели. Он жалуется, что «вдова… все время… молится, Том, молится, чтобы ей пусто было».
В книге, названной его именем, Гек Финн видит, что люди неладно живут в этих арканзасских городках в Долине демократии. Они бедны, дома их убоги. Они не имеют мужества противостоять полковникам Шерборнам. Гек не понимает причины этого, не умеет помочь делу, но ему не по себе. Его гнетет то, что люди малодушны, жестоки друг к другу, склонны к лицемерию и обману. Будучи свидетелем мошеннических проделок «герцога» и «короля», он говорит: «Я отроду не видел ничего противнее».
Гек полон глубокой любви к людям. Ему хочется, чтобы жизнь была иной, чтобы люди не причиняли друг другу столько зла. Когда разъяренная толпа хватает, наконец, мошенников «короля» и «герцога», вымазывает их дегтем и осыпает перьями, когда их несут верхом на шесте, Геку становится жаль даже «этих несчастных плутов. Мне показалось, что я уже никогда не смогу сердиться на них. Это было страшное зрелище».
После гибели Гренджерфордов Гек не морализирует. Он только говорит: «Я не стану рассказывать все, что произошло. Мне опять сделается худо. Лучше бы мне совсем не вылезать на берег в ту ночь, чем видеть такие ужасы, я никогда не отделаюсь от них. Очень часто я вижу их во сне».
Реакции Гека на обиды и несправедливости часто наивны и логика объяснений детская, но суть их всегда человечна, правильна. Этот здоровый в своих инстинктах, не обремененный тяготами цивилизации босоногий мальчуган естественно чуток, правдив и благороден. Он, разумеется, лжет, сколько требуется, и даже делает это с увлечением, когда вынуждают обстоятельства, – а в последних нет недостатка, – но совесть у него чиста. Он всем сердцем хотел бы быть хорошим, даже в том смысле этого слова, который придает ему вдова Дуглас, но это ему почти никогда не удается.
К моменту окончания «Гека» прошло два десятка лет со времени освобождения негров-рабов, но никто до Твэна не писал о неграх с такой задушевностью и в то же время так правдиво, без сентиментальности. Как относились на Юге к неграм, видно хотя бы из знаменитого по своей выразительности и краткости диалога между Геком и сердобольной женой Фелпса. Гек рассказывает, что на пароходе выбило взрывом головку цилиндра.
«– Боже милостивый, кто-нибудь пострадал?!
– Нет, мэм, убило негра.
– Ну, это счастье, потому что иногда при этом попадает людям».
Гек нежно любит своего товарища по путешествию – негра Джима.
С исключительной человечностью написана сцена, где Джим вспоминает свою семью, оставленную им при побеге. Рассказ Джима о том, как он наказал свою дочь, принадлежит к лучшим страницам мировой литературы.
«Мне так тяжко сейчас, – говорит Джим, – потому, что я слышал там на берегу, точно затрещину или оплеуху, и это мне напомнило, как я обидел мою маленькую Лизабет. Ей было всего-то четыре годочка, и она заболела скарлатиной, и ей было очень худо; но она поправилась, и вот раз она стоит около меня, и я ей говорю:
– Затвори дверь.
А она и не подумала; стоит себе и вроде как бы улыбается мне. Я разозлился и снова говорю, громко так говорю:
– Ты что – не слышишь? Затвори дверь!
И она все так же стоит, вроде как улыбается. Я совсем взбесился. И говорю:
– Я тебе покажу!
И дал ей пощечину, да так, что она отлетела. Потом я ушел в другую комнату и был там минут десять, а когда я вернулся, дверь все еще была открыта, а ребенок стоял как раз у двери, повесил голову и плачет, и слезы у него так и текут. Ну, я прямо взбесился и хотел уже броситься на ребенка, но тут как раз, – эта дверь отворялась наружу, – как раз подул ветер и захлопнул ее за спиной ребенка, – бах! – и, боже ты мой, ребенок даже не пошевельнулся. У меня дыхание захватило, и я почувствовал такое – такое, – я даже не знаю, что я почувствовал. Я выбрался из комнаты, весь дрожа, обошел кругом, медленно приотворил дверь, тихо и осторожно просунул голову за спиной ребенка, да вдруг как крикну: «бум!» – громко, как только мог. А она и не пошевельнулась. Ох, Гек, тут я разревелся, схватил ее на руки и говорю: «Бедняжка! Боже милостивый, прости бедного старого Джима, потому что он сам себе не простит никогда, во всю свою жизнь!». Она стала совсем глухая и немая, Гек, совсем глухая и немая, а я так с ней поступил!»
Книга о Геке, как и «Приключения Тома Сойера», отражает демократическое мироощущение Твэна. Но в «Геке Финне» демократия уже не представляется писателю в виде раз навсегда дарованной идиллии. Демократия находится под угрозой. Твэн издевается над рабовладельческими нравами аристократического Юга, с кровавой местью, дуэлями и безнаказанными убийствами. Гек – явный республиканец, он высмеивает монархию. Он говорит, что жулики – «герцог» и «король» – «ничем не отличаются от настоящих королей и герцогов». Твэн выступает за демократию, за лучшие идеалы буржуазной революции, против монархии и феодализма.
Действенный демократизм требует мужества, способности пойти войной на несправедливость, невзирая на любые трудности и невзгоды, вопреки всем традициям. И Гек проявляет себя не только как человек сострадательный, но и как человек мужественный.
На протяжении многих дней своего путешествия по Миссисипи Гек озабочен дилеммой – передать или не передавать Джима в руки властей. Он не сомневается в том, каков его долг, – ведь Джим убежал от своей хозяйки.
Когда путешественники находятся у самой границы штатов, где Джим может стать свободным человеком, Гек испытывает особенно сильные угрызения совести. «Раньше я не задумывался над тем, что делаю, но теперь я очнулся – совесть мучила меня сильнее и сильнее. Уж как я ни старался себя убедить, что ни в чем не виноват, что не я заставил Джима сбежать от законной владелицы, – все напрасно: каждый раз совесть восставала и говорила мне: «Но ведь ты знал, что он сбежал, ты мог сойти на берег и донести кому-нибудь». Понятие «добра» и «зла» в рабовладельческих штатах носило вполне определенный характер. Гек не посещал церкви и воскресной школы, не останавливался перед тем, чтобы присвоить кусок хлеба или фрукты для утоления голода, но даже этот бродяжка был уверен, что помочь беглому негру – значит пойти не только против установленных законов, но и против совести.
Гек говорит: «Совесть нашептывала мне: «Что тебе сделала бедная мисс Ватсон, что ты позволил ее негру сбежать на твоих глазах и не промолвил ни словечка? Что тебе сделала дурного эта бедная старуха, что ты мог поступить с нею так низко?.. Я почувствовал себя таким подлецом, таким несчастным, что мне захотелось умереть…»
Решимость Гека выдать Джима, того Джима, ноги которого он готов был целовать, Джима, с которым он спал и ел, несколько ослабла лишь после того, как Гек услышал горячие слова благодарности негра по отношению к тому, в ком он видел избавителя: «Джим вам никогда этого не забудет, Гек! Вы лучший друг мой – такого у меня от роду не бывало; теперь – вы единственный друг старого Джима на белом свете!»
После того как Гек и Джим проскочили мимо устья притока Огайо, с каждой милей, которую они плыли по течению к югу, все меньше становилось надежд на избавление Джима от судьбы раба, притом беглого раба, подлежащего страшному наказанию. И все же мысль о том, что он поступает неправильно, скрывая беглого негра, продолжала мучить Гека. Когда «король» и «герцог» продали негра в рабство, Гек собирался было написать владелице Джима о случившемся, но потом передумал, ибо «подумайте только, что станется со мной! Всюду разблаговестят, что Гек Финн помогал негру бежать на волю; и если мне придется потом встретить кого-нибудь из того города, я готов буду сгореть со стыда. Вот всегда так, – человек сделает низкий поступок, а потом и. не хочет брать на себя последствий… Чем больше я это обдумывал, тем сильнее грызла меня совесть и тем больше я сознавал себя низким, скверным и жалким!..»
В конце концов Гек все же написал мисс Ватсон, хозяйке Джима, – уж слишком мучила его совесть. Он верил, «что люди, которые поступают так, как я поступил с этим негром, идут в вечный огонь». Может быть, следует напомнить, что в этих строках Твэн пишет о муках совести Гека по поводу того, что он не предал Джима.
Написав записку, Гек испытал облегчение, он «почувствовал себя чистым и свободным от греха, как никогда еще в жизни…» «Как хорошо, что все так обошлось, – говорит себе Гек, – а ведь я чуть было «е погиб и не попал в ад».
Но поневоле Гек снова начинает вспоминать, каким другом был для него негр Джим, как он любил Гека, как ласкал и заботился о нем. И вслед за этим следуют прекрасные строки, принадлежащие к лучшему, что когда-либо писал Марк Твэн:
«…Тут я случайно оглянулся и увидал свою записку… Я взял ее и подержал в руке, дрожа от волнения: ведь тут я должен был сделать выбор на веки вечные, между двумя путями, и я это знал!.. С минуту я размышлял, затаив дыхание, а потом говорю себе:
– Ладно, уж лучше попаду в ад, – и разорвал бумагу».
Решение Гека пойти в ад – место вполне реальное в его понятии, – на вечные муки ради негра, ради своего ближнего, ради борьбы с тем, что в глубине души он считал несправедливостью, поднимает образ этого «босяка», помощника блестящего Тома Сойера, на необычайную высоту.
В книге нет слов восхищения перед Геком – повествование ведется от имени самого Гека, а иронически сдержанный Твэн вообще предпочитает обходиться без комментариев. Но в последних главах приводится факт, который бросает особый свет на поведение Гека.
На ферму Фелпса, куда попали Гек и Джим, Твэн неожиданно перебрасывает самого Тома Сойера. Фермер узнал, что негр – беглый, и Том с Геком решают помочь Джиму скрыться. Освободить негра было бы довольно просто, но изобретательный Том всяческими способами пытается романтически осложнить побег и тем самым мучает Джима. И вот Гек не может понять, как это Том «при его воспитании» соглашается помочь негру бежать из рабства. Он не может поверить, что Том, подобно ему самому, готов ради восстановления справедливости пойти против всех правил морали «лучших людей» своей деревни. И Гек правильно оценивает своего приятеля. Ведь на поверку выходит, что Том согласился оказать помощь Джиму в побеге лишь после того, как узнал, что Джим отпущен его владелицей на свободу. Твэн роняет это замечание мимоходом. Он сам как будто не придает ему значения. Но теперь ясно, что «побег» нужен не Джиму, а Тому, потому что он любитель приключений, и вся затянувшаяся история с освобождением Джима начинает казаться возмутительной. Нет, Том не согласится пойти в ад, чтобы спасти беглого негр?.. Том достаточно «благоразумный» мальчик.
Гек, проявляющий исключительное моральное мужество, стоит на неизмеримо большей высоте, чем Том, умный милый шалун, который не нарушит важнейших правил буржуазной добропорядочности.
Твэн любит Гека Финна, честного, смелого героя своей повести.
Вместе с простодушным, но глубоко человечным, беззаветно преданным своим друзьям и по-народному мудрым негром Джимом Гек представляет то положительное начало, которое, несмотря на все грустные картины, придает книге «Приключения Гекльберри Финна» утверждающий характер, рождает веру в лучшее будущее человечества.
Твэн не забывал, что книгу будут читать дети, будет читать американский читатель, воспитанный на «благополучных концах», он еще верил, что проблемы, стоящие перед Америкой, относительно легко разрешимы и что возможен благополучный конец и для приключений Гека и Джима. Повесть кончается на счастливой ноте – Джима освобождают, он получает вольную. Но на какие ухищрения приходится итти Твэну, чтобы добиться счастливого завершения повести! Все эти совпадения – Гек случайно попадает на ферму дяди Тома Сойера – Фелпса, его, конечно, принимают за Тома, наконец, появляются сам Том и тетя Полли, – все эти подражания при «спасении» Джима образцам приключенческой литературы, вся наивность, которую проявляют при этом бесцветные Фелпсы (родные братья блестяще обрисованных жителей арканзасских городков), – все это скучно, безвкусно, неслаженно.
Жизнь уже не могла дать Твэну реального благополучного конца для повести о Геке, и он прибегнул к приему, искусственность которого очевидна для каждого читателя этой замечательной повести.
Гениальный Уолт Уитмэн, чувствовавший биение жизни на всем континенте Америки, спрашивал еще в 1870 году, почему в американской литературе не находят отражения свежесть, мужественность, здоровье, подлинная действительность Миссисипи, Запада, Юга? Воинствующий американский демократ, поднимавший идею демократии на необычайную, неприемлемую для «позолоченного века», высоту, Уитмэн требовал создания нового положительного образа американца, в противовес образам, созданным рабовладельческой аристократией Юга. Он говорил, что ждет нового слова только от фермеров, шахтеров, народа.
Марк Твэн, который всей своей жизнью был подготовлен к тому, чтобы отразить «подлинные умственные и физические факты», как выражался Уитмэн, жизни огромных колонизируемых территорий Америки, своей повестью о Геке вписал в американскую литературу одну из тех страниц, отсутствие которых Уитмэн так остро ощущал.
«Гекльберри Финн» – глубоко поэтичная повесть; жизнь прекрасной Миссисипи отразилась в ней во всем своем многообразии и противоречиях.
Твэн видит людей глазами художника. Лучшие образы Твэна – от Гека и Джима до полковника Шерборна, Боггса, «короля» и «герцога» – точны и нарисованы скупыми мазками.
Речь Твэна в «Геке» и других лучших его произведениях – ясная, прямая, сжатая. Хоуэлс справедливо говорил, что. Твэн «умеет найти неуловимое, изменчивое золотое зернышко – нужное слово». Твэн гордился своей способностью работать над словом (хотя делал это далеко не всегда), гордился тем, что может писать такие диалоги, по которым каждый узнает, из какой местности происходит говорящий. Творчество Твэна – целая эпоха в истории развития американского литературного языка. Богатство и законченность языка Твэна определились с особенной ясностью в повести о Гекльберри Финне. Твэн, наравне с Уитмэном, ввел народный язык в художественную литературу, обогатил ее энергичными, точными и меткими оборотами народной речи.
Мастер сжатой характеристики, увлекательный рассказчик, Твэн в то же время тонкий художник поэтического пейзажа. Сохраняя все своеобразие языка беспризорного мальчугана, он дал такие, например, замечательные картоны природы, нарисованные в книге Геком:
«…Нигде ни звука – полная тишина, точно весь мир спит, только изредка, может, заквакают лягушки. Прежде всего вдали за рекой появлялась туманная линия, – это были леса на том берегу, больше ничего нельзя было разглядеть; потом бледное пятно на небе; потом бледное пятно расширялось; река вдали становилась светлее и была уже не черная, а серая; можно было различить проплывающие темные маленькие точки – баржи и тому подобное и длинные черные полосы – плоты; иногда слышался скрип весел и заглушенные голоса; было так тихо и слышно далеко, далеко; потом можно было различить на воде струйку, – посмотришь на нее и знаешь, что в этом месте есть коряга; быстрое течение разбивается о нее, и поэтому у струйки такой вид; и видишь, как туман клубами поднимается с воды и восток розовеет, и река тоже, и вдруг замечаешь на опушке леса, вдали, на той стороне реки, бревенчатую хижину, вероятно, лесной склад, и возле нее бревна навалены так, что любое можно зацепить багром; потом сразу поднимается приятный ветерок и издалека овевает прохладой и свежестью, и приятно пахнет лесом и цветами; а иногда пахнет и совсем по-другому, потому что кругом валяются дохлая рыба, мусор и тому подобное, и все это здорово гниет; а потом наступает день…»
Характерна для Твэна реалистичность, художественная правдивость описаний, верность их образу Гека, от имени которого ведется повествование. Ведь именно суровый реалист Гек мог от запаха леса и цветов перейти к запаху дохлой рыбы.
Любопытно сравнить это описание восхода солнца с другим, которое дается в «Жизни на Миссисипи».
«Сначала выразительная тишина, глубокое молчание повсюду. Потом – жуткое ощущение одиночества, отрезанности, удаленности от суеты и суматохи мира. Украдкой пробивается рассвет: плотные стены черного леса мягко сереют, и широкие полосы реки открываются и становятся виднее, вода глаже стекла, над ней – призрачные венчики беглой мглы, ни малейшего дыхания ветра, ни один листок не пошевельнется; глубокое, бесконечно радующее спокойствие. Затем чирикнет птица, за ней – другая, и скоро чирикание сливается в ликующий взрыв музыки. Птиц не видать, – вы просто плывете среди песни, которая как будто льется сама собой. А когда свет становится сильнее, развертывается такая чудесная, такая мягкая панорама, какой и не вообразить. Ближе к вам – яркая зелень густой, непроницаемой листвы, дальше она – от оттенка к оттенку бледнеет; на ближайшем мысу, в миле от вас или более, – листва кажется светлой, как нежная Весенняя поросль, на следующем мысу – листва почти бесцветна, а дальний мыс, на много миль, до самого горизонта, спит на воде, как смутное облако, и его почти не отличить от неба над ним и вокруг него. А все пространство реки – как зеркало; призрачно отражаются в нем листва и извилины берегов и дальние мысы».
И в описании арканзасской деревушки, и в картинах природы Твэн дает свежие, красочные образы, глубокие и правдивые, поднимающиеся на ступень обобщения.
Твэн, юморист «дикой западной» школы, даже в «Томе Сойере» и «Геке Финне» во многом остается верным себе. Превосходным образцом западного юмора, юмора «границы», является сцена на плоту, перенесенная Твэном из «Гека Финна» в «Жизнь на Миссисипи».
Гек Финн попадает на чужой плот, где становится свидетелем перебранки двух трусов, пытающихся запугать друг друга и тем самым избежать настоящей драки. Один кричит:
«У-ух! Я настоящий старый убийца, с железной челюстью, стальной хваткой и медным брюхом, я – трупных дел мастер из дебрей Арканзаса! Смотрите на меня! Я тот, кого называют «Внезапной смертью» и «Всеобщим несчастьем». Рожденный бурей и землетрясением, сводный брат холеры и родственник черной оспы со стороны матери! Смотрите на меня! Я проглатываю девятнадцать аллигаторов и бочку виски на завтрак, когда я в добром здоровье, или бушель гремучих змей и мертвеца, когда мне нездоровится. Я раскалываю несокрушимые скалы одним взглядом и могу перереветь гром! Отойди все назад! Дайте моей мощи простор! Кровь – мой излюбленный напиток, и стоны умирающих – музыка для моего слуха! Обратите на меня ваши взоры, джентльмены, и замрите, затаив дыханье, – я сейчас выйду из себя!»
Драться этот поглотитель аллигаторов не собирается. Его противник, впрочем, не уступает ему ни в трусости, ни в хвастовстве.
«У-ух! Склоните головы и падите ниц, ибо приблизилось царство скорби! Держите меня, ибо я чувствую, как рвутся из меня мои силы! У-ух! Я – сын греха, не давайте мне воли! Берите закопченные стекла, вы все! Не рискуйте смотреть на меня простым глазом, джентльмены!
Когда я в игривом настроении, я запасаюсь меридианами широты и долготы, вместо сети, и ловлю китов в Атлантическом океане! Я почесываю голову молнией и убаюкиваю себя громом! Когда мне холодно, я подогреваю Мексиканский залив и купаюсь в нем, а когда жарко – обмахиваюсь полярной бурей; когда мне захочется пить – я хватаю облако и высасываю его, как губку; когда мне хочется есть – брожу по земному шару, и голод ползет за мной по пятам. У-ух! Склоните головы» падите ниц! Я накладываю ладонь на солнце и – на земле наступает ночь; я откусываю ломтики луны и ускоряю-смену времен года; если я встряхнусь – горы рассыпаются. Созерцайте меня через кусочки кожи – не пробуйте взглянуть простым глазом! Я – человек с каменным сердцем и лужеными кишками! Избиением небольших общин я развлекаюсь в свободные минуты, а истребление народов – это моя основная профессия! Необъятные просторы великой американской пустыни принадлежат мне: убитых мною я хороню в моих собственных владениях!»
В этих классических примерах западного хвастовства Твэн следует образцам народного юмора, нашедшего выражение в рассказах о былых героях Запада и Миссисипи – Крокете, Майке Финке и Беньяне. В сцене на плоту особенно много от Крокета, который, как рассказывали о нем, однажды, когда земля примерзла к своей оси и перестала вертеться, а солнце застряло между двумя кусками льда, помог земле и солнцу выйти из трудного положения.
Во всех произведениях Твэна, даже самых поздних, много от безудержного в своей выдумке западного юмора, юмора вранья, фантастики, самых красивых девушек, самых уродливых собак во всем Кентукки, на всей Миссисипи, во всем мире.
О великанах – «полу-лошадях, полу-аллигаторах» рассказывали за много лет до рождения Твэна. Даже библейские легенды в устах негров, этих первых американских юмористов, звучали как типичные повествования «границы». Вот, например, отрывок из «истории» Давида и Голиафа.
«– Что это такое, старый царь Саул? – спрашивает маленький Давид.
– Это старый Голиаф.
– Чего он хочет?
– Он хочет драться.
– Но ты ведь царь, не правда ли? Разве ты не можешь помочь ему удовлетворить его желание?
– Кто, я? – говорит Саул. – Я женатый человек. Конечно, я его не боюсь, но у меня жена и целое семейство».
Наконец, Голиафу надоедает словесное препирательство. Он выступает вперед и говорит, точно матрос с Миссисипи: «Я помесь дикой кошки… Я полон злобы и готов к драке».
Твэн не только впитывал в себя с раннего детства фольклор американского Запада, он изучал его, коллекционировал анекдоты, народные сказания, суеверия, приметы.
В «Томе Сойере» и «Геке Финне» собрана целая энциклопедия суеверий и примет. Тут и дохлые кошки, и гнилая вода, и гороховые стручки, чтобы выводить бородавки; тут ведьмы, черти и опасности, возникающие, если перечислить, что будешь готовить к обеду, или вытряхнуть скатерть после захода солнца и т. д.
После очередной нравоучительной беседы Гек почувствовал себя очень тоскливо, и вот что он рассказал: «Сияли звезды, и в лесу печально шелестели листья; и я услышал, что вдалеке сова кричит над кем-то, кто умер;-а козодой и собака воют над кем-то, кто должен умереть; а ветер шептал мне что-то, я не мог разобрать, что именно, и от этого у меня холодная дрожь проходила по спине. Потом я услышал вдали, в лесу, тот звук, который издает привидение, когда хочет что-то сказать, что его заботит, а его никто не понимает, и поэтому ему не лежится спокойно в могиле и приходится этак бродить в тоске каждую ночь. Я так приуныл и так струхнул, что пожалел, что у меня нет компании. А тут паук пополз у меня по плечу, и я стряхнул его, а он попал прямо на свечу, и не успел я пошевельнуться, он уже весь сморщился. Не приходится говорить, что это ужасно плохая примета и принесет мне беду…»
От западного юмора у Твэна особенная любовь к пародиям. Твэн-моралист пишет многочисленные пародии на тему о богатстве. В «Бродяге за границей» богатством оказывается навоз, в «Романе эскимоски» – рыболовные крючки.
Твэн, враг ханжества, пошлости, лицемерия, создал не одну пародию на вульгарный оптимизм, на трафаретную сентиментальную литературу «благополучного конца» (рассказы о признательном пуделе, благодетельном авторе и благородном супруге), он многократно пародирует тему скверного и хорошего мальчиков, показывая, насколько лжива проповедь воскресных школ. Твэн пишет пародии на псевдо-высокие чувства. Такова его пародия «Легенда о Загенфельде». Пародией же является в «Геке Финне» монолог о королях.
Жизнь «границы», новой страны без культурных традиций и признанной литературы, жизнь суровая, полная опасностей и отчаянной борьбы за существование, способствовала развитию юмора грубого, даже жестокого.
Совершенно в духе этого юмора заявление «вандала-простака», которому пришлось слишком много слышать о Микельанджело: «Я никогда не чувствовал себя таким благодарным, таким успокоенным, таким счастливым, столь полным благословенного мира, как вчера, когда я узнал, что Микельанджело умер».
Грубость и преувеличения, самые крайние, обязательны в юморе Твэна. Пароход, наскочивший на мель, конечно, вышибает эту мель на середину залива. Тому Сойеру предсказывали, что «быть ему президентом, если его до той поры не повесят». Даже в «Принце и нищем», в полном соответствии с традициями западного юмора, Том, узнав, что похороны скончавшегося Генриха VIII состоятся не скоро, замечает: «Странный обычай, а тело сохранится?» У Твэна немало страшных шуток – о гробовщиках, о трупах, разгуливающих по кладбищу, о людоедстве в поезде и т. д.
Безудержность юмора Дальнего запада нашла выражение не только в легендах о том, как Крокет вмешивался в жизнь небесных светил, а Беньян перекраивал на новый лад земную поверхность, но и в менее фантастических рассказах. Сообщали, например, о появлении такого высокого человека, что ему приходилось влезть на стул, чтобы побрить свое лицо. Совершенно в этом духе Твэн в «Жизни на Миссисипи» рассказывает о тени, которая примерзла к полу, или о том, что во время пароходных состязаний на скорость, боясь нарушить равновесие судна, опытный моряк «всегда держится середины парохода и даже пробор делает посередине, пользуясь для этого ватерпасом». В «Геке Финне» и других произведениях Твэна фольклор использован с высоким мастерством. Простаки и остроумцы глухих мест Долины демократии заговорили на своем красочном, изобретательном, глубоко своеобразном языке с читателями всего мира.
Но Твэн ушел мастерски преподносить не только западный юмор. В «Томе Сойере» и других произведениях Твэна не трудно найти следы влияний юмориста Шилабера и еще более ранних писателей Востока с их способностью подмечать мелкие пороки, с их стремлением осмеивать скупость, жадность, тщеславие в фермерском быту Новой Англии. От старой американской традиции идет и любовь Твэна к изображению жуликов, пройдох и бездельников вроде Сэггза, Ловингуда и других.
Твэн, как никто, освоил также технику юмора появившихся позднее профессиональных юмористов эстрады, умеющих говорить смешные неожиданности, смешивать великое и малое, высокое и низменное, играть словами, пародировать, не бояться эксцентричности, диких преувеличений. Классические примеры юмористики этой школы содержатся в твэновских фразах о «спокойной уверенности христианина, у которого в руках четыре туза», об «огнедышащем драконе, который причинил больше неприятностей, нежели сборщик податей», о том, что «если в спешке строишь вселенную или дом, то почти наверняка потом заметишь, что забыл сделать мель или чулан для щеток…»
Твэн знал все законы своей профессии. Он умел подготовить смешной, неожиданный конец рассказа, выдержать строгое выражение лица на всем протяжении длинного предисловия к смешному заключительному аккорду.
По этому принципу Твэн построил, например, свою послеобеденную речь, начинавшуюся словами: «История повторяется». Произошло удивительное совпадение: сегодня все напоминает Твэну одно событие из его прошлого. Случилось, что Твэн с приятелем никак не могли достать билеты на поезд. Внезапно кондуктор узнал Твэна и предоставил ему отдельное купе. Однако он принял Твэна за…генерала Маклеллана. «И вот тут-то, – заключил Твэн свою речь, – появилось то чудесное совпадение, о котором я говорил в самом начале. Услышав, за кого меня приняли, я потерял дар слова, и это то состояние, в котором я нахожусь и теперь. Понятно?»
Твэну не чужд юмор рассказов о том, как, целя в мышь, он «попадал одним ботинком в приятеля, а другим в зеркало», есть у него немало рассказов поверхностных, зубоскальских.
Но характерен для более позднего Твэна юмор мягкий, рождающийся из тонкой наблюдательности. С подлинной веселостью Твэн описывает, какие блестящие возможности плеваться на новый лад открылись перед Томом Сойером, когда ему вырвали зуб, или сцену появления пуделя в церкви – в той же книге «Том Сойер».
Ярким образцом твэновского юмора, тонкого, наблюдательного и вместе с тем специфически «западного», является сцена с гробовщиком в «Гекльберри Финне»:
«Когда помещение было полным-полно, гробовщик, в своих черных перчатках, мягко и осторожно пробрался кругом, провел последние штрихи, устраивая всех поудобнее, беззвучно, как кошка. Он не говорил ни слова; он передвигал людей, втискивал опоздавших, расчищал дорогу и делал все это лишь кивками и движеньем руки. Потом он занял место у стены. Он был самый мягкий, скользкий, вкрадчивый человек, какого я когда-либо видел, и улыбался он так же мало, как, скажем, окорок.