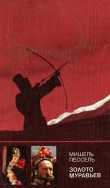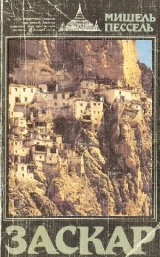
Текст книги "Заскар. Забытое княжество на окраине Гималаев"
Автор книги: Мишель Пессель
Жанр:
Путешествия и география
сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 18 страниц)
Пипитинг
Во время долгих совместных странствий у меня было время поближе познакомиться с Нордрупом. Он происходил из менее зажиточной семьи, чем Лобсанг, и у него было не столь счастливое детство – он потерял мать, будучи ещё мальчиком. Его живой ум помог ему быстро выучиться читать, писать и усвоить те знания, которые преподаются молодым монахам. Не имея прочных семейных связей в Заскаре, Нордруп, человек с непоседливой натурой, смолоду принялся путешествовать. Это облегчалось тем, что монахов хорошо принимают почти во всех буддийских монастырях Гималаев. Несмотря на изолированное положение Заскара, его жители ощущают глубокую духовную общность с обширным гималайским миром; ничто не мешает им повсюду чувствовать себя как дома. Люди тибетской культуры могут пройти тысячи километров по Гималаям с уверенностью, что всюду встретят людей, говорящих на том же языке, имеющих те же обычаи и религию.
В путешествии монахи обходятся без денег; их примут в любом доме, где чаще всего, как я уже говорил, им не надо платить за ночлег и еду. Гималайская цзамба значительно упрощает проблему провизии: поджаренную муку можно есть в холодном виде, и хранится она долгие месяцы. Нордруп с гордостью показал мне мешочек с цзамбой, который он принёс из Тхунри в предвидении долгого путешествия в Центральную Индию. На высокогорных перевалах, засыпанных снегом и обдуваемых ветрами, костра не развести, а потому заскарцы не запасаются топливом и не делают долгих стоянок, как китайцы и индийцы, питающиеся рисом, который требует немало времени для варки.
Нордруп ещё мальчиком побывал на Тибете. Затем посетил Ладакх, где жил в различных монастырях. В родной монастырь Карша он вернулся монахом-торговцем. Несколько раз ходил в Манали, город у начала долины Кулу, куда мы сейчас направлялись. Там он покупал для своего монастыря хлопчатобумажные ткани, иголки и подковы, а также лошадей. Нордруп хорошо знал дорогу, по которой мы шли.
Будучи как-то в Манали, он решил посетить город Дхарамсала, нынешнюю резиденцию далай-ламы. Бежавшие в своё время из Лхасы в Индию монахи и знатные люди жили там в условиях, как ему показалось, современного комфорта. Автомобили и электричество поразили его воображение.
В Дхарамсале Нордруп услыхал о большом центре выходцев из Тибета в штате Майсор, на юге Индии. Получив рекомендательное письмо к настоятелю ближайшего к посёлку тибетцев монастыря, он, нисколько не смущаясь расстоянием, проехал на автомашинах и поезде (первом, увиденном им) более трёх тысяч километров по тропической Индии. Там он несколько зим учил юных тибетцев читать и писать. Когда приближалось лето с его невыносимой жарой, возвращался на север, пересекал горные перевалы и приходил в родной монастырь Карша.
После первого путешествия Нордруп поделился своими впечатлениями об увиденном с Лобсангом, который до того бывал в Лхасе и тоже был неутомимым путешественником. В результате на следующий год в Майсор они отправились вместе. И так несколько лет проводили зиму в Южной Индии, а летом возвращались в свой монастырь. Они выучились неплохо говорить на хинди, что облегчало им торговые взаимоотношения.
Когда мы встретились в Каргиле, Нордруп выполнял одну из своих обычных торговых операций. У него было десять лошадей в Рингдоме. Но пока он находился в Каргиле, часть лошадей была сдана внаём другим торговцам. Вскоре он отправился за лошадьми и товаром, поручив меня заботам Лобсанга. На деньги, что я обещал им выплатить, они собирались купить товар в Манали, перепродать его в Заскаре, чтобы в октябре отправиться в Майсор. Лёгкость, с которой гималайцы пускаются в подобные путешествия, всегда удивляла меня. Нам, западным людям, куда труднее собраться и в менее далёкие путешествия…
Над центральной равниной Заскара висела голубая шаль безоблачного неба. Проходя по одному из хуторов, мы встретили девушку редкостной красоты в чёрно-сером одеянии, ниспадавшем до самой земли. За ней семенил крохотный тибетский терьер. Острый на язык Нордруп воскликнул:
– Какая красивая у тебя хозяйка! Где же ты её нашёл, малыш?
Не обратив внимания на шутку или не расслышав её, девушка показала нам собачку и объяснила, что получила её в подарок, когда была ещё ребёнком. Её очаровательная и естественная манера держаться, а также радушное и простое отношение к незнакомым людям характерно для обитателей Заскара. В любом другом месте шутка Нордрупа вызвала бы лишь яростный взгляд.
Отношения между мужчинами и женщинами в Заскаре не осложняются запретами и табу, которые отравляют существование мусульманам и индусам. Ламаистская концепция полов основана на абсолютном равенстве, и часто я чувствовал себя неловко, видя, сколь откровенны женщины по отношению к мужчинам. Нам на Западе предстоит проделать ещё долгий путь, прежде чем мужчины и женщины начнут считать себя прежде всего человеческими существами, а не индивидуумами разного пола.
Расставшись с девушкой и её собачкой, мы вышли на берег глубокой речушки, несущейся с ближайшей горы, где сделали привал, чтобы перекусить. Было довольно жарко, вода в речке показалась мне не очень холодной, и я решил вымыть голову. В предыдущие дни вода в реках была такой холодной, что мне едва хватало мужества, чтобы сполоснуть руки и кончик носа. Именно низкая температура воды объясняет, почему заскарцы не очень заботятся о своём туалете. Первые европейские путешественники в эти края, увидев измазанные маслом и землёй лица аборигенов, не зная, что этим они предохраняют себя от солнечных ожогов, сочли жителей Гималаев грязнулями.
После завтрака я расстался с Нордрупом, который направлялся в Падам, и двинулся напрямик через обнажённую равнину в направлении Пипитинга, деревни, окружавшей гигантский чхортен на островерхом холме.
Около часа шёл по прямой. Все предыдущие дни я страдал от холода, сейчас же мне казалось, что я перенёсся в Сахару – жара была невыносима.
Поля вокруг деревни Пипитинг были засеяны ячменём и зелёным горошком, основными сельскохозяйственными культурами «низкогорья» Заскара… Здесь, на высоте около четырёх тысяч метров над уровнем моря, с трудом, но произрастает и пшеница.
По лету трудно судить о суровости заскарского климата в остальное время года. Зимой долину обдувают яростные ледяные ветры, и температура редко поднимается выше минус 30 градусов. Все реки замерзают, и воду можно добыть, лишь разбивая лёд в реках. Снега, как говорил Лобсанг, выпадает столько, что всякое сообщение между соседними деревнями часто прекращается. От хутора к хутору в снегу тянутся глубокие траншеи. В эти узкие проходы, вырытые людьми, нередко забредают волки. Тогда жители деревни организуют охоту и окружают волков. Те прыгают с утоптанной тропинки на рыхлый снег, в котором буквально тонут и вскоре гибнут под градом камней охотников.
Скот проводит зимнее время года в хлеве, а в двориках зимуют лишь яки. Только они способны выжить под открытым небом в суровых условиях гималайской зимы. Как дикие яки выживают в столь пустынных и практически лишённых корма краях, весьма заинтересовало ещё Муркрофта во время его путешествия в Гималаи. В Восточном Ладакхе он в конце концов отыскал траву «прангос», оказавшуюся столь питательным кормом, что даже небольшое его количество позволяло скоту наедаться. Яки в основном и питаются этой кустистой травой, питательные свойства которой превосходят все известные кормовые растения.
Муркрофт, словно предвидя будущий продовольственный кризис, советовал европейцам начать культивировать эту гималайскую траву. Насколько мне известно, никто не внял его совету, и я ни разу не слышал в Европе о прангосе, описанном Муркрофтом. Заскарцы ежегодно запасают на зиму в качестве корма ломкие стебли этого растения, а также сушат альпийские травы.
Но куда удивительнее то, что выжить в этом суровом краю удаётся и людям! Чтобы не умереть с голоду, они придумали способ, как ускорить таяние снегов весной, чтобы посеять в нужное время ячмень и собрать урожай до наступления зимы. Они набирают землю и прячут её осенью в доме, чтобы она не смёрзлась. В мае крестьяне рассыпают эту землю в поле, ещё покрытом толстым слоем снега. Солнце нагревает этот тёмный земляной слой и вызывает таяние снега, хотя всё вокруг ещё бело. Можно начинать возделывать землю и сеять. Ячмень успеет созреть до первых снегопадов в сентябре.
Ещё одна любопытная деталь приспособления жителей Гималаев к суровым климатическим условиям. Чтобы новорождённые дети не погибли зимой от холода или от переохлаждения из-за смерзания мокрых пелёнок, их помещают в шерстяные мешки с толчёным коровьим навозом, который впитывает в себя всю влагу. В результате грудные дети находятся в тепле и сухости!
Такая изобретательность позволяет заскарцам выжить в негостеприимном мире, который, может, и годится для богов и фей, но мало подходит человеку.
Многие деревни Заскара, особенно в Лунаке, наверное, чуть ли не самые высокогорные в мире, лето там столь коротко, что, несмотря на вышеописанную технику, ячмень иногда не успевает вызреть. В этом случае колосья срезают до наступления спелости. Урожай, конечно, собирают меньший, но зёрна в высокогорном воздухе быстро испаряют влагу и могут быть всё же использованы в пищу.
Несмотря на короткое лето и неважные почвы, ячмень даёт довольно хорошие урожаи. Это тем более удивительно, что в высокогорных деревнях, где ячмень – единственная зерновая культура, совершенно не практикуется севооборот. Но почва не теряет плодородия, поскольку постоянно искусственно орошается (каждый пятый день). Вода несёт ил. Крестьяне проводят прополку, удаляют сорняки, а иногда их едят, особенно разновидность, похожую на валерьяну.
Меня особенно удивило то, что во многих заскарских деревнях произрастает зелёный горошек, а в Каргиле даже абрикос. Горошек может расти везде, кроме самых высокогорных деревень, встречается и дикий горошек, очень мелкий и чрезвычайно вкусный – у него лохматые стручки, и он растёт на высотах до четырёх тысяч восьмисот метров – самый высокогорный овощ в мире!
В низкогорных долинах, где применяют севооборот, культуры чередуются следующим образом: зелёный горошек – ячмень – пшеница или зелёный горошек – ячмень – зелёный горошек. На средних высотах чередуют ячмень, пшеницу и люцерну.
При каждом доме есть огородик, где растут лук, редис, огурцы и картофель. Картофель в Гималаях произрастает хорошо, завезли его туда в середине XVIII века англичане. Шерпы, живущие в районе Эвереста, питаются почти исключительно картошкой, но в Заскаре её мало. Когда я спросил Нордрупа, почему картофель здесь почти не культивируется, он ответил, что картошка охлаждает тело человека и вызывает ревматизм… Интересно узнать, есть ли доля истины в этом суеверии. Когда я вошёл в Пипитинг, деревня показалась мне пустынной. Я некоторое время бродил от дома к дому в надежде привлечь чьё-нибудь внимание. Похоже, все ушли в Сани, и никто ещё не вернулся. Наконец я заметил в окне мужчину, который наблюдал за мной, и обратился к нему.
– Я ищу привратника чхортена…
– Вам повезло, – ответил человек, – он здесь.
Несколько секунд спустя появился молодой монах и, сказав, что привратник пока занят, пригласил меня в дом. Я поднялся по узеньким ступенькам и оказался в низкой комнате, где сидели два старых монаха и четверо мужчин помоложе. Они нараспев читали молитвы из книги и очень походили на католических монахов. Я тихо уселся в углу, заинтересованный этой церемонией. Когда я выпил третью чашку чанга, один из старых монахов пригласил меня следовать за ним.
Мы поднялись к великолепному чхортену в сопровождении десятка проказливых мальчуганов в лохмотьях, которые донимали шуточками старика. Они были так назойливы, что я едва сдерживал гнев. Кроме того, они толкались, пытаясь спихнуть друг друга с обрыва… просто чудо, что никто не погиб!
Гигантский чхортен был возведён на вершине огромной морены, образовавшей холм посреди равнины. Я вскарабкался как можно выше и обошёл кругом святилище, восхищаясь видами, открывающимися со всех сторон. К югу, рассыпавшись по скалистому склону, торчали белые кубики монастыря Карша; к востоку – белые кумирни Тхонде, лепившиеся к карнизу; на юго-востоке темнел проход к пустынным ущельям, ведущим в далёкую Зангла. Вдали, на западе, скорее угадывалось, чем просматривалось, Сани, лежащее в тени высоких деревьев, а за ним тянулась долина, упирающаяся в перевал Пенси-Ла. На юго-западе находился Падам с нависшим над ним монастырём, который я собирался посетить утром, а вдали чернела узкая долина, ведущая к таинственной провинции Лунак.
Обзор этой грандиозной панорамы был как бы моим прощанием с центральными и наиболее доступными районами Заскара. И слегка защемило сердце при взгляде на эту забытую главу истории человечества.
На обратном пути в сопровождении той же назойливой мальчишеской оравы старый монах провёл меня внутрь небольшой кумирни, где вокруг одиннадцатиликого Авалокитешвары висели ужасающие трехглазые маски. Меня снова поразило сложное и перенасыщенное страшилищами искусство Гималаев, которое никак не соответствует прозрачной и открытой душе их обитателей. Единственное искусство, которое сродни духовному миру гималайцев, – их величественная и сдержанная архитектура, которая, как и люди, вписывается в сказочно прекрасное окружение, вечные «декорации» в жизни гималайцев. Нигде на Востоке архитектура не обладает столь величественной простотой; никто в мире не понял лучше роли формы, объёмов и пространства в их связи с природой, как безвестные архитекторы, возведшие великолепные здания во славу своих богов и владык.
Следует помнить, что крупный архитектурный ансамбль Потала в Лхасе высотой в двадцать этажей воздвигнут в конце XVIII века, и почти два века он был самым высоким зданием в Азии. Так же величественны дворец в Лехе, гигантские крепости Бутана и сказочные комплексы Мустанга и Заскара.
Вручив, согласно обычаю, несколько рупий старому монаху (на уход за кумирней), я отправился в Падам. Поскольку ребятня не отставала, я решил, что они могут сгодиться мне, и спросил, есть ли поблизости древние камни с рисунками.
– Нету, – сказал один.
– Да, – сказал другой.
– Нет, – сказал третий.
Схватив за шиворот того, кто сказал «да», я велел ему отвести меня к этим камням, и он действительно привёл меня к каменной скульптуре, явно очень древней, представлявшей нечто вроде Будды в трехверхой шапке. Дети показали мне ещё одно не менее странное божество. Многочисленные молитвенные флажки вокруг статуй свидетельствовали о поклонении заскарцев этим древним божествам.
Входил ли Заскар в Кушанское царство до вторжения тибетцев? Если да, то как объяснить существование столь примитивных скульптур? Ведь кушанцы, при которых расцвело скульптурное искусство буддизма Гандхары и Матхуры, создали бы более утончённые произведения, чем те, что я видел в Сани и Падаме. А может быть, эти камни ещё древнее, чем виденные мной изображения каменных баранов? Был ли Заскар мифическим царством муравьёв-золотоискателей? Здесь в конце концов золота было больше, чем в реке Суру, чьи золотоносные россыпи славились до недавнего времени. Кто управлял Заскаром до прихода орд тибетских воинов? Это так и останется тайной, если кто-нибудь не установит точных связей между всеми этими каменными изображениями. Самым странным, на мой взгляд, является то, что созданные до вторжения тибетцев буддийские скульптуры, за исключением наскальных изображений внутри кумирни в деревне Карша, никак не привязаны к «современным» буддийским храмам.
Оставив Пипитинг позади, я двинулся по берегу реки Заскар к Падаму. Солнце висело над самым горизонтом; я очень устал и едва волочил ноги. Дал себе отдых, рассматривая развалины крепости. Затем пересёк поля, которые тянулись к югу от Падама над излучинами реки. Я углубился в свои мысли, когда вдруг в поле моего зрения появились силуэты двух европейцев. Я невольно отпрянул в сторону, словно встретил чужеземцев… Я не люблю встречаться с европейцами в отдалённых краях, где путешествую, – они вынуждают меня расставаться с тем «я», которое берёт верх во время моих продолжительных странствий. И однако моё прежнее «я» сгорало от любопытства, кто это мог быть; к тому же мне хотелось разделить с другими моё восхищение Заскаром.
Когда мы оказались совсем рядом, человек пониже ростом шагнул ко мне с протянутой рукой. Этот жест показался мне неуместным в такой стране, как Заскар, но ещё больше меня удивил его вопрос.
– Пессель, если не ошибаюсь?
Я едва не ответил: «Ливингстон!», но произнёс более банальные слова:
– Как вы догадались?
– Каждый в Падаме знает, кто вы такой. Тасилдар (местный судебный чиновник) читает сейчас вашу книгу о Мустанге. Мы остановились у него. Навестите его, а заодно и нас.
Молодые люди были немцами и изучали физику в Кёльнском университете. Мы договорились о встрече вечером во дворце князя Падама, куда их пригласил представитель властей штата Кашмир.
Я вернулся в дом, где остановился. Нордруп уже согрел воду, и я позволил себе полакомиться какао. Затем отправился к тасилдару, жившему по соседству, в большом обшарпанном здании, где князь Падама сдавал ему две комнаты. Я постучал в низкую дверцу и, не получив ответа, просунул в комнату голову. Слуга пригласил меня войти и усадил на подушки рядом с молодым человеком лет тридцати, который молился, склонив голову на грудь.
Закончив приношение жертв различным индусским богам (это был индус из Кашмира), тасилдар повернулся ко мне и заговорил на английском языке. Вначале я с трудом разбирал его речь как из-за ужасного акцента, так и из-за дефекта неба. Молодой человек взял с низкого столика экземпляр моей книги о Мустанге, перелистал её и, отыскав мою фотографию, сравнил с оригиналом. Успокоившись, сказал, что рад знакомству со мной, и велел слуге приготовить чай.
Он объяснил, что является первым индийским чиновником, прожившим в Заскаре весь год. По его словам, хуже участи не придумать. Зимы здесь столь суровы, что большую часть времени он вынужден сидеть дома и даже не выходить из этой комнаты. Термометр всегда показывал не менее минус 30 градусов, а потому он и носа не высовывал на улицу. Ему надлежало отбыть здесь положенный двухгодичный срок, и я подозреваю, что он считал каждый день, приближавший его к отъезду из этого края. Вряд ли стоило его осуждать – жизнь по принуждению в стране, лежащей на высоте трёх тысяч восьмисот метров над уровнем моря, без всех тех благ, которые успел познать, и общение с местными жителями без знания их языка не могли доставить особых радостей! Зима в Заскаре пугала и меня, и здесь я был солидарен с тасилдаром.
Он сообщил мне, что, по официальным данным, в Заскаре двадцать восемь деревень, в которых живёт восемь тысяч человек. Индийские власти надеялись вскоре открыть автомобильное сообщение через перевал Пенси-Ла, чтобы облегчить связь этого края с остальной Индией.
Тасилдар признал, что заскарцы редко обращаются к нему как представителю власти. Каждая деревня имеет свои традиционные способы вершить суд и разрешать конфликты. Крестьяне почти никогда не просят помощи у тасилдара, который в основном занимается проблемами торговцев народности балти и оказанием содействия крайне редко посещающим этот край приезжим. С тех пор как он находится здесь (скоро уже два года), в Падаме побывали работник индийского департамента вод и лесов, инспектор начальной школы и два врача, открывшие пункт первой помощи. Эти люди вместе с двумя инженерами-дорожниками из Ладакха составляли всю «индийскую колонию» в Заскаре, которая пыталась улучшить жизнь обитателей этого края. Будет ли это благом для них? Сомнительно! Как приезжие, которые с трудом переносили местную зиму, могли «улучшить» систему, позволившую целому народу в добром здравии жить в столь сухом, столь высокогорном и столь холодном краю? Ведь все они, кроме тасилдара и школьного учителя, покинут Заскар в конце краткого лета.
Мои друзья не выражали энтузиазма в отношении плана развития, предложенного правительством штата Кашмир (в состав которого входит Заскар). Исключение, может быть, составляла врачебная помощь. Строительство дороги Нордруп и Лобсанг, любители путешествий, приветствовали, поскольку оценили быстрые средства передвижения, но большинство заскарцев относилось к ней с недоверием.
Я ушёл от тасилдара, договорившись о встрече на следующее утро. Он должен был передать мне разрешение для Нордрупа и Лобсанга сопровождать меня через Большой Гималайский хребет до долины Кулу в штате Химачал-Прадеш.
Утром, когда я явился к тасилдару, заспанный чиновник сидел за завтраком из жареной рыбы. Я с наслаждением отдал должное трапезе.
– В реке полно рыбы, – сказал мне хозяин. От рыбной ловли разговор перешёл к охоте, и тасилдар с гордостью показал мне рога ибекса, подстреленного одним из гостивших у него друзей.
Гигантские козероги ибексы широко распространены в Заскаре, и именно ими в основном питаются волки. Козероги живут большими стадами на самых высоких склонах и редко спускаются в долины, но зимой иногда подходят прямо к воротам монастырей, где их подкармливают монахи. Рога ибексов часто подвешивают на деревенские чхортены. Саблевидные с «насечкой» рога могут достигать длины в один метр. Когда мы дошли в разговоре до пропусков, тасилдар проявил сдержанность. Прежде всего он посоветовал мне вернуться той же дорогой, то есть через перевал Пенси-Ла. Потом объяснил, что путешествие, которое я собираюсь предпринять, очень опасно. Несколько дней назад там погибла лошадь. Я возразил, что давно привык путешествовать по Гималаям. Тогда тасилдар выдвинул новое возражение – мне понадобится много времени, чтобы добраться до Кулу, а срок моего разрешения на пребывание в стране подходит к концу, и будет мудрее вернуться через Сринагар. Его настойчивость лишь укрепила меня в принятом решении. Действительно, месячный срок визы подходил к концу, но мне говорили, что её можно продлить. Я тут же написал письмо в адрес кашмирских властей. Но когда хотел опустить письмо в почтовый ящик, мне напомнили, что Заскар не имеет почтовой связи. Нет даже эстафетной почты. В конце концов я передал письмо встреченному на базаре заскарскому торговцу, который собирался отправиться в Каргил.
Нордруп взялся помочь мне в укладке багажа. Он сказал, что придётся идти восемь – десять дней, чтобы добраться до южных склонов Гималаев и первой индийской дороги. Поскольку мне хотелось посетить округ Лунак, я считал, что мы пробудем в дороге около двух недель. Чтобы путешествовать налегке, я решил избавиться от излишней провизии и отправился в единственную лавочку, владелец которой согласился купить мои припасы за хорошую цену. Пока я продавал рис, к нашему разговору прислушивался человек преклонного возраста с острой редкой бородкой и лицом, задубевшим от сурового климата; он спросил меня, нет ли у меня ещё чего-нибудь на продажу.
– Несколько пачек чая, – ответил я, указывая на пачки, лежащие перед торговцем.
– Почём вы их продаёте? – спросил человек.
– Ваша цена будет моей.
– Шесть рупий.
Человек забрал чай и тут же расплатился со мной. Торговец посмотрел вслед ему и пробормотал:
– Это был гьялпо.
При таких обстоятельствах состоялась моя первая встреча с князем Заскара… Затем я отправился в монастырь, чьи побелённые известью дома расположились в рощице тополей и ив на склоне горы, вздымающейся над Падамом. Это был один из четырёх монастырей секты красных шапок. После утомительной ходьбы по крутой тропинке я добрался до первых зданий. Оттуда мне открылась панорама ста двадцати домов Падама, затерянных среди громадных скал холма, на котором возведён город. Монастырские деревья показались мне настоящим лесом; их тень была невероятной роскошью для глаза и для сердца в этой пустынной стране, раскалённой добела полуденным солнцем. Журчание небольших оросительных каналов придавало местечку особое очарование. Трудно сказать почему – из-за многих недель, проведённых в созерцании пустынных пейзажей, или из-за забытого шороха листвы, или из-за голода по зелени, но этот садик из ив и тополей, прилепившийся к склону горы и окружённый крохотными кумирнями монастыря, показался, мне истинным раем.
Лёжа на земле, я созерцал сквозь листву сверкающие вершины, которые вырисовывались на фоне ярко-голубого неба, и дал волю своим мыслям. Меня переполняла радость, и я, как обычно во время путешествий по Гималаям, задал себе извечный вопрос: «А почему бы не остаться здесь навсегда?» Я сознавал, что моя личность во многом сформировалась под влиянием Гималаев. Ведь я почти три года своей сознательной жизни бродил в полном одиночестве по гималайскому высокогорью. Однажды мне даже сказали во Франции, что во сне я разговариваю на тибетском языке. И я действительно мог думать и шутить на тибетском и быть в своей тарелке в обстоятельствах, которые смутили бы любого путешественника. Я много странствовал с самого детства, привык к смене обстановки, легко знакомился с встречными людьми. Жизнь в странах моего детства не имела ничего общего с тем, что любило моё «гималайское я». Долгие месяцы скитаний по Бутану, Мустангу, по стране шерпов и Ладакху, к которым теперь прибавилось и пребывание в Заскаре, складывались для меня в одну непрерывную нить существования, чуждую моей другой жизни на родине. И всё же что-то тянуло меня туда, быть может, желание совершить новые путешествия и неистребимая потребность разделить мой гималайский опыт с другими и тем самым сделать его более полезным людям.
Меня уже грызло нетерпение поскорее пересечь Главный Гималайский хребет, пешком пройти по высокогорной тундре Центральной Азии и выйти к влажным тропическим районам Индии. Мне не терпелось увидеть провинцию Лунак, монастырь-крепость Бардун, возведённый на вершине скалы, и монастырь Пхуктал, лепившийся к отвесному склону горы. Лунак – обособленная провинция, куда даже заскарцы выбираются не часто.
– Долина очень глубока, – сказал Нордруп. – Там есть места, которые никогда не освещает солнце.
Лобсанг добавил:
– Тропа очень опасна. Мы рискуем погубить лошадей. Если же её состояние ухудшилось, придётся идти пешком, бросив лошадей по пути.
Люди, которых я спрашивал, высказывались ещё категоричнее: «Настоящее сумасшествие идти этим путём. Возвращайтесь в Рингдом!», или «Никто теперь не покидает Заскар по этой тропе, ведь есть дорога до Рингдома», или «Прошедшие дожди свидетельствуют о том, что на перевале выпал снег».
Вернувшись в Падам, я пошёл с Нордрупом к чиновнику, который в последний раз пытался переубедить меня. Но я держался стойко, и он, сдавшись, протянул пропуск, разрешавший Нордрупу и Лобсангу сопровождать меня до провинции Химачал-Прадеш.
На следующее утро я был на ногах с самой зари. Нас ждало десятидневное путешествие – двести пятьдесят километров по самым диким горам в мире. Ночью появился Лобсанг с шестью лошадьми, и я отобрал лучших. Ещё раз проверил припасы. Затем велел заменить некоторые части сбруи.
Когда все приготовления окончились, я нанёс последний визит тасилдару. К моей великой радости, у него я столкнулся с Таши Намгьялом, князем Заскара. Сам не знаю почему, но я вбил себе в голову, что он соперник моего друга, князя Зангла, а потому может вызывать лишь антипатию. Но стоило нам перекинуться парой слов, как я изменил своё мнение. Князь, пришедший со своим внуком, объяснил мне, на каком основании он управляет Заскаром. Его прадед, Тестанг Намгьял, двоюродный брат князя Ладакха и выходец из княжеского рода Хенеску, был послан в Заскар, чтобы получить титул и владения князя Заскара, умершего в Джамму пленником Гулаба Сингха (говорят, его отравили) и не оставившего после себя преемников. Таким образом, он был законным наследником заскарского трона. Он получил титул в качестве отпрыска ладакхской ветви семьи, которая правила Заскаром с 1641 года до захвата его династией догра. Как в Ладакхе, так и в Зангла гьялпо Заскара пользовались большим уважением, хотя индийское правительство официально не признавало их в отличие от князей Зангла.