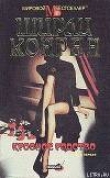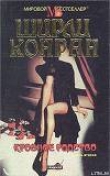Текст книги "Близнецы Фаренгейт"
Автор книги: Мишель Фейбер
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 17 страниц)
Бесцветный, как Эминем
Дон, сын людей, которых больше нет на этом свете, муж Алисы, отец Дрю и Алиши, уже очень, очень близок к тому, чтобы пережить счастливейший миг своей жизни.
Сейчас по его часам 10.03, он едет по нагорьям Шотландии в Инвернесс, усталый и чуть, потому что боится заснуть между этой минутой и той, в которую поезд прибудет на вокзал, и упустить возможность сказать Алисе, Дрю и Алише: «Ну вот и Инвернесс, пошли». Жена и дети дремлют, изнуренные созерцанием достопримечательностей, теперь вся ответственность лежит на нем. Он не знает, что дальше Инвернесса поезд не пойдет, что всех, кто в нем едет, громкоговорители попросят выйти; он думает, что поезд так и покатит, унося их все дальше на юг, лишив заказанного загодя завтрака и ночлега. В Шотландию он приехал впервые; на пленке его фотокамеры осталось только два кадра; «Диет-Коки» на тележке с закусками не нашлось; голова жены свешивается, наделяя ее вторым подбородком; по толстым стеклам вагонных окон сползают безмолвные капли дождя.
Дон с семьей заняли столик, расположились по обе стороны от прохода – восемь сидений на четверых. Он говорит себе, что – ничего, поезд все равно не полон. К тому же, и он, и семейство его – люди всё крупные, американцы, они на голову, да, пожалуй, и на плечи выше большинства других пассажиров. В Дрю, которому только-только исполнилось пятнадцать, росту пять футов одиннадцать дюймов; в Доне – шесть и два. И лапищи у обоих, как у боксеров. Три часа назад, когда они спускались к завтраку в отеле, стоящем неподалеку от замка Данробин, Дрю немного вспылил и сказал: «Иди ты на хер, пап», но теперь они уже помирились, и Дона отделяет от великого события его жизни не более двух минут.
Алиса с Алишей сидят, обмякнув, за проходом, напротив друг дружки, спортивные сумки их торчат из приоконных сидений, набитые слишком туго для багажных сеток вверху. Алиша, – совсем еще девочка в свои тринадцать, несмотря на бутоны грудей и белый, покрытый трещинками лак на ногтях, – задремала посреди чтения книги «Гарри Поттер и принц-полукровка». Тонкая рука ее свисает в проход, браслеты из разноцветной жеваной шерсти облекают костлявое запястье. Мать Алиши спит беспокойно, вдавив затылок в спинку сиденья, словно выразив этим недовольство его изуверским устройством. Алисе сорок и это ей страшно не нравится. Каждый раз, за три дня до месячных, она начинает жаловаться на все новые изъяны своего тела, и Дону приходится говорить ей то, что она хочет услышать, а тут еще, поди, догадайся, что это такое.
Счастливейший миг его жизни – не считая, конечно, того, который ему еще предстоит вот-вот пережить, – остался далеко позади: тот миг, когда он увидел Алису, ожидавшую его в дверях заведения, которое тогда называлось «Кентакки фрайд чикен» [19]19
«Centucky Fried Chicken» ( англ.) – «Кентуккийская жареная курица», американская сеть экспресс-кафе, основанная полковником Сэндерсом.
[Закрыть], и она улыбнулась ему, и оба знали, что вот сейчас они поедут в пляжный домик Бена и Лайзы и станут впервые любить друг дружку. Те три дня у Бена и Лайзы были великолепны, он испытывал небывалую радость, – лежа с Алисой в постели, узнавая ее такой, – однако ее улыбка, когда он к ней подходил, улыбка привета, предчувствия и уверенности, что она все делает правильно, – осталась, все-таки, воспоминанием более трепетным, чем память обо всем, что за нею последовало. Алиса стояла в дверном проеме под иконой полковника Сэндерса, – в коротком черном платье, в наброшенном на плечи плаще, – вылитая француженка, так он тогда подумал, хоть во Франции ни разу и не был, а только видел снятые в ней фильмы. (В 97-м они с Алисой, наконец, побывали в Париже, но впечатления их как-то смазались спорами с детьми о том, что важнее – Лувр или «Евродисней».) Сегодня на жене футболка цвета хаки и просторная фланелевая рубашка: тусклый, утилитарный наряд путешественницы.
Дон заглядывает под стол. На огромных ступнях его – кроссовки, ноги укрыты армейскими штанами. В Шотландии «штанами» называют подштанники. На армейских штанах этих куча карманов, молний, веревочек с фиксаторами – больше, чем применений, какие кто бы то ни было смог бы для них придумать. Вещь модная, и Дон гадает, не староват ли он для нее. Вчера Алиша, сидевшая рядом с ним в поезде – в другом, не в этом, – расстегнула молнию кармашка на его икре, просто чтобы посмотреть, что там внутри. Ребяческий поступок, невинный жест, рожденный шаловливостью и скукой, и все же Дон ощутил в нем заряд ее зреющей сексуальности и был им странно взволнован. «Фигня какая-то, пап» – сказала она, пошебуршив пальцами в расстегнутой щелке на ткани, в кармашке, слишком узком для чего-либо большего карандаша, а кому же придет в голову таскать карандаш на икре? И Алиша задернула молнию.
Он глядит через стол на сына. Щека Дрю прижата к надувной подшейной подушечке, лоб покоится на мускулистом предплечье, ладони некрепко сжаты в кулаки. Под таким углом сын не выглядит самым красивым мальчиком на свете. Нос его все еще растет, постепенно обретая сходство с толстым шнобелем, поколениями отличавшим всех мужчин в роду Дона; губы припухли, словно покусанные пчелами, они женственнее, чем у Алиши, – Дрю разъярился бы, услышь он об этом. И череп его, украшавшийся прежде лохматой копной каштановых волос а ля «хэви-метал», покрывает теперь… Стрижка. Та самая, о которой они вели бесконечные споры.
– Нельзя тебе обесцвечивать, как Эминем, волосы. Ты будешь выглядеть идиотом. И Эминем твой выглядит идиотом.
Дрю вздыхал, плечи его обвисали под бременем поразившего родителей предстарческого слабоумия.
– Эминем клевый. И потом, это мои волосы и мои деньги.
Ужас какой-то – всего десять слов, а яростных препирательств, вызванных ими, хватило на многие часы, на несколько дней. Это откуда же, интересно, у Дрю завелись своиденьги? Что он такого сделал, чтобы они стали егоденьгами? Ну а если бы он потратил их на какое-нибудь бойскаутское дерьмо или старую запись Брюса Спрингстина, а не на Эминема? И кому, если честно, принадлежат волосы Дрю? (Дон чувствовал себя во время тех споров каким-то маньяком, но с другой стороны, разве не правда, что волосы эти созданы им и Алисой, заодно с головой, на которой они растут, – в одну из ночей или, может быть, дней пятнадцатилетней давности? Да любая фолликула на черепе Дрю изготовлена по их секретному генетическому рецепту и ими же пестовалась – от яйцеклетки до мальчишки-шатена.) И кого, интересно, Дрю норовит одурачить, изображая дружбу с парнями из гетто и прочей хип-хоп компанией, распевая текстики про клевых телок, которых так круто корячить за компанию с крутыми ниггерами, если сам он белый мальчишка, живущий с родителями в пригороде Вест-Спрингфилда и уезжающий на каникулы в Шотландию? А Дрю отвечал, что будь его воля, он, может, у предков своих особо задерживаться и не стал, тем более, что его от их взглядов блевать тянет, а поездку в Шотландию они могут засунуть туда и сюда, он лучше останется здесь, с друзьями, и вообще, Эминем белый, так в чем проблема?
Что и вынудило Дона объяснить сыну, в чем состоит его проблема. Эминем, сказал он, это обращенный к подросткам ходячий призыв: наплюйте на все и коснейте в отрицании. Из-за таких вот звезд рэпа, как он, подростки и торгуют теперь вразнос пессимизмом, как торговали раньше жевательной резинкой. Дети, которые слишком юны, чтобы знать хоть малую малость об огромном мире, окружающем их, приходят к заключению, что планета Земля прогнила до самого ядрышка и занятие на ней осталось только одно – покупать компакты да футболки.
Алиса, которой не хотелось, чтобы конфликт приобрел глобальный характер, сказала, что у Эминема подходящий для коротких обесцвеченных волос овал лица, а чертам Дрю такая стрижка нисколько не пойдет.
– Это же всего-навсего долбанные волосы! – взвыл Дрю. – Да что с вами такое, люди?
В последнее время он часто ругался дурными словами, особенно когда выходил из себя, – чаще всего при разговорах с отцом, но порой и при матери тоже. И всякий раз, как он восклицал «мать-перемать», Алиса вздрагивала, – как будто кто-то сию минуту запустил в стену стаканом.
А сейчас Дрю спит, привалясь к надувной подушке, руки его покрыты свежим загаром, короткие волосы отливают кремовой белизной. Плечи у Дрю мускулистые, почти мужские, и Дон понимает вдруг, что сын его сложен так, как никакому Эминему и не снилось, – он выше, сильнее, спортивнее, красивее.
Алиша пробуждается от дремоты, смотрит в окно – может, там уже Инвернесс? – оглядывается на отца за подтверждением, что нет, еще не приехали. Дон покачивает головой, и она улыбается. Чему? Дон не знает, но улыбается в ответ.
Алиша бочком склоняется над проходом, тянется через пустое пространство рукой к брату. В руке у нее расческа, которой она заложила книгу перед тем, как уснуть. Осторожно, медленно-медленно, она проводит зубцами расчески по волосам брата. Время сразу же замедляется. Расческа приподнимает густой ворс стрижки Дрю, обнаруживая темно-каштановые корни обесцвеченного экстерьера. Волосы встают под зубцами расчески и снова опадают, и в зрелище этом присутствует что-то завораживающее – как будто смотришь на поле колеблемой легким ветром пшеницы.
Дрю даже не шелохнулся, он либо крепко спит, либо решил не обращать на сестру внимания. Она расчесывает волосы брата – ласково, сознавая, что папа наблюдает за ней, сознавая, что завораживает его. Волосы Дрю встают и опадают, встают и опадают, они мягки, как щетина новенькой кисти, дорогой, из норковой шерсти. Черт, а ведь отличная же стрижка. Собственно, лучшая из всех, какие когда-либо были у Дрю, лучшая во всей Шотландии к северу от Инвернесса, а может быть, и лучшая в мире.
Краем глаза Дон замечает, что Алиса меняет позу, опускает голову на свою сумку, переносит вес с зада на бедро. Круглые холмы ее ягодиц так эротичны, а там, где футболка выпросталась из джинсов, Дон замечает вдруг полоску нагой плоти. Он все еще желает ее. И предвкушает то время, когда они снова окажутся вместе в постели, дома или не дома, где угодно, лишь бы можно было пройтись ладонями по ее теплой коже, отвести с ее лица волосы.
Сын дремлет, уложив теперь голову на столик, почти уже взрослый мужчина с похожими на оперение птицы яркими, беловатыми волосами, без малого слишкомяркими под солнечным светом, и над ними порхает прекрасная рука дочери, кисть и предплечье, и браслеты из крашеной шерсти свисают с ее запястья, ритмично изгибающегося, пока она расчесывает белую шерстку своего единственного и неповторимого брата, расчесывает без всякого смысла, они и так уж расчесаны – лучше некуда, – и все же смысл тут присутствует, потому что вот это и есть счастливейший миг в жизни Дона.
Через тридцать секунд, считая от этого мига, по проходу покатит тележка с едой и напитками, и коротышка в униформе попросит Алишу убрать руку, пожалуйста, и Алиша отдернет ее, и счастье, обуявшее Дона, немного спадет – немного, ровно настолько, чтобы следующий миг уже не был счастливейшим в его жизни, но ничего, все-таки миг предыдущий длился так долго, гораздо дольше, чем улыбка Алисы в дверном проеме того, что с тех пор переименовали в «КФК». Через пятьдесят секунд, считая от этого мига, Алиша поинтересуется у матери, нельзя ли ей купить шоколадку, а Дрю, так и не подняв головы от столика, спросит, басовито и внятно: «„Пепси“ есть?». А через полчаса они прибудут в Инвернесс; через три дня возвратятся домой; через два года Алиша объявит родителям, что всегда ненавидела имя «Алиша», что оно звучит, как одно из тех идиотских имен, которые придумывают для себя черные, и отныне она будет зваться «Эллен». И через пять лет, вопреки уверенным предсказаниям родителей, что дочь из этой своей «Эллен» вырастет, она так и останется Эллен, и сделает аборт, и улыбка ее станет иной, кривоватой, и губы немного побледнеют от курения, однако она выйдет за мужчину, который ее обожает, и забеременеет, и решит этогоребенка оставить.
И к тому времени Дрю уже будет жить где-то в Южной Америке, и Дон с Алисой никогда больше его не увидят, и друзья их будут говорить, что они, наверное, очень гордятся тамошними его достижениями, и они будут отвечать, что да, конечно, гордятся, и показывать друзьям фотографию Дрю, сделанную на строительной площадке, посреди городка, состоящего, похоже, из одних лачуг, и на гигантском шнобеле Дрю будут сидеть очки, а темно-каштановые волосы будут казаться от воды и пота прилизанными. И Алиса пойдет готовить кофе, пойдет не без натуги, потому что у нее побаливает натруженное на теннисном корте плечо, да только теннис, как вскоре выяснится, тут не при чем, а боли обернутся первыми ласточками болезни, которая убьет ее в пятьдесят девять лет, и после этого Дон станет говорить всем, что никогда уже не полюбит другую женщину, но через три года женится на одной из тех, кому он это говорил, и она будет теплой, веселой, и замечательной стряпухой, однако в постели окажется не так хороша, как Алиса, хоть он никогда ей об этом не скажет, умрет, прежде чем успеет сказать, потому что она даст ему счастье, большее, чем то, какого он мог ожидать в свои преклонные годы, большее, чем то, что выпало на долю жалких старых глупцов, живущих по соседству, большее, на самом-то деле, чем все то счастье, какое он когда-либо знал, не считая, быть может, пары особых мгновений – того, с улыбкой юной женщины, ждущей минуты, когда она станет его любовницей, женщины с лицом, светящимся в отблесках, которые летят из ресторанчика быстрого питания, и того, с рукой дочери, плывущей утром, в шотландском поезде, над головой сына, над стрижкой, которую и вправду стоило сделать, сияющей так ярко, что, когда ты закрываешь глаза, на сетчатке остается ее отпечаток, бесцветный, как Эминем.
Близнецы Фаренгейт
Памяти Панды и Широ
Обитавшие на ледяной макушке мира, вдали от всех его детей, близнецы Таинто’лилит и Марко’каин знали не хуже их, что жизнь прекрасна. А потому прекрасной она и была.
Места для игр им определенно хватало – в сущности, месту этому не было ни конца, ни края. Повсюду вокруг их дома тянулись во всех направлениях акры и акры тундры, не помеченные ни заборами, ни дорогами, ни иными жилищами. Эскимосские лайки без труда уносили сани с лежащими в них маленькими телами Таинто’лилит и Марко’каина на многие мили, не теряя при этом резвости шага. Да и с временем у близнецов сложностей не было: в вечных, практически, сумерках Арктики правил насчет возвращения домой до захода солнца не существовало. Единственное, на чем неукоснительно настаивала их мать, так это чтобы дети никогда не покидали дома без компаса, поскольку тундра, в какую сторону ни взгляни, везде была одинаковой, особенно если выпадал свежий снег. В месяцы более темные даже сверхъестественно острое зрение близнецов Фаренгейт сдавало во мраке, а ориентироваться по свету луны было в серых снегах невозможно.
И все же, сколь бы ни темно и коварно было то, что открывалось глазам детей, всем этим владели они. Номинально остров Провидения был частью принадлежащего русским архипелага, однако, на деле, никакой закон не заходил так далеко, чтобы объять и эти бесплодные пустоши, окруженные со всех сторон неверной ледяной трясиной. Фаренгейты были здесь монархами, а двое детей их – принцем и принцессой.
– А что лежит там, вдали? – однажды спросили близнецы у отца.
– Ничего особенного, – ответил, не оторвав глаз своих от записей, Борис Фаренгейт.
– А что лежит там, вдали? – спросили они тогда у матери, зная, что она ко многому относится совсем не так, как отец.
– Ой, милые, слишком долго объяснять, – словно поддразнивая их, ответила мать. – Сами все увидите, когда устанете от нашего маленького рая.
И она – с выражением, отдаленно напоминавшим любовь, – привычно взъерошила их немытые волосы.
Физического сходства между родителями и детьми наблюдалось мало. Борис Фаренгейт был высоким, тощим немцем с серым лицом и серебристыми волосами, ходил он всегда немного сутулясь, словно его костлявое тело затруднялось справляться с весом великоватых для него вязаных свитеров. И Уна тоже была высокой, синеглазой, румяной арийской красавицей с выкрашенными в черный цвет волосами, коротко остриженными по моде межвоенных лет. Ходила она всегда, распрямясь, и очень пеклась о том, чтобы тело ее сохраняло упругость.
А вот Таинто’лилит и Марко’каин были малорослы даже для их лежавших где-то между девятью и одиннадцатью лет. Рождения близнецов никто не регистрировал да и случилось оно уже так давно, что точную дату Борис и Уна забыли. Так или иначе, подростками близнецы пока что определенно не стали. Они еще заползали под мебель и хихикали там, еще круглились от щенячьего жирка. Пахло от них сладко. Они без каких-либо жалоб носили скроенные для них матерью, покрытые вышивкой комбинезоны из тюленьих шкур. И, как с равными, разговаривали с ездовыми собаками.
Волосы их, черные от природы, низко свисали на лица цвета слоновой кости. Каждую пару щек покрывали светло-коричневые веснушки вперемешку с россыпью складчатых шрамиков, оставленных загадочной болезнью, которая, по счастью, миновала сама собой, без вмешательства медицины. В больших карих глазах детей присутствовало нечто тюленье: сплошные, темные райки без белков – или так только казалось. Близнецы не походили ни на отца, ни на мать, даром, что ко времени их зачатия Фаренгейты уж много лет как жили вдали от всех своих прежних друзей. Впрочем, Борис и Уна переняли облик и окрас от Старого Света, а дети их – от приполярного архипелага, чьи льдистые очертания и на карту-то никто пока нанести не сумел.
Характеры близнецов сформировало – более, чем что-либо еще, – благожелательное пренебрежение. Для отца они были всего лишь уступкой желанию их матери, отец терпел обоих в той мере, в какой они не мешали его исследованиям. Для матери же близнецы всегда оставались крепенькими домашними зверьками, которых она баловала, над которыми ворковала, когда пребывала в легкомысленном настроении, и о которых намертво забывала, если у нее находилось занятие поинтереснее. Она могла проводить часы, купая близнецов, втирая в их кожу китовый жир, журя за то, что они портят свои прекрасные юные тела каменными мозолями и шрамами; а в следующие несколько недель – едва замечать их существование, отсутствующе кивая, когда они уносились в ледяную ночь.
Да и в любом случае, Борис и Уна Фаренгейт сами нередко покидали дом, дабы поспособствовать поступательному шествию знания. Точнее говоря, отправлялись погостить у народа гухийнуи, по которому считались главными авторитетами мира. Однако гухийнуи к чужим относились недоверчиво и потому поступательное шествие все медлило, медлило – по крайней мере, в том, что касалось вопросов фундаментальных. Книга Уны о ремеслах гухийнуи вышла в свет уже давно, теперь она составляла другую, посвященную их кухне, а долгожданному историческому труду Бориса конца все еще видно не было, что же касается темных тайн сексуальных табу гухийнуи, они, несмотря на все усилия Фаренгейтов, так и остались пока не раскрытыми.
Разумеется, именно Фаренгейтам приходилось отправляться к гухийнуи, а никак не наоборот. И поскольку Борис и Уна всегда уезжали вместе, получалось, что Таинто’лилит с Марко’каином часто оставались в доме одни на целые дни и недели кряду, а компанию им составляли всего лишь собаки. Что и сделало близнецов детьми на редкость самостоятельными, – пожалуй, они могли бы приводить гостей в изумление, да только гости в их доме не появлялись никогда.
На самом деле, даже существование Таинто’лилит и Марко’каина оставалось тайной для всех обитателей покрытой зеленью части мира. Лишь немногие из них когда-либо слышали об острове, на котором жили Фаренгейты, не говоря уж о характерных особенностях его незримого, недосягаемого населения. Уна рожала дома и сама себе была повитухой. Борис, стоически приняв двойной результат родов, принялся за сооружение второй детской кроватки, во всем схожей с первой, благо память о том, как это делается, была в нем еще свежа.
Неотличимость кроваток представлялась вполне уместной. Таинто’лилит и Марко’каин были идентичны во всех, если не считать гениталий, отношениях. Выражения лиц их неизменно оставались одинаковыми. Даже света в глазах близнецов всегда горело поровну, а такое нарочно не подделаешь.
Как-то раз мать рассказала им историю – правдивую, уверяла она, – о том, что придет будущее и тела их изменятся до неузнаваемости. У Таинто’лилит вырастут титьки, а Марко’каин отпустит бороду.
– Ох-хо! – насмешливо фыркнули близнецы.
Однако мать говорила всерьез, и словно бы прострочила иглой тревоги крепкую кожу их сердец. С этого мгновения самой главной для Таинто’лилит и Марко’каина стала одна задача – остановить ход времени. Нельзя было допустить, чтобы годы шли себе и шли: их следовало задержать, тайком запереть в загоне настоящего.
Решение же этой задачи, в чем близнецы нисколько не сомневались, крылось в ритуале – понятие ритуала часто обсуждалось в доме Фаренгейтов в связи с гухийнуи. Однако Борис и Уна были всего только наблюдателями, слишком европейцами, чтобы понять ритуал в его нутряных истоках. А их черноволосые, тюленеокие дети уже придумали, как управлять ходом вселенной, используя такие подручные средства, как нож и полярная лиса.
С гухийнуи Таинто’лилит и Марко’каин никогда не встречались, однако головы у них, похоже, работали точно так же – о чем Уна и заговаривала всякий раз, как видела детей отправляющимися в нагруженных импровизированными талисманами, кумирами и амулетами санях на совершение некоего торжественного обряда.
– Ах, если бы в тайны гухийнуи пытались проникнуть выдвое, а не старый Борис, – льстила она им, – вы бы мигом добились успеха, правда, ангелочки мои?
И действительно, когда доходило до ритуала, близнецы выказывали способность к великому терпению. Конечно, они, подобно всем детям, отличались порывистостью и никогда не ходили шагом, если можно было припуститься бегом, но магия это совсем другое дело, магия – не игра. Она величава, стихийна и подгонять ее не положено. Ты можешь в мгновение ока проглотить свой обед, можешь безрассудно запрыгнуть на угли костра, однако выдергивать нити из ткани времени следует с большой осмотрительностью.
Вот, скажем, чтобы разрешить проблему «титек и бороды», Таинто’лилит с Марко’каином придумали ритуал, исполнить который можно было лишь один раз в году, в тот насыщенный магией миг, когда летнее солнце поднимается, наконец, над горизонтом. Незадолго до этого дети ловили капканом лису и сооружали для нее клетку – впрочем, нет, возможно, клетка изготовлялась заранее. Затем они увозили лису к горизонту и закрепляли в таком положении, чтобы голова ее смотрела туда, где собиралось взойти солнце. Превосходя свою пленницу ростом, дети, разумеется, первыми замечали знаки скорого появления света, и как раз перед тем, как и лисе предстояло увидеть его, Марко’каин коленями прижимал ее голову к земле, а Таинто’лилит выкалывала ей оба глаза.
Потом они убивали лису, что, впрочем, не составляло существенной части ритуала – то был просто жест милосердия. И каждый год дети повторяли этот обряд с новой лисой, с вечно перевоплощавшейся лисой, которая неизменно закрывала глаза – лишь бы не видеть, как одно время года сменяется другим.
– Думаешь, это поможет? – спрашивала Таинто’лилит.
– Наверняка, – заверял ее Марко’каин. – Мышонкой чувствую.
Ну, если он так говорил, сомневаться не приходилось.
Большой дом, в котором жили Фаренгейты, вставал посреди ландшафта, точно забытый на Луне космический корабль. Этот чудовищный купол из стали, бетона и двойных оконных рам соединялся подобием пуповины с беспрестанно и мягко погуживавшим генератором. Внутреннее убранство дома было выдержано в наислащавейшем баварском стиле – деревянные, затейливо изукрашенные часы с кукушками, шоколадно-коричневые столы и стулья, вышитые коврики на стенах, стеклянные горки, наполненные миниатюрными куклами самых разных народов. Над камином, который никогда не разжигали, потому что центрального отопления хватало и без него, висело массивное, писаное маслом полотно – золотистый олень посреди рощи гигантских брокколи. Собственно говоря, растительности вокруг дома все равно никакой не было, так что и жечь в камине было нечего, кроме (если приспеет такая нужда) мебели да книг и бумаг Фаренгейтов.
Кухня представляла собой барочную страну чудес, поблескивавшую полированным деревом и медью; со стен ее рядами свисали десятки причудливой формы приспособлений и утвари. Однако в дело шло, да и то изредка, лишь малое их число. Все, чем кормились Фаренгейты, извлекалось из морозильника размером с «фольксваген» и варилось или жарилось Уной – в зависимости от того, что это было – в сероватой кастрюле с треснувшей деревянной ручкой либо на покрытой подпалинами керамической печной сковороде. Стряпухой она была патологически забывчивой и любое блюдо, если готовили его не близнецы, обращалось для едока в серьезное испытание – впрочем, временами на Уну нападало некое настроение, в котором она пекла замысловатые печенья и плюшечки, а то и супы варила.
– Вам нужны витамины, минералы, всякие малопонятные микроэлементы, – с воодушевлением объявляла она в таких случаях, ставя перед детьми особые, праздничные тарелки с серебряными каемочками. – Нельзя же только и жить что на всякой дряни, понимаете?
Стены в спальне близнецов были выкрашены в сиреневый цвет – в виде бисексуального компромисса между розовым и голубым. Впрочем, взглядам открывалась лишь малая часть этих стен, столь плотно были они завешаны эстампами, полками, на которых теснились безделушки, и заставлены книжными шкафами. Все это богатство еще в детстве принадлежало Уне, и она настояла на том, чтобы взять его с собой на остров, – по причинам личного, сентиментального свойства – задолго до того, как были зачаты Таинто’лилит и Марко’каин. И с ходом времени все большая и большая его часть переходила в собственность детей, – глаза Уны вдруг заволакивала туманная пелена, и она бросалась к запертому на ключ шкафчику, а то и к чемодану, чтобы вытащить оттуда некую вещицу.
– Вот, пусть она будет вашей, – говорила в таких случаях Уна, взмахивая какой-нибудь старинной безделкой или изжелта коричневой книгой. – Но только пообещайте беречь ее.
Тщательное изучение этих вещиц – деревянных лошадок с настоящими гривами и хвостами, хрустальных шаров с херувимами внутри, игравших альпийские напевы музыкальных шкатулок, мышиных чучелок в тирольских шляпках, зеленых бархатных курточках и кожаных штанишках – и позволило Таинто’лилит с Марко’каином сложить мозаичное представление о том, кем, собственно, могла быть их мать.
Из разговоров ее понять что-нибудь было намного труднее. Уна обращалась к детям с сотней, от силы, фраз в год, а если не считать повторов, так их получалось еще и меньше.
Ввиду такой скудости, близнецы составляли «Книгу Знания», в которую набожно заносили все услышанное от матери. Не равнодушные ее выговоры, разумеется, и не брошенные мимоходом распоряжения по хозяйству, но слова, исполненные куда как большего смысла и значения. Книга эта – сотня с чем-то пустых страниц в твердом, украшенном сложным узором переплете – была предметом священным и никакие ошибки в ней не допускались. Каждое слово, каждая буква, для нее предназначенные, обсуждались близнецами заранее, записывались практики ради на обрывок бумаги и лишь после этого с великим тщанием напечатлевались на кремово-белых страницах. И первая в ней запись была посвящена, что лишь естественно, сказанному матерью о самой книге при вручении оной детям.
«Эта книга была когда-то деревом.»
Мысль интригующая. Дом Фаренгейтов переполняла всякого рода бумага – учебные, в крепких переплетах, пособия, карты, немецкие романы, очень старые газеты, глянцевые журналы, доставлявшиеся сюда по воздуху из Канады, ну и, конечно, горы блокнотов и просто разрозненных записей Бориса и Уны. И все они, если верить матери, были когда-то деревьями. Мысль многозначащая вдвойне, поскольку ни единого дерева близнецы отродясь не видели – ну, разве что на картинках из книг.
Предпринятая ими попытка вырастить нечто столь волшебное самостоятельно – размолов одну из книг в кашицу и закопав ее в компост, составленный из дрожжей и экскрементов, успехом не увенчалась.
Разочарованные, они набрались храбрости, постучались в дверь материнского кабинета и попросили дать им точный рецепт получения дерева.
– Не сейчас, милые, – отмахнулась она, склоняясь пониже в жемчужном свете своей настольной лампы.
Настал день, когда Борис и Уна возвратились после очередного посещения гухийнуи и, как всегда, посадили свой серебристо-синий вертолет рядом с домом. Они вылезли, каждый со своей стороны, наружу, пригибаясь под крутящимися лопастями винта. Таинто’лилит и Марко’каин наблюдали за ними через окно столовой, сквозь запотевшие, с ползущими по ним каплями воды стекла. Одновременно закуковала четверка висевших в разных комнатах дома часов. Снаружи вились вокруг взрослых ездовые собаки, обнюхивая их и лая.
Ясно было – еще и до того, как Борис и Уна достигли входной двери, – что в настроении они пребывают непривычно подавленном. Они и не переругивались, подобно злейшим врагам, и не обсуждали (что случалось столь же часто), подобно подошедшим к порогу открытия дружелюбным коллегам, добытые на этот раз сведения. Уна вошла в дом безмолвной и бледной, остановилась лишь для того, чтобы сбросить на пол шубу, а после скрылась в своей спальне.
Борис, на пару шагов отстававший от жены, проследовал за ней до двери спальни, но, видимо, передумал и внутрь не пошел. Он снова покинул дом, чтобы откатить вертолет на место. Таинто’лилит и Марко’каин следили за ним сквозь стекло, стирая влажный налет рукавами пижам: «пвут-вут-вут».
Покончив с делами, отец объяснил им, наконец, что случилось.
– Ваша мать съела кое-что неподходящее, – сказал он. – Не удивлюсь, если это кончится плохо.
Таков был итог его размышлений на сей счет, но и этого хватило, чтобы побудить близнецов к лихорадочной деятельности.
В следующие три дня Таинто’лилит и Марко’каин, забросив все свои детские дела, ухаживали за лежавшей в постели матерью. Воздерживаясь от попыток чем-нибудь накормить ее лишь в те произвольные «ночные» часы, когда их родители по-настоящему спали вместе, они посвящали каждую иную минуту исполнению рутины, состоящей из готовки, перемены холодных компрессов и теплых полотенец, растворения шипучих таблеток и наполнения грелок.
– Ох, какие же вы милые, – улыбалась им Уна, лицо которой пылало, как пламя газовой горелки. – Даже моя мама не ходила бы за мной лучше, чем ходите вы.