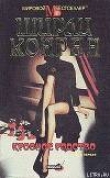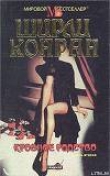Текст книги "Близнецы Фаренгейт"
Автор книги: Мишель Фейбер
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 17 страниц)
Когда женщина перестала дергаться, Дугги отпустил ее, и она опала с руля на сиденье, а после тело ее соскользнуло вниз, заняв там все место, какое было. Плача от боли в спине и ребрах, он стянул тело с педалей и затолкал, насколько смог, под пассажирское сиденье. А после включил двигатель.
На кольце торчавшего из гнезда зажигания ключа, болтался брелок – эскимосская лайка, мохнатая такая и раскраски самой правильной. Дугги всегда питал слабость к брелкам. У него даже коллекция их когда-то была, но, правда, она осталась в прошлом – вместе с альбомом карточек футбольного тотализатора и безделушками, набранными по упаковкам кукурузных хлопьев, – однако такая красивая лайка ему ни разу не попадалась, это было что-то особенное.
– Кончай херней заниматься, – громко приказал он себе.
Он доехал до железнодорожного моста на краю квартала, остановился на пустой стоянке для грузовиков. Потом отволок тело женщины к реке, к круто спускавшемуся в воду бетонному откосу, и стал ее раздевать. Дугги решил, что если ее найдут голой, полиция подумает, будто тут чего-то сексуальное было и начнет искать тех, кто уже попадался на таких делах.
Изодранным, распухшим пальцам Дугги трудно было справляться с застежками, да и прямо за глазами у него заболело вдруг так, что стало поташнивать. Ему никак не удавалось разобраться в запоре лифчика, тут было какое-то особое устройство, вроде крышечек на пузырьках с лекарствами, не позволяющих детям их открывать, – а разодрать лифчик руками он тоже не сумел. Однако все остальное Дугги с нее стянул и спихнул женщину в воду, точно красивую лодку. Задерживаться, чтобы посмотреть, потонет тело или поплывет, он не стал, а заковылял по откосу обратно к ее тачке. Вернулся на ней назад и поставил точно там, где она прежде стояла.
Вот, правда, на поиски своей времени у него ушло больше, чем он рассчитывал. Что-то заклинило в голове, никак он не мог припомнить, какая у него тачка – белая или синяя, «форд» или, может, японская. Но все же нашел, врубил двигатель и, наконец-то, поехал домой.
Дорогой он думал о том, есть ли в доме какое-нибудь обезболивающее.
Внешние его повреждения полицейские, конечно, увидят сразу, но то, что творится внутри, невидимо, так зачем было доводить себя до такой боли? Немного долбанного парацетамола ему бы не помешало, это точно. Тем более, придется на полу корячиться, со сломанными, по всему судя, ребрами и без подушки под головой. Господи! Жизнь как-то не предлагает ему легких путей, верно? Может, удастся пристроить башку на что-нибудь мягкое, уже валяющееся на полу?
Дерьмо! Ослаб он до того, что и на дорогу-то смотреть забыл, и в итоге повернул не туда. Куда он, на хер…? Дугги прищурился, пытаясь различить название улицы, однако в глазах все то расплывалось, то снова яснело – то расплывалось опять.
– Будешь лежать на гребанном полу, весь измудоханный, в жопу! – громко объявил он, и врезал ладонями по рулю, подчеркивая серьезность сказанного. Из рук полетела в голову стрела боли, ну да и хер с ней. Он все равно это дело до конца доведет. Произведет на полицейских впечатление. Получат они самого поуродованного долболоба, какого когда-нибудь видели за пределами морга.
Вот она, улица, на которую следовало еще в первый раз повернуть – и Дугги, визжа покрышками, повернул. Значит так, эта соединяется с… с… Не мог он припомнить название сраной улицы, но ничего, как увидит ее, сразу узнает, он же эти места наизусть заучил, как свою задрипанную ладонь. Да и кому они, на хер, нужны, названия-то, вообще говоря?
Когда он выкручивал руль, в левом запястье что-то хрустнуло, резко, точно сухая куриная кость или еще что-нибудь. Может, ему еще и руку сломали? Господи-Исусе!
Вот тут должен быть поворот, а его нету. Нету, и все. Политики, мать их, все время улицы переделывают, сидят, получая хорошие бабки, на жопах и перекраивают карту города. Придется вернуться назад, поворотить при первой же возможности налево и ехать на запад, пока не появится река, а оттуда начать все сначала.
Боль за глазами все нарастала. Может, и нет в его гребанном доме никакого пара… как его?… парадола. У нееже боли были все время, женские. А когда баба каждый гребанный час жрет таблетки от боли, так считай себя большим везуном, если и тебе хоть одна достанется.
– Хватит, на хер, об этом! – взревел он, и свернул, повинуясь невнятному позыву, за угол. Лечь хоть где-нибудь, хоть на жесткий пол, каким это станет блаженством. Трудно будет не сказать полицейским, чтобы они отвалили к ерзанной матери и дали ему поспать.
На мгновение он отключился, но смог, вцепившись в руль, вытащить себя обратно на свет божий. Одежда на нем вся отсырела от пота.
– Я домой хочу! – проскулил он и тут же устыдился, откашлялся, притворяясь, будто этот детский лепет вызван чем-то застрявшим у него в горле.
Ну вот, наконец-то, улицы разобрались сами с собой и приобрели знакомый вид. Дугги притормозил на перекрестке – все, что он видел вокруг, было таким, каким ему быть и следует. Он повернул направо и поучил в награду ровно те дома, какие надеялся увидеть.
Господи, надо было забрать тот брелочек с лайкой! Не сами ключи, конечно, а вот эту собачонку. Он так и видел ее сейчас перед собой: самую прекрасную, самую ценную вещь, какая у него когда-либо была, хотя, правда, у него-то ее вовсе и не было. Надо же было свалять такого дурака! Разве бы кто догадался, что он ее стырил? Мать-перемать! Единственный шанс получил да и тем не воспользовался. Долбанная история всей его жизни.
За глазами вдруг заломило так, что Дугги понял – дальше вести нельзя, – и сдал к обочине, остановился. И точно по волшебству: поднял взгляд и увидел, что все же добрался, куда хотел, и стоит прямо перед домом.
Плача, просто-таки рыдая, уже не справляясь с собой, он выкарабкался из тачки, примеряя мелкое дыхание к каждой секунде, какую ему еще оставалось вытерпеть, пока он не ляжет. Оналежит там, ну и он повалится рядом, а когда очухается, все будет тип-топ.
Он доплелся до двери, пошатываясь, почти ничего уже не видя. Брючный карман как будто сократился в размерах, от раздолбанных пальцев, просунувшихся в джинсовую щель, растеклась по руке и спине ледяная дрожь боли. Ключи-то он, наконец, достал, но вставить их в скважину не сумел.
Дугги собрался было покричать ей, чтобы открыла дверь, но рассмеялся, а после зашелся судорожным кашлем. Боль за глазами была уже просто немыслимой, Дугги мотнуло так, что он приложился маковкой о дверь, и от этого ему на миг полегчало, и он уже нарочно вмазал башкой по двери еще разок, и еще.
Наверное, он малость увлекся этим занятием, потому что, в конце концов, дверь распахнулась, и Дугги рухнул на пол прихожей. А на полу ковер лежит – не было тут раньше ковра, и все-таки, он этот ковер признал. Да он его с самого детства знал – ковер своего настоящегодома, родного.
– О Господи, Дуглас, что с тобой?
Он перекатился на спину и увидел ее, склонившуюся над ним: маму. Нашел-таки. Ехал вслепую по спиральным улицам боли, и все равно нашел. Она опустилась рядом с ним на колени, приподняла его голову с пола, положила себе на лоно. И плача, принялась утирать его слезы. «У меня неприятности, мам» – попытался сказать он, но смог лишь открыть рот и закрыть, открыть и закрыть, слова у него не получались.
Она, правда, говорила что-то, да только в ушах Дугги стоял такой рев, что голоса ее он не слышал. Ну и ладно, он и так знал, что говорит мама, ни по губам читать было не нужно, ни по глазам, – знал, потому что она всегда была здесь ради него, только ради него, она и жила-то лишь для того, чтобы жил он, существовала, чтобы существовал Дугги. Он знал, что она предлагала ему, пока в голове его меркнул свет: «Возвращайся, останься со мной. Я тебя спрячу. И ты сможешь начать сначала. Все начать сначала».
Туннель уже открылся. Дугги съежился, прижал колени к груди, стиснул кулаки – все, готов.
После боли
Морфей, ударник самой продвинутой дэт-металлической группы Северного Айршира, именуемой «Трупорубка», пытался хоть как-то заслониться от солнечного света. Свет доставал Морфея, нужно было пригасить его, отогнать назад в его мерзостные владения, восстановить власть тьмы. В самые последние минуты сна Морфей набросил поверх лица мускулистую, татуированную руку, прикрыв ею глаза. Без пользы. Тьма таяла.
Он сел в постели и сразу понял две вещи: сегодня вечером начинается восточно-европейское турне его группы, это раз, и – с головой у него творится что-то странное, это два. Он поморгал, прищурился, защищая глаза от избытка зимнего света, вливавшегося в незанавешенное эркерное окно крохотной квартиры. Машины на улице накрылись ночными шапками снега, слепящими, воинственно белыми. Прежде снег на машинах Морфея нисколько не беспокоил, а вот сегодня – более чем.
– Что-то со мной странное творится, – сказал он – по-венгерски – своей подружке, Ильдико. Ну, в этом-то ничего такого уж странного не было. Кровать, в которой они лежали, располагалась в самом центре Будапешта.
– Так ты вообще человек странный, – отозвалась Ильдико и, ткнув его носом в плечо, повалила Морфея назад, на постель. Пряди густой гривы Ильдико щекотали ему лоб, хотя, возможно, это были его пряди. Общих волос их хватило бы человек на пять.
– И чувство ритма у тебя потрясающее, – прошептала она Морфею в ухо и игриво потрепала его по бедру.
Он погладил ее под простыней, полагая, что она по-прежнему голая – но нет, Ильдико уже успела натянуть на себя нечто хлопковое. Ладони Морфея, ороговевшие за многие годы, в течение коих им приходилось лупить по барабанам со скоростью 240 ударов в минуту, – а именно такой требовали песни вроде «Адского экспресса», «Убийственного вихря» и «До встречи в Гоморре», – задержались на чем-то, схожем со странной коростой, покрывавшей облачение Ильдико.
– Что это на тебе? – спросил Морфей.
Ильдико села, и он увидел собственную футболку, фирменную, с надписью «Трупорубка». Девушка повернулась, чтобы показать ему выпуклые серебристые буквы на спине: «Европейское турне 2000 – Будапешт, Братислава, Прага, Вроцлав, Варшава» – дальше шли названия других городов, наполовину съеденные машинной стиркой, даром, что футболки эти еще и поныне продавали всем желающим. «Только ручная стирка», указывала пришпиленная к вороту бирка, но если честно, кто же станет стирать футболку вручную?
– А тебе идет, – сказал Морфей. Приятно было увидеть хоть что-то темное.
– Я решила, что нам стоит обменяться одежками. У меня есть отличная розовая комбинашка, не хочешь примерить?
– Ха-ха-ха, – промычал он и сразу задумался: может, по-венгерски, «ха-ха-ха» должно звучать как-то иначе?
Такой умной подруги, как Ильдико, у него еще не было. Она не принадлежала к фанаткам группы, – собственно, «Трупорубка» ей не так чтобы и нравилась. Ильдико был по вкусу, скорее, стиль «эмбиент» – холодные электронные шумы, наполнявшие ее комнату словно бы дуновениями освежителя воздуха. Громовая эпопея «Трупорубки», повествующая о выдранных заживо внутренностях, о погибающих под пытками душах, кишащих червями телах и пронзаемом гвоздями Христе, мало, говорила она, способствует успеху ее потуг сосредоточиться на университетских учебниках. Зато ей нравился ударник «Трупорубки». Очень нравился.
– У меня что-то непонятное с головой, – сказал Морфей.
– Болит? – подсказала Ильдико и вылезла из постели. Подол слишком большой для нее футболки привольно облегал ее ягодицы. «ГОТОВЬСЯ!» – настаивал слоган, красовавшийся под расписанием турне.
– Ага, болит, – хмуро признал он.
– Э-э… головная боль, что ли? – спросила она, отодвигая теплые, точно тосты, бедра подальше от древней чугунной трубы отопления.
– У меня не бывает головной боли, – сказал Морфей, и сморщился, – Ильдико подошла к окну и в глаза ему ударил ореол яростного солнечного света, обливший по контуру ее силуэт.
– Ну, похоже, теперь случилась.
– Может быть, это… как ее… – он не знал, как по-венгерски «опухоль мозга». – Может быть, я скоро умру.
Ильдико, собираясь надеть лифчик, стянула с себя и бросила ему футболку.
– Попробуй принять аспирин, – посоветовала она.
– Ты же знаешь, я ни в какие наркотики не верю, – ворчливо напомнил ей Морф, закрывая лицо большими освещенными солнцем ладонями.
Голова у Морфея и вправду никогда не болела. Даже в те времена, когда он был мэйболским подростком и звался просто Никки Уилки, у него нигде ничего ни разу не болело, если не считать волдырей на ладонях, появившихся после того, как он поступил в группу «Умопомрачительные уроды» (впоследствии назвавшуюся «У. У.», затем «Поцелуем Иуды» и, наконец, «Трупорубкой»). «Боль есть иллюзия, – всегда говорил он. – Сила духа, друг мой!».
Правдой было и то, что Морфей не верил ни в какие наркотики. Не многие фанаты группы знали об этом, однако «Трупорубка» состояла из ребят на удивление правильных – группа давно уже избавилась, подыскав им замену, от тех своих членов, чьи дурные привычки делали их неспособными помногу раз повторять замысловатые тактовые ритмы ее музыки или выдерживать надрывные темпы концертов. Когда «Трупорубка» еще мыкала горе в Шотландии, гитарист Нэйл (Цербер) временами позволял себе закладывать за воротник, а басист (Янус), случалось, баловался в свободные вечера «Экстази», однако теперь все они стали старше, обосновались в Будапеште и чисты были, что твой Клифф Ричард.
– Странно все обернулось, – нередко говорил Церб. – Из Эршира в Венгрию. Дома нас знать никто не хотел, играли мы в забегаловке, а тут стадионы собираем.
Морфей, когда Церб затевал разговоры подобного рода, обычно старался под каким-нибудь предлогом смыться. В свои двадцать два он был еще недостаточно стар для слезливых воспоминаний. Да и насчет стадионов Церб был не так чтобы точен: на стадионах они появлялись лишь для заполнения пауз в выступлениях групп познаменитее – вроде «Пантеры» или «Металлики». Собственно, и восточно-европейское турне сводилось к тому же, разве что футболки «Трупорубки» продавались на сей раз подороже: ей и еще кой-кому предстояло разогревать публику на концертах поседелого боевого коня «хэви-метала», группы «Слэйер». Ожидалось, что тысячи и тысячи восточно-европейских подростков повыползают из своих щелей, чтобы увидеть «Слэйеров», и если повезет, они и «Трупорубке» тоже похлопают, а кто-то из них, глядишь, да и купит ее компакт-диск или футболку («Только ручная стирка!»).
– Может, у тебя шея затекла, Морф, – высказала предположение Ильдико. – Просто заснул в неудобной позе, вот и все.
– Ага, с тобой рядом заснешь в удобной, – он поморщился, помассировал на пробу виски.
– Да будет тебе хандрить-то, – сказала Ильдико, теперь уже полностью одетая, обретшая обычную свою деловитость. – Сейчас я тебе кофе принесу.
– Только не ту португальскую дрянь из желто-синих пачек.
– Что ты, что ты, кофе у меня голландский, лучше некуда. «Адский эспрессо», – она смотрела на Морфея сверху вниз, сохраняя серьезную мину, пока до него не доперло, что это шутка.
– Ха-ха-ха, – сказал он.
Немного позже Ильдико уговорила его пойти прогуляться по свежему воздуху. Кислород плюс физическая разминка могут исправить «нелады», как она деликатно выразилась, с его головой. Они натянули анораки, перчатки, польские сапоги на меху и вышли из ее квартиры на улицу. Морфей нацепил темные очки – обычно он эту манеру мейнстримного рока не жаловал, однако сегодня залитый солнцем снег отличался какой-то неистовой яркостью.
– Волшебный денек, Ильдико! – окликнула их Гайналка, цветочница.
– Еще бы! – отозвалась Ильдико.
– Вот и в Шотландии люди только об одном и говорят, – пробормотал Морфей, стараясь не отрывать глаз от тротуара, на котором ноги пешеходов размесили снег в относительно терпимую сероватую грязь. – О погоде.
– Насколько я понимаю, это такая особенность, присущая людям вообще, – сказала Ильдико, увлекая его под брезентовые навесы уличного рынка.
Торговцы сегодня высыпали на улицу в полном составе. Лотки, как и всегда, были завалены мобильными телефонами, вышедшими из моды итальянскими кожаными куртками, поддельным спортивным снаряжением «Гэп» и «Адидас», уворованными голливудскими видео-фильмами, желтыми с синим пакетиками португальского кофе, календарями с портретами Бритни Спирс и дешевыми сладостями – предлагались, впрочем, и товары более традиционные: домашнее клубничное варенье, обезглавленные жирные курицы, альбомы с марками коммунистической эры, стопы краденной бумаги для принтеров, гигантские, покрытые плесенью салями.
– Не хочешь «Баунти»? – спросила Ильдико, окидывая взглядом доски на козлах, покрытые грудами шоколадок, которые доставлялись сюда из Америки через Арабские Эмираты.
– У меня… какое-то чудное ощущение в желудке, – ответил Морфей.
– Иными словами, ты чувствуешь себя больным? – сказала Ильдико, покупая себе «Марс».
– Я никогда не болею, – упрямо заявил Морфей и, сдвинув очки повыше, под капюшон куртки, начал рыться в пиратских компактах. Среди них обнаружился сборник «Слэйеров», озаглавленный «Величайшие хиты Слэйера» и совсем недавний альбом «Крэдл оф Филс» (с ума можно сойти).
– Ты же не хотел себя здесь найти, правда? – сказала, заметив его разочарование, Ильдико. – За нелегальные копии вам все равно ничего не платят.
– Нам и за легальные ни шиша не платят, – проворчал он. – Пираты, по крайности, тратят собственные денежки.
Ильдико сунула нераспечатанную шоколадку в карман куртки, застегнула на нем молнию.
– Надо сначала что-нибудь сытное съесть, – сказала она. – Пойдем в кафе «Калвин», «халаcле» похлебаем.
– Я не голоден.
– Тебе следует подзаправится к вечеру.
Впервые упомянула Ильдико о сегодняшнем выступлении: первом из двадцати двух, начале самого престижного – жми по газам! – из всех турне «Трупорубки».
– Времени еще куча, куча, – отозвался Морфей, чей взгляд привлек лоснистый журнал, который, судя по обложке, вполне мог писать о «трэш-метале». Оказалось – порнуха для мазохистов.
– Хочешь моего супа, Морф? – спросила Ильдико, размешивая в «халасле» сметану.
– Слишком рано для рыбных блюд, – ответил он. Освещение в кафе «Калвин» было приятное, приглушенное, а вот сметана, завивавшаяся в темном супе вокруг ложки Ильдико, вызывала у Морфа легкое головокружение.
– Час дня уже, – напомнила она. Концерт в замке начинался в семь тридцать, «Трупорубка» выступала вслед за «Ферфиаком» (отечественными имитаторами) в восемь пятнадцать. Морфей, все еще не оторвавший глаз от кружащей в супе сметаны, вдруг словно наяву увидел идеальное световое шоу своей группы – проблески красного стробоскопа и летящие, кружа, точно дервиши, арканы белого света.
– Мы их всех сегодня сделаем, – заявил он и, взяв вилку и нож, в бешеном темпе отбил по столу короткую вступительную фразу. Даже несмотря на скатерть, мощь и мастерство его ощущались безошибочно.
– Так будете что-нибудь заказывать или нет? – спросила официантка.
Морф вошел в дверь под вывеской, на которой значилось «ГИОГИСТЕРТАР». Слово это вполне могло быть названием восточно-европейской группы – играющей готику или «трэш-метал», – однако означало оно всего-навсего: «аптека».
– У меня болит голова, – сказал он стовшей за прилавком старой женщине в форменной одежде.
– Говорите громче, – попросила женщина, сложив чашечкой ладонь с узловатыми пальцами и поднеся ее к уху.
– Голова болит, – повторил Морфей. Лицо у него было пристыженное.
– Какие средства пробовали?
– Никаких. А что у вас есть?
Она повела рукой себе за спину, на стену, ощетинившуюся картонными коробочками. Судя по виду, тут имелись обезболивающие для каждого мужчины, женщины и ребенка, какие только сыщутся в Будапеште. Неужто в этом городе и вправду наберется достаточное количество голов, ломящихся от боли, достаточной для того, чтобы оправдать существование стольких таблеток?
– Я слышал, аспирин хорошо помогает, – сказал Морфей, ему хотелось, чтобы инициативу взяла на себя старушка.
– Да, с ним вам не придется платить бешеные деньги за всякие новомодные штучки. – Она, похоже, предостерегала его, проявляла материнскую заботу. – У нас на складе обычный аспирин горами лежит. Можете получить сотню таблеток за ту же цену, по какой продается двадцать «Бауэров».
– Мне всего-то пара и нужна, – с просящей интонацией произнес Морф, гадая, что он такого хорошего сделал, чтобы наткнуться в Будапеште на единственного человека, уцелевшего от докапиталистической эпохи.
– Я дам вам пятьдесят, – улыбнулась она, уже направляясь к задней комнате – с таким видом, будто Морф был нахальным мальчишкой, а она пекарем, намеревавшимся всучить ему пакет вчерашних пончиков.
Через минуту старушка уже снова стояла перед ним, держа в руках пластмассовый пузырек и стакан с водой.
– Что, прямо здесь? – испуганно спросил Морфей.
– Конечно. Нет времени лучшего, чем настоящее время.
Он вытряс из пузырька две таблетки, бросил их в рот и торопливо отправил вдогон глоток воды.
– Вы, похоже, никогда раньше этого не делали? – спросила старушка, увидев, как Морфей поперхнулся, поморщился и еще раз глотнул воды.
– Агаххх, – тряхнув головой, подтвердил он.
– Работаете в Будапеште? – разумеется, старушка уже поняла, что он иностранец.
– Я музыкант.
– Правда? А имя ваше?
– Э-э… Никки.
– Англичанин?
– Шотландец.
– Прекрасная страна. И что же занесло вас в наш воровской притон?
«Отсутствие в Шотландии спроса на „Трупорубку“», – подумал он и ответил:
– Здесь моя девушка живет.
– Как мило, – сказала старушка и от уголков ее глаз потянулись добродушные лучики. – С вас сто форинтов.
– Ну, как твоя голова? – спросила Ильдико, когда они возвращались домой. Моросящий дождь подъедал снег, точно кислотный туман, машины огромными железными грибами выползали из-под своих белых покровов.
– Хуже, – ответил Морф. – Не стоило мне таблетки глотать. Сила духа, вот все, что нам требуется.
Снова очутившись под крышей, Морфей позволил Ильдико помассировать ему, пока он смотрел телевизор, шею и плечи. С помощью пульта он убавил яркость настолько, что лица на экране стали негроидными.
– Может, тебе стоит дать знать обо всем твоим ребятам? – сказала Ильдико.
– О чем?
– О том, что ты недостаточно здоров, чтобы играть сегодня.
– Я достаточно здоров. Дух превозмогает плоть.
Она поцеловала его в макушку. Пальцы ее уже устали месть напряженные мускулы Морфа.
– Ба, смотри-ка! – сказал он. – Это же солист «Ферфиака».
На экране густо покрытый татуировками молодой человек говорил журналисту, что его группа собирается смести «Слэйеров» со сцены да так, что они через всю Европу кубарем полетят. Потом к камере протиснулся басист, вызывающе выставил напоказ оба средних пальца и крикнул по-английски: «We’re gonna kick some asses! [13]13
Мы им задницы надерем!
[Закрыть]».
Морф и Ильдико прыснули.
В шесть вечера Морфей ехал в замок, на встречу с коллегами по «Трупорубке». Езды туда было минут на двадцать, Ильдико сидела за рулем своего пиратского «Вольво», Морф расположился на заднем сиденье – пассажирское занял тщательно уравновешенный, подрагивающий, прозрачный пластиковый пакет с водой и тропическими рыбками. Экзотические создания плавали взад-вперед в своем полиэтиленовом доме, вода в нем вибрировала, перенимая дрожь двигателя.
Морфей, взвинчивая себя для предстоящего, барабанил по спинке переднего сиденья теперь уже настоящими палочками.
– До встрееечи в Гоморееееее! – немузыкально пел он, вышибая душу из кожаного подголовника.
– Так ты можешь рыбок попортить, – сказала через плечо Ильдико. Ее отец уже несколько месяцев ждал появления этих маленьких красавиц и вовсе не обрадовался бы, если б его решение – позволить дочери забрать их по дороге к нему из города, – обернулось тем, что они оказались бы мертвыми по прибытии.
– Естееественныый отбооор! – завывал Морфо, цитируя короткую песню из первого альбома «Трупорубки».
Если честно, чувствовал он себя совсем ни к черту – даже от усилий, которые требовались, чтобы, сидя на заднем сиденье машины, выбивать барабанными палочками дробь, в голове его начинала ухать кровь. Он стискивал палочки, глубоко дышал, вжимая костяшки рук в обтянутые кожей колени. Байкеровские брюки, обычно сидевшие на нем, как влитые, были сегодня холодны и липки. Голые руки Морфа побледнели, покрылись гусиной кожей, а куртка лежала на переднем сиденье, образовав подобье гнезда для шаткого пузыря с рыбками, и труды, потребные для того, чтобы достать ее оттуда, представлялись Моофу непосильными. В прошлом он неизменно отправлялся на концерт в одной футболке – адреналина в крови хватало, чтобы согреть его, даже если в машине не было печки, а температура снаружи падала ниже нуля. Сегодня же он дрожал.
– Ты уверен, что с тобой все в порядке? – спросила Ильдико, когда резкий изгиб дороги вырвал у Морфа тяжелый вздох.
– Аспириновое отравление, – простонал он. Желудок и кишечник обратились внутри его живота в тугую резину, литую анатомическую скульптуру, в которой никаким жидкостям места не находилось. Темная масса боли ворочалась и толкалась за левым глазом и бровью. Морф жал указательными пальцами на переносицу, все сильнее, сильнее, пока ему не почудилось, что пальцы, того и гляди, продавят кость и вонзятся в мозг (недурная, следует признать, получилась бы картинка для обложки альбома «хэви-метала»).
– Останови машину, – собственный голос показался Морфу чужим: хлипким носовым звуком, почти неразличимым за шумом мотора и наплывами гула в голове.
– До дома родителей осталась всего пара минут, – отозвалась Ильдико.
Она взглянула в зеркальце заднего вида. Сразу за ними шла машина, битком набитая венграми-переростками, – «Пежо», заполненный по самый потолок взвинченными, готовыми на какие угодно подвиги молодыми парнями.
– Меня сейчас…
Морф накренился вбок, опустил, отчаянно спеша, стекло и выпалил в воздух зарядом жнучей рвоты. Рвота била из его рта и носа, точно пиво из распалившегося алкаша, ветер сдувал ее, и она длинной желтой струей опадала на дверцу и багажник машины. Ильдико плавно затормозила, сдала на обочину, пропуская мимо себя летевшие с ревом машины.
Морфей нащупал дверную руку, вывалился наружу и замер, опершись ладонями и коленями о мерзлую траву. Его снова вырвало, от судорожных позывов голову едва не расколола дикая боль. Ильдико обхватила его за спину, и от этого Морфея внезапно пробил жуткий озноб.
– К-как же мы ко времени-то поспеем? – пропыхтел он.
Морфей очнулся в темной комнате, окруженный керамическими доярками и резными статуэтками, изображающими северных оленей. Он лежал в постели – не в ароматном гнездышке Ильдико, но в чужой, огромной, смахивавшей на рококошный слоеный торт, сложенный из стеганых одеял, расшитых покрывал, отглаженных хлопковых простыней и отороченных мехом подушек. Он вполне мог быть древним воином, плывущим на похоронных дрогах к темному озеру, где тело его предадут огню.
Сквозь щелку в двери спальни пробивался из коридора бледный, антикварный какой-то свет. Родители Ильдико всегда были людьми состоятельными, даже и до того, как Венгрия торопливо сдернула истершийся до дыр Железный Занавес. Жилище их представляло собой монстра в венском стиле – охотничий домик девятнадцатого века, упрятанный внутрь бунгало с тремя спальнями, затейливое шварцвальдское пирожное, завернутое в бумажку из-под хрустящих хлебцев.
Тишина вокруг стояла мертвая. Обычно, когда Морф приезжал сюда в гости, по дому разлетались из дряхлой акустической системы рулады Паваротти или Каррераса. Отец Ильдико принадлежал к числу тех, кто свято верит, что никаким компакт-дискам никогда не дотянуть до уровня богатого, естественного звука, порождаемого старомодным винилом, – особенно, если звук этот исходит из русской работы колонок величиной с транспортный контейнер. Человек глуховатый, он запускал своих импортных теноров на полную катушку, однако сейчас даже шелеста каких-либо арий слышно не было.
Морф сел в постели. Из одежды на нем только и осталось что футболка с трусами. Голова немного кружилась да и слаб он был, как новорожденный котенок.
– Ильдико, – негромко позвал он.
Она появилась в дверном проеме почти мгновенно, держа в руках большую наполненную кофе кружку, изображающую белку.
– Врачиха приходила, – сообщила она. – Вколола тебе обезболивающее и что-то от рвоты. Сказала – мигрень.
– Концерт…
– Давно закончился. Тебя подменил Золтан из «Ферфиака».
– Золтан? Да ему же только на почте штемпелем по конвертам стучать, душу из них вытрясать…
– Может, и так. Но его поставили вместо тебя. Сейчас они уже к Братиславе подъезжают.
– К Братиславе? Как это? – Он сбросил ноги с кровати на пол, попробовал встать, но обнаружил, что всего только двух конечностей для такого подвига маловато.
– Да ведь уже почти сутки прошли, – сказала Ильдико и немного раздвинула шторы. Из окна хлынул несомненный дневной свет. На полу заиграл коричневато-золотистыми красками коврик из крашенной овчины. Морфей обнаружил, что теперь ему по силам справляться с такими штуками, что солнечный свет уже не выходит из пределов терпимого. Хотелось пить да и есть тоже – не сильно, хотя в животе у него было пусто, как в большом барабане.
– Мне нужно попасть в Братиславу, – сказал он.
На бедре, там, где вошла игла, осталась корочка запекшейся крови. Никакой врачихи Морфей напрочь не помнил, хотя смутные воспоминания о том, как он появился в доме родителей Ильдико, у него сохранились: восторженный лай собаки, смущение, которое он испытывал, когда его чуть ли не волоком перетаскивали через порог, его обмякшие руки, свисавшие с плеч крошечных пожилых супругов, сюрреалистических проход вдоль книжных полок, заставленных Гёте и антикварными вещицами, стены, увешанные головами антилоп и тиковыми рамками с вязанными крючком сельскими сценами, дверь «гостевой» спальни с фотографией улыбающейся выпускницы на ней, пустой пластмассовый аквариум для рыбок, который ему выдали, чтобы было куда блевать, и божественное облегчение от того, что он, наконец, неподвижно лежит в тепле и темноте.
– Давай сначала посмотрим, сумеешь ли ты до уборной добраться, – предложила Ильдико. Она стояла перед ним с беличьей кружкой в руках, спокойная и счастливая. Ильдико всегда испытывала радость, снова увидев свою прежнюю комнату, напоминавшую ей, что теперь она ведет жизнь, полную бессистемного минимализма.
– Я у твоих родителей в прихожей на ковер наблевал, – внезапно вспомнил Морфей.
– Не волнуйся, его это только украсило, – сказала Ильдико. – К тому же, у них теперь одни новые цихлиды на уме.
Морф представил себе господина и госпожу Флепс: как они сидят в гостиной, забыв про Паваротти, и неотрывно, с завороженной набожностью вглядываются в новых заграничных рыбок. Он хмыкнул и разрешил себе повалиться назад, на одеяло.