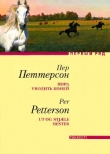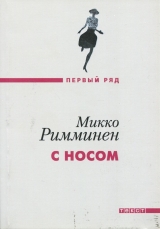
Текст книги "С носом"
Автор книги: Микко Римминен
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 15 страниц)
Это был тот же номер, что и утром, во всяком случае в памяти всплыли три последние цифры, семь семь семь. Гаркнула в трубку «алло», и откуда только эта привычка сразу кричать «алло», когда можно просто спокойно назвать свое имя, как люди делают.
– Алло, это Ирма? – спросил голос в телефоне. Я сразу узнала, кто это, хотя голос звучал странно, словно сигнал, который, прежде чем достигнуть моего уха, был пропущен через какую-то трубу. Но так как я не нашлась что ответить, в трубке снова послышалось: – Алло, алло. Ирма, это ты?
– Я, – услышала я свой собственный хрип. Мой голос, холодный и влажный, точно пещерные сталактиты, перекатывался в телефонной трубке, как под сводчатым арочным потолком у ворот дома.
– Это я, Ирья, – застрекотал телефон. – Ирья Йокипалтио. Из Керавы. Я тебя, случайно, не отвлекаю?
– Нет! – крикнула я в гулкий туннель и сама так испугалась возникшего акустического эффекта, что стала в спешке открывать старые железные ворота, которые и без телефона в руках открывались с трудом, теперь же, с сумкой под мышкой, телефоном у уха и половиной свободной руки с каждой стороны, мне наверняка удалось дать понять абоненту, что звонок не совсем вовремя.
– У тебя там жуткий грохот, давай я перезвоню попозже, если тебе неудобно.
– Нет! – крикнула я в телефон, просачиваясь сквозь щель в воротах на улицу. Я испугалась, не слишком ли злобно это прозвучало. Сын стоял на другой стороне улицы между косо припаркованными машинами и удивленно вертел головой. – Нет, нет, – поспешила я прокурлыкать сразу после недавнего шума настолько весело, беззаботно и расслабленно, насколько это было возможно при двойном «нет». Стало неловко. Я чуть не задохнулась от своей напускной беспечности.
Ирья помолчала секунду и затем спросила:
– Как твой нос?
И хотя я совсем недавно беспокоилась, заметив резкие перемены в настроении сына, меня саму вдруг прорвало на притворный и, наверное, безумный смех. Просто обрадовалась знакомому голосу и Ирьиной манере говорить, но в то же время что-то в ее голосе меня напугало. Сын с удивлением смотрел с другой стороны улицы. Дождь внезапно перестал, ветер стих, и спокойный залив за спиной сына выглядел так, словно застыл на месте в ожидании заморозков. Деревья вокруг Городского театра, казалось, только что тайком пробрались на свои места. Их пылающие кроны множеством отражений повторялись в зеркале залива.
Очевидно, Ирья не услышала в моем смехе ничего особенного, лишь снова прокричала «алло». Я собрала себя в кучу и начала рассказывать ей о том, что нос все еще болит, но эта боль ничто по сравнению с тем страданием, которое я испытываю, глядя на себя в зеркало. Ирья сказала, что знает, каково это, но не объяснила, откуда ей это известно, я успела понадеяться, что, по крайней мере, не ее мужик тому причиной, хотя расспрашивать, конечно, не стала, тем более что с такой физиономией вряд ли стоило побрасываться поговорками типа «у меня вечно сплошные убытки».
Было слышно, как Ирья смеется вдалеке, и у себя на кухне, и одновременно где-то в странном бочкообразном эфире или каком-то ином промежуточном пространстве, которое, как мне теперь хорошо известно, искажает голоса при передаче их через телефон. Потом она внезапно замолчала, подышала в трубку и серьезно сказала:
– Вообще-то у меня к тебе дело.
Я затаила дыхание в ожидании.
– Ты еще на проводе? – спросила Ирья.
– Да, я тут, – ответила я тонким, как пленка, голосом, который так быстро порвался, что стал похож на заикание. Сын нетерпеливо шагал взад-вперед.
– Ну так вот, ты оставила у нас свой бумажник.
Сложно сказать почему, но именно в этом месте все анкеты у меня смешались, как сказал бы мой сын. Что-то меня испугало; организм стал сжиматься, съеживаться, словно хотел предотвратить возможное нападение; угол зрения сузился, все тело враз обмякло, и я почувствовала, будто скукоживаюсь прямо на месте. И все-таки к этому необъяснимому страху, который вызвала Ирья своим простым заявлением, примешивалось мерцающее где-то в темных закоулках организма чувство теплоты и благодарности за то, что обо мне заботятся и беспокоятся.
В телефон же пришлось прокричать: Ирьядорогая, извинипожалуйста, а потом еще: Божемойдавайятебеперезвонюпокапокапииппиип. «Пиип-пиип» я сказала, наверное, сама, о чем, конечно, пожалела, закончив разговор.
– Что ты там копаешься? – закричал сын с другой стороны улицы. – Иди лучше посмотри на эту красавицу.
Я поплелась к нему на ватных ногах. Раскрасневшийся и гордый, сын стоял рядом с машиной, которая по всем признакам была похожа на машину. Его плечи были в аккурат на уровне крон деревьев на другом берегу залива, и все это выглядело так, словно глупо-счастливое солнце – его лицо – опускалось за горизонт, но зацепилось за кроны и теперь болталось там от нечего делать.
– Вот это она, как бы, – сказал сын, когда я подошла к машине.
– Ясно.
– Ну посмотри же, – настаивал он, хорошо хоть не заставил потрогать. – Это, конечно, не «ягуар», но хорошая машина, для своих лет, в хорошем состоянии, я сам ее чинил с приятелем одним, он разбирается в таких вещах.
Потом он стал демонстрировать детали. Но во мне было так много чего-то обволакивающе-кашеобразного, что сын очень быстро провалился в туман со своими речами и жестикуляцией автопродавца. Сначала я просто смотрела на темную воду и отражающийся в ней город, на парк Хесперия, на башню Национального музея, на макушке которой мне с восьмидесятых годов мерещится звезда, на острые углы сахарных кубиков концертного зала «Финляндия». И лишь когда одинокий красный локомотив внезапно вспорол желто-черный пейзаж своим гудком, я очнулась, поняв, что надо хотя бы сделать вид, что я смотрю на машину, ведь болтовни сына я по-прежнему не слышала, разве что совсем чуть-чуть, какое-то далекое бормотание, будто сквозь толстое одеяло, кажется, он показывал двери и замки, и одной третью уха мне удалось уловить что-то про то, что это, конечно, немного сложно. В самой машине глаз по-прежнему ничто не привлекло, разве что дверь со стороны водителя, которая была светло-зеленой, тогда как вся остальная машина – синей, однако и после этого наблюдения я довольно быстро снова унеслась вдаль от всего происходящего, в какой-то легкий мысленный пух, словно попала в маленькую комнату, наполненную чем-то очень мягким. Наконец что-то стало потихоньку из него проступать.
– Ну, что скажешь? – с воодушевлением проговорил сын, улыбнулся и хлопнул в ладоши. Я посмотрела на него. Где он только научился таким жестам? Не помню, чтобы он когда-нибудь что-то продавал.
– И все-таки она мне не нужна, – сказала я. – Ты же сам прекрасно знаешь.
И добавила еще, что подвозить меня не нужно.
– Разве ты не на больничном или что там обычно выдается? – спросил сын и включил первую передачу. Проехали вокруг Круглого дома, сын повернул не туда и теперь все никак не мог выехать обратно на Хямеентие. Старая машина, наехав на лежачего полицейского перед пешеходным переходом, задребезжала и задергалась.
– Ну, как бы да, – по-детски промямлила я. – Надо уладить одно дело.
Даже не глядя на сына, я почувствовала, как его глаза недоверчиво расширились.
Стала смотреть в боковое стекло на магазины, бары, кафе, продуктовые лавочки, деревья, кусты, собак и их выгульщиков, голубей, чаек, на все, что попадалось на глаза, а потом меня вдруг словно кто-то выдернул из этой череды. Не хотелось надолго задерживаться ни на одной мысли. На пересечении улицы Портанинкату и Второй линии дама, с трудом держащаяся на ногах, везла в детской коляске спящего мужчину по самой середине проезжей части. Голова ее подопечного свесилась на грудь, а с нижней губы к торчащей между ног бутылке пива тянулась дрожащая нить слюны. Машины гудели, трамваи сигналили, люди кричали. Водитель такси открыл окно и погрозил кулаком, почти как представитель официальной власти, но не выдержал и разразился хохотом.
– Чё, типа уже Вторая? – спросил сын на Второй линии. С материнской настойчивостью поправила речевую ошибку и сказала, что на следующем перекрестке надо повернуть налево. Он сделал, как было сказано, но слишком уж торопливо и неловко, словно пытаясь залатать прохудившееся чувство собственного достоинства, для мужчин это необычайно важно, особенно когда они из-за собственной же глупости напортачат что-нибудь за рулем. Пустые банки и бутылки с грохотом перекатывались в багажнике. По какой-то неведомой причине у меня перед глазами вдруг возникла картина танцпола в ночном клубе на пароме во время грозы.
Был совсем не час пик, но хвост из машин на Хямеентие дрыгался и извивался и напоминал что-то безумно длинное и смертельно скучное, в общем, нечто. Сложно сказать, что еще может быть таким уныло длинным – змеи, или угри, или какие-нибудь растения, если их тоже брать в расчет, и чего только не придет в голову, но потом пришлось прервать все эти размышления, так как сын снова начал говорить.
– Ну правда, мам, – сказал он. – У тебя все в порядке?
Посмотрела в его сторону. Он не смотрел на меня, сосредоточившись на управлении, ведь именно в таком сосредоточенном управлении она и нуждалась, эта колымага, руль был перекошен, а коробка передач надрывно гудела, и вообще вся езда напоминала бесконечную, неуемную икоту.
– Откуда она у тебя? – спросила я. – Эта машина?
Вместо ответа сын резко, прыжками затормозил перед очередным затором, оказалось, что две полосы перекрыты – посреди дороги зияла огромная дымящаяся яма. Не дождавшись ответа, я продолжила:
– Не очень похоже, что она в хорошем состоянии.
– Зато она моя, – сказал сын, не отрывая взгляда от ползущего перед нами микроавтобуса. – Все бумаги на мое имя, техпаспорт, страховка и что там еще, в общем, все. Была бы у тебя хорошая машина на какое-то время.
– Откуда ты ее..? – спросила я. Вопрос повис в воздухе, у меня не хватило желания долепить его до конца.
– Она была сначала у одного знакомого, – сказал сын. – Доброго знакомого, да, он о ней хорошо заботился, знакомый, о ней. О машине. Пусть она у тебя побудет, мне надо съездить кой-куда.
– Кой-куда, – повторила я ледяным голосом, не специально, так получилось. Про голос почему-то вдруг пришло в голову, что он был как со дна канавы при первых ночных заморозках, хотя что я, собственно, знаю о канавах и о том, что происходит у них на дне во время заморозков по ночам?
– Ну, просто надо съездить, – процедил сын, почти не разжимая губ, и тут же попытался сменить тему: – Так куда тебя отвезти?
– Я же ясно сказала, в Кераву.
– А там куда? Она, поди, не маленькая, эта Керава.
– А сам-то ты куда собрался? И надолго ли?
– По работе, – ответил сын одновременно и сухо, и словно вспотев. Потом он свернул с Хямеентие на Мякелянкату, так резко и, видимо, не с той полосы, что сзади стали сигналить. – Ну так, просто по делам.
– Мне об этих «просто делах» ничего не известно, – сказала я и схватилась за ручку двери. – О твоих, по крайней мере.
– Все тебе известно, – ответил сын и дернул ручку коробки передач на себя. Послышался жуткий скрежет. – Чего только не приходиться делать, чтобы с голоду не помереть.
Посмотрела на него с недоверием. Я старалась напустить на себя вид строгой матери. Пожелтевшие дома района Валлилы подпрыгивали за силуэтом сына, как будто за окном кто-то рывками растягивал фоновые декорации, хотя понятно, что прыгали не дома, а машина, или водитель, или дергался мой собственный глаз, определить было сложно, да и мое состояние тоже вдруг стало трудноопределимым. Чтобы избежать дальнейших недоразумений, я сказала или, точнее, подтвердила, что действительно, чего только не приходится делать, а затем сразу же спросила, куда мы едем, потому что, по-моему, мы ехали совсем не туда.
– Надо заправиться, – сказал сын. – У меня тут один знакомый работает в Кяпюля на заправке «Эссо», или как она там сейчас называется, по-другому вроде, не знаю, ну да ладно, так вот, он мне продает бензин подешевле. Со скидкой.
Выехали на пересечение со Стуренкату, там трамвай врезался в бок машины «скорой помощи». Огни «скорой» все еще мигали, и сложно было сказать, что там за ситуация, умирает кто-то или нет, но выяснить не удалось, так как сын вдруг на бешеной скорости стал лавировать между наводнившими перекресток машинами и, промчавшись по тротуару, вырулил на пустую улицу Мякелянкату, по которой причудливым узором стелилась дорожка из липовых и кленовых листьев, сорванных внезапным порывом ветра.
– Там была авария, – сказала я. – Надо было остановиться и посмотреть.
– Так что у тебя за работа? – спросил сын. – Может, мне стоит позвонить твоему шефу, если, конечно, таковой имеется, что это на фиг за фирма такая, где не дают больничных. Ты, вообще, понимаешь, какой у тебя сейчас вид?
Неожиданно во мне вдруг вспыхнул какой-то совершенно первобытный гнев.
– Ты, вообще, слышишь? – закричала я. – Там могли быть раненые!
– Мама, это же «скорая».
– А работники «скорой» всегда, по-твоему, выживают? В любых ситуациях, да? – съязвила я, и опять у меня это вышло гораздо жестче, чем хотелось.
– Мама, что у тебя за работа? Что у тебя с лицом?
– Откуда у тебя машина?
Так вот сидели и разговаривали, с сыном, с родным сыном, с недоверием, с сомнением в голосе, подозревая друг друга Бог знает в чем. За окном мелькнул бассейн «Мякелянринне» и идущие к нему пестрыми стайками дети, а также энергичные взрослые, правда, чаще по одиночке, потом показался интернат «Софианлехто» и роддом, последний немало значил для нас обоих, но атмосфера в машине так накалилась, что воспоминания о невероятно теплом апрельском дне того года были совсем не к месту; а потом и роддом остался позади, сменившись шелестящей желтой полосой из берез, кленов, лип и дубов, которая, в свою очередь, уступила место мокрой и угрюмой каменной стене, которую метров через двести расцветили два движущихся существа в спортивных костюмах и еще комплект человек-собака-поводок, остановившийся, чтобы справить нужду.
Сын решил повернуть направо. Поворотники не тикали, как обычно бывает в машинах, а скрипели и щелкали абсолютно неритмично и невпопад. Прежде чем свернуть к заправке, не доезжая метров пяти до поворота, сын сказал: «Извини, мам».
– И ты извини, – сказала я.
Тем самым тема была исчерпана, по крайней мере на какое-то время. Дальше мы ехали молча, потом подрулили к заправке, не к «Эссо», конечно, к другой, со сложно запоминающейся аббревиатурой. Сыну удалось заправить машину не сразу. Вначале он подъехал не с той стороны, и ему пришлось снова объезжать всю заправку; потом он заметил, что шланг не достает до бака, и машину пришлось переставлять; а в довершение всего пистолет отказался работать – из него не удалось выдавить ни капли. В конце концов сын заметил на колонке какую-то кнопку, нажал на нее и залил бензина на двенадцать евро сорок центов, сумму я увидела на табло, денег у него, похоже, не было, как, впрочем, и у меня, так что помощи от матери ждать было нечего. От этого стало больно.
Хуже всего было то, что сама я вела бы себя на заправке в сто раз нелепее. Где-то в районе сердца что-то разрывалось и похрустывало, когда я глядела на бестолковую суету и безрезультатные мыкания сына.
Сын отправился оплачивать свою скромную покупку, а я осталась сидеть в машине, как пришитая. У соседней колонки тридцатилетняя пара вздумала ругаться, похоже, из-за платежной или какой-то другой пластиковой карты. Мужчина со стрижкой ежиком стал сначала размахивать руками, а потом буквально рвать волосы на голове, те, что, вероятно, забыл сбрить, а женщина от всего сердца смеялась над этим бесконечно жалким представлением. На переднем сиденье их автомобиля в детском кресле сидел ребенок, от которого был виден только затылок да пластмассовые дужки розовых, явно очень больших солнечных очков, похожих на два больших крыла.
Я снова погрузилась в какое-то безмысленное состояние и, сама того не осознавая, достала телефон и перезвонила Ирье. Она ответила после пятого гудка. «Привет, Ирма», – сказала она, и я на миг опешила оттого, что она сохранила мой номер в своем телефоне. Смотрела, моментально позабыв все слова, в окно, стоя на заправке, где сын даже еще в очередь встать не успел, а зачем-то бродил между полками, что-то мечтательно выискивая, что именно, сказать было сложно, то ли моторное масло, то ли пиво, то ли журнал с девочками. Но потом, когда я наконец смогла выдавить из себя «привет», разговор пошел сам собой. Решила вот перезвонить, Очень хорошо, Вот, А то я уж думала, не случилось ли чего, Да почему, Ну слышно было, что что-то не так, Ну да, с сыном немного повздорили, Да, с парнями нелегко, Но теперь мы уже в Кяпюля, Где-где, В Кяпюля, А почему там, Сын обещал подбросить до Керавы, А в Кераве что, А как думаешь, Ах да, бумажник, Ну да, Значит, сын подбросит, Что, Сын подбросит, Не поняла, а, водить, конечно, умеет, Да нет, я о том, что, у тебя разве нет машины, Нет, а что, Так ты на поезде сюда на работу ездишь, Ну да, то есть на автобусе, Ах да, Но вообще-то я тут уже присмотрела одну машину.
Не знаю, с чего вдруг я эту последнюю фразу решила добавить, просто захотелось вдруг с ней согласиться или почти согласиться, хотя я сразу, конечно, поняла, проговаривая эти слова, что за такую болтовню можно потом здорово поплатиться. Но в конце концов удалось все же присобачить что-то более расплывчатое типа: ну, там видно будет.
– Надеюсь, все получится, – сказала Ирья, как будто я стояла уже на парковке и заключала сделку. Хотя, если разобраться, не так далека от правды была вся эта ситуация, в конечном-то счете.
В окно было видно, что сын отстоял очередь и теперь пробирается на улицу. Столь простое действие обернулось сложным хореографическим па: в дверях он столкнулся с мужчиной небольшого роста, с грязной мордой и в рабочем комбинезоне. Ирья в телефоне спрашивала, когда вас тогда ждать, а между тем сыну только-только удалось выбрался на свободу. Он шел к машине с довольным видом, неся в мускулистых руках два крошечных рожка мороженого.
– Пока не знаю, – сказала я вдруг, сама не понимая, откуда вдруг полезло из меня это лукавство, почему-то вдруг показалось, что надо бы потянуть эту игру, на всякий случай. – Сын собирается еще куда-то заехать по пути.
– Хорошо-хорошо, а я пока тут подежурю, – сказала Ирья. – Как приедешь, так приедешь.
Мы попрощались. Хотелось еще сказать что-то типа: приятно было поболтать, но сын уже подошел к машине и начал втискиваться в салон прямо с мороженым, точно с двумя печальными маленькими маракасами. К тому же Ирья уже сказала «пиип-пиип».
Забравшись в машину, сын протянул мне рожок и сказал, что цветов не было и поэтому он купил мороженое. Потом он помолчал, застенчиво поджав губы, и сказал наконец:
– Ну что, мир?
Я осторожно взяла мороженое большим и указательным пальцем. Это была «Королевская трубочка», такая же, как много лет назад, когда я еще баловала себя с сыном всякими вкусностями. Но почему она стала вдвое меньше прежнего? Неужели закон о здоровом питании распространился теперь и на мороженое? Но когда я стала сдирать липкую обертку с уже местами подтаявшего мороженого, то заметила значок юбилейного года в обрамлении лавровых веток на картонке, которая закрывала самый верх трубочки, и поняла, что его раздавали бесплатно, это мороженое, с помощью которого бедняга сын искал теперь со мной примирения. Но несмотря на всю несуразность и неуклюжесть этого поступка, было в нем что-то милое и приятное. Даже слезы навернулись на глаза.
Захотелось сказать, хороший мальчик у меня вырос. Но вышло почему-то только: «Хороший мальчик». Как будто собаке сказала.
Сам он, правда, ничего не заметил, мальчик, только улыбнулся как будто куда-то внутрь себя и, зажав трубочку во рту, с риском уронить ее, стал выворачивать обратно на Макелянкату. Через несколько секунд белые струйки растаявшего мороженого побежали по уголкам его рта, но, несмотря на это, ему удалось-таки протиснуться между грузовиками и автобусами, и, слегка задев островок безопасности, он вырулил на центральную полосу, по которой мы довольно скоро добрались до трассы на Туусулу. Трассы было хоть отбавляй, а вот красивого пейзажа явно недостаточно, да и разговор не клеился, мы заключили перемирие, и переругиваться стало не из-за чего. Дочавкав мороженое, сын решил срезать часть пути и проехать через Корсо. На перекрестке мне на глаза попалась крохотная старая машинка, которая закончила свои дни, врезавшись в дорожный указатель, вокруг нее ветер трепал желтую полицейскую ленту, у машины были выбиты стекла, сняты зеркала и колеса, как, впрочем, и все остальное, что только можно было унести. На покореженном синем указателе белыми буквами было написано «Алакуломяки», что буквально означало «унылая возвышенность», и все это казалось таким естественным на фоне бездождливого, но при этом какого-то водянистого и тоскливого осеннего пейзажа, что захотелось развернуться и объехать это место.
Когда мы снова выехали на трассу, я успела заметить, что на пустынной автостоянке закрытого промышленного цеха вихрь закрутил из желтых листьев высокий, похожий на огромный камень, цилиндр. Потом природное явление ослабило силы, и внезапно возникшее лиственное сооружение сложилось пополам, словно человек, у которого прихватило живот и который рухнул на землю. А потом вдруг – даже не знаю, в какую бессознательность я снова на мгновение впала, – мы были уже в Кераве.
– И куда тебя теперь везти? – спросил сын, тормозя у перекрестка.
– А где мы сейчас? – в свою очередь спросила я. Будто я только что проснулась. Сын сказал, что мы уже как бы в Кераве, в его голосе опять слышалось раздражение. Он что, забыл про наше перемирие?
Я не стала ссориться снова, наверное, он тоже думал о чем-то своем. Сказала, чтобы ехал вперед. Он ответил, что мы и так все время едем вперед, а я решила больше не лезть к нему со своими комментариями, стала просто смотреть в тот самый «перед», где поочередно возникали мини-вэны, проплывала одноэтажная Керава и над всем этим распласталось бледное небо, вылинявшее, словно старая рубашка. У очередного перекрестка сын стал допытываться, Нижняя или Верхняя Керава мне нужна, но почем я знаю, меня вообще охватила тревога, я понимала, что должна кого-то защитить, то ли сына от Ирьи, то ли Ирью от сына, то ли всех ото всех; было какое-то странное ощущение ситуации, доведенной до предела, поэтому вряд ли стоило все запутывать, прежде чем, ну, прежде чем все само встанет на свои места, тогда можно и кофе попить с булочками, всем вместе, ну и вообще. Казалось, сына нельзя пока во все это вмешивать, хотя он вроде бы и хороший мальчик.
– Давай прямо, езжай вперед, – повторяла я, в то время как мы ехали вперед, и мы ехали и ехали, хотя уже сто раз надо было повернуть. Миновали центр и, свернув наконец направо, вырулили на дорогу, показавшуюся мне знакомой, и я заторопила сына, снова прямо, а потом направо, налево, и когда я уже думала, что заблудилась окончательно, заметила, что узнаю места; наверное, мы проехали по кругу и каким-то чудом оказались вдруг на той самой остановке, с которой по тропинке можно было дойти до стоянки во дворе дома Йокипалтио и Ялканенов, до знакомой сосны. И сразу захотелось прижаться к ней и вздохнуть с облегчением, но на остановке я выйти не решилась.
– Здесь! – крикнула я после того, как мы еще раз повернули налево и немного проехали вперед по улице, которая выглядела точь-в-точь как все остальные в многоэтажных микрорайонах Южной Финляндии. Вот автобусная остановка, а немного поодаль, за слегка потрепанными соснами бетонная коробка, ставшая уже до боли родной. Между деревьев кружили, но как-то не очень резво, малыши на велосипедах. Все в неоново-желтых жилетках, к тому же у многих из-за сидений торчали вверх длинные удилища с колышущимися на них ярко-оранжевыми треугольниками.
– Значит, здесь, – сказал сын скорее критически, чем оценивающе, и остановил машину. Его нижняя губа недовольно выпятилась вперед. – Долго ты там?
Я буркнула в ответ, что, может, и долго, сын спросил: ну хотя бы примерно. Я ответила, что надо решить один вопрос, а потом еще один, и ехал бы он лучше домой и забыл все, что видел и слышал, и сидел бы потом тихо, как мышь, договор двусторонний, я тоже не буду высовываться, вернусь домой на автобусе и затаюсь. Сын вылупился на меня водянистыми глазами и сказал только «ой», но по этому его ойканью сложно было понять, то ли он так хмуро согласился, то ли у него что-то болит.
– Эй, ты что, шуток не понимаешь? – сказала я как можно более непринужденно, похлопала его по плечу и вылезла из машины. Дверь, конечно, осталась открытой, и так как я, собственно, еще не знала, куда идти, то, притормозив на остановке, принялась деловито копаться в сумке, из которой извлекла телефон, и старалась выглядеть очень озабоченной, хотя сама только и ждала-ждала-ждала, когда же наконец до сына дойдет и он уедет.
Слава Богу, дошло.
– Созвонимся завтра, – гаркнул он с переднего сиденья нарочито бодро и с силой захлопнул старую тяжелую дверь. Несколько раз он чертыхнулся на чихающий мотор, затем развернулся и потарахтел прочь, оставив меня там, на остановке, в чужом городе, и я не знала, была ли это Нижняя, Верхняя или вообще Глубокая Керава, но казалось, она вся замерла в каком-то напряженном ожидании.
*
Не знаю, почему я не хотела подпускать сына к дому Ирьи, отчего-то не хотелось их друг с другом смешивать; в душе шевельнулось сомнение, что я могу с ним столкнуться, с мальчиком, что он где-то неподалеку со своей машиной, поэтому я не осмелилась сразу топать к Ирье, а направилась к ближайшему дому, чтобы потянуть время. Дом возвышался метрах в ста от меня и на первый взгляд казался заурядной серой квадратной коробкой, было сложно представить, что внутри этой бесконечной бесцветности и прямолинейной угрюмости вообще может теплиться жизнь.
Он стоял среди редкого соснового леса, четырехэтажный параллелепипед. Одинаковые черные окна составляли одинаково мрачные ряды. Я пошла по тропинке через небольшую, поросшую лесом горку, у подножия малыши яростно жали на педали велосипедов и громко голосили. Когда я уже практически подошла к ним, оставалось всего несколько метров, один из них вдруг потерял равновесие и шлепнулся. Он лежал на земле, поджав губешки, и смотрел на меня так, словно в этом была виновата именно я.
– Плохой дядя, – сказал он.
– Нет, хорошая тетя, – сказала я и подняла его с земли. Он пробурчал, что не больно, и я потрепала его по маленькой яйцеобразной голове. Потом он опять взобрался на свой велосипед, а я пошла дальше.
Дойдя до небольшой стоянки перед домом, я увидела, как на уровне четвертого этажа дом подал признаки жизни: открылось окно. Поудивлялась этому, стоя на краю автостоянки, так как ни с одной стороны дома не было видно входа. Впрочем, за углом дверь все же обнаружилась, немного странно, что со стороны леса, дверь. Между домом и лесом была втиснута маленькая детская площадка с песочницей, качелями и каруселью, которая тихо кружилась сама по себе, словно огромные пальцы только что сняли с нее крохотного человечка и унесли в небо. В песочнице валялось поломанное красное ведро и старый дуршлаг, эмалированная поверхность которого покрылась трещинами, а ручка изогнулась, как шея у лебедя.
Я шагнула к двери, которая в тот же момент вдруг открылась. Нос, похоже, хорошо помнил последнее несчастье с дверью и потому ко всем частям тела тут же отправил срочное, горячее, пунцовое предупреждение в виде острой боли. Из этого послания я поняла, что с таким шнобелем идти дальше или вообще куда бы то ни было вряд ли стоит. Из дома вышел худой, почти прозрачный подросток в толстовке с капюшоном, похожей на рясу. Я забыла про все и стала думать о том, есть ли у него вообще родители и что это за гетто, где так мучают детей, и, как водится, погрузившись в размышления, застыла на одном месте, так что мальчик даже посчитал необходимым вежливо покашлять. Вернувшись к действительности, я поняла, что он стоит, вытянувшись как жердь, и придерживает для меня дверь.
– Спасибо, – сказала я ему и благодарно улыбнулась. Он смело посмотрел мне прямо в лицо своими прозрачными, как и он сам, глазами – они были похожи на две капли воды, парящие в невесомости.
– Пожалуйста, – сказал мальчик.
Я проскользнула внутрь, не переставая удивляться всем этим вежливым детям и подросткам, которые нынче попадаются чуть ли не на каждом шагу, и в то же время была очень довольна, что этот последний не стал с-вами-все-в-порядничать. В подъезде было сумрачно, почти темно. Я нажала на теплившуюся оранжевым светом кнопку выключателя, который издал немного пугающий, электрически-трескучий звук, прежде чем вспыхнул свет. Никакого холла или коридора в подъезде не было, лестница начиналась практически сразу у двери. На первом этаже умудрилась испугаться собственного отражения в окне, нос выглядел чудовищно, этакая местами почерневшая картофелина сорта «розамунда», и, конечно, созерцание этого чудовища совсем не прибавило мне желания идти дальше, захотелось домой, и немедленно, но потом я вспомнила, по какой, собственно, причине я здесь оказалась: надо было дать сыну время уехать подальше, чтобы он не вздумал вмешаться в мои дела, так вот, и что же я делала, просто стояла, ведь с таким носом нечего было и мечтать, чтобы идти к людям, но потом я внезапно подумала: а что такого, могу просто постоять здесь в подъезде, пока сын уж точно не уедет прочь, почитаю фамилии на дверях, так, на будущее, их все равно всегда любопытно рассматривать, фамилии, и размышлять, какой, интересно, человек скрывается за этой вереницей букв.
Тем не менее я продолжала идти, будто меня кто-то тащил на веревке. На первом этаже пахло запеченной рыбой, и не просто привычным домашним лососем, а какой-то странной снедью с плавниками, как в столовой, так и представила, как она лежит в форме для запекания, окруженная бледным бульоном с масляными разводами. Протопала через зловонный второй этаж, там были двери, обитые березовым шпоном, а пол выложен серым камнем с редкими пестринками, и, конечно, имена, два Виртанена подряд, один Корхонен и один Ниеминен. Потом добралась до третьего этажа, там жили Лайне, Керосуо, Максимайнен и Вяхяля, и, наконец, на четвертом пробежала глазами по фамилиям Мерикоски, Мерикаллио и Мериканто и остановилась перед дверью, на почтовом ящике которой было написано «Хятиля».
Сложно сказать, то ли это имя на меня так повлияло, то ли еще что, но вдруг, напрочь забыв про нос и про все остальное, я подошла и позвонила в дверь.