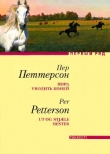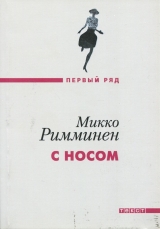
Текст книги "С носом"
Автор книги: Микко Римминен
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 15 страниц)
– Надо же, – промычал муж Ирьи и повернул угловатую щетинистую голову в сторону двери, заметив, что там кто-то стоит.
– Это Ирма, – сказала Ирья.
– Добрый день, – сказала я.
– Добрый. И простите, что я вот так, я не знал, что вы там стоите. Но вы только гляньте на него.
Он опять уткнулся взглядом в плоский телевизор, стоявший на бескнижной книжной полке. По-моему, ничего особенного там не было, ни в телевизоре, ни в программе, какого-то семи-восьмилетнего парнишку посадили за черный рояль, в глаза бросалась, пожалуй, только костюмная скованность его тела.
Мужчину же поведение этого парня явно раздражало, он продолжал на него смотреть и шипеть, а я стояла в полном недоумении. Но тут Ирья сказала: пойдем-ка сварим кофе, и я ошарашенно, но с благодарностью последовала за ней.
– Это был Рейно, – сказала Ирья, поставив кофейник на плиту и сев за стол. – Он сейчас в вынужденном отпуске.
– Ох! – вскрикнула я. За стеной у Ялканенов послышался приглушенный крик и грохот, от которого одни из каповых часов сдвинулись на сантиметр со своего места, и в голове промелькнуло: просто не может быть, чтобы и там были семейные разборки, у Ялканенов, у этих милых Ялканенов. – Совсем из головы вылетело, – сказала я Ирье, которая не обратила на шум за стеной никакого внимания. – Извини, я думала, он болен или еще что-то.
– Заболеешь тут, если привык всю жизнь работать.
– Да, нелегко это, – проговорила я натужно. – Сидеть целый день дома.
В последнее предложение закрался тон, который сын наверняка назвал бы дипломатичным, и я ужаснулась собственным словам, ведь это надо же было сморозить такую нелепость, наверное, я обидела ее, Ирью, ведь она как раз целыми днями дома и сидит. Тут не могло спасти даже то, что меня-то вообще можно было назвать профессором, или советчиком, или специалистом, или консультантом по домоседству, но Ирья, конечно, об этом не знала, и мне так хотелось поговорить с ней по душам обо всех этих длинных, пыльных, тихих и одиноких днях, проведенных дома, но я была для нее человеком занятым. Довольствовалась тем, что просто сгладила предыдущую фразу:
– Не то чтобы в этом было что-то предосудительное. В сидении дома. Конечно, если привыкнешь.
– Да, – вздохнула Ирья. Ее что-то тяготило, это было видно по взгляду, который рассеянно скользил по кухне.
– Оно, конечно, совсем другое дело, пока не привыкнешь. То есть что это я, право, совсем запуталась. Так вот. Хотела сказать, что не всегда оно комфортно, на работе. Иногда и дома очень хорошо. Да.
– Да.
– А мне кофе будет? – послышалось из гостиной.
– Будет! – вскрикнула в ответ Ирья так внезапно, что я даже вздрогнула. Где-то под сердцем пробежал холодок, как будто ледяная жидкость разлилась по телу.
– Ну конечно, кто-то ведь должен работать.
– Да, – снова сказала Ирья, и я испугалась еще больше, вдруг она обиделась, или опечалена чем-то, или просто не в настроении, потом она встала, налила кофе в кружку с божьими коровками и отнесла мужу, а у меня тем временем появилась секунда, чтобы как-то организовать и сдержать поток мыслей, и я была Ирье за это очень благодарна, я словно пыталась построить из сырых куриных яиц нечто цельное и прочное. Решила сосредоточиться на бытии, оказалось, что это в общем-то не так уж и сложно, слушала, как вздыхает кофейник, как тикают каповые часы, после недавних тарелок с городами они казались родными, хотя оставались при этом жутко уродливыми; мысль об уродстве я даже нашла забавной, ведь теперь я знала, что Ирья думала об этих часах; подумалось и о том, что, может быть, особенно сильно они раздражают ее сейчас, когда обстановка в доме напряженная.
Ирья совершенно беззвучно вернулась в кухню, вошла как раз у меня за спиной. Подливая кофе, она пробормотала что-то вроде: вообще-то он не плохой. Я даже не сразу сообразила, о чем она. Внезапно до меня дошло, кто этот «он», и понимание заволокло мой ум, как большая и жуткая подводная тень.
– Конечно! – вскрикнула я настолько пронзительно, что даже ушам стало больно.
Ирья никак не отреагировала на мой поросячий визг, она села за стол, отхлебнула кофе, посмотрела в окно и сказала:
– Хорошо, хоть не сильно пьет. Большинство из его друзей-работяг уже с пятницы в дым пьяные. Звонят из какого-нибудь кабака, типа «Не ждали», каждые полчаса и зовут туда.
Я попыталась оценить длительность запоя и пришла к выводу, что сегодня вторник. Не так уж и долго, насколько я понимаю, вот если бы прошло уже несколько недель отпускного пьянства, то тогда, конечно, другое дело, все это я поспешила облечь в слова, но застопорилась в первую же секунду, стараясь подобрать как можно более подходящую и мягкую форму, на том и скисла; вернувшись обратно к действительности, почувствовала, что в уголке правого глаза начинается какое-то невнятное подергивание. Перевела взгляд направо и заметила, как за окном по стволу дерева вверх шмыгнула шустрая белка. Было такое ощущение, что это именно она подергивала меня за край века.
– Ах да, твой бумажник, – сказала вдруг Ирья.
– Бумажник?
– Ну как же? – спросила Ирья, оторвав взгляд от темного и холодного стекла духовки, в которое она смотрела, явно тоже успев побывать где-то совсем далеко отсюда. И конечно, по всему этому было видно, как нелегко дается такое испытание их бюджету, несмотря на все ее прежние речи. Хотелось прекратить все это мое наступление и уйти, оставив их в покое, но все же я решила сначала вернуть ее к действительности, Ирью, напомнив, что речь шла о бумажнике, она ответила с грустью, что, похоже, у нее сегодня что-то с головой, а потом мы просто улыбнулись друг другу слабой, едва заметной улыбкой. Тем не менее у нее в руках вдруг оказался мой бумажник, не знаю уж, из-под какого стола она его достала, но он внезапно возник на столе, черный комочек, похожий на измученный внутренний орган, лежащий на вощеной скатерти «Маримекко» с крупными жидкими цветами, похожими на сырые яйца. Через несколько секунд после того, как Ирья положила его на стол, он сдулся и осел, словно принял более удобное положение.
Мы обе смотрели на бумажник. Предсказанный стариком Хятиля дождь отбивал бодрую барабанную дробь по стеклу. Я взяла свое деньгохранилище со стола и принялась изучать его содержимое, он был пуст, как и прежде, да и чему там было быть, водительские права, старый чек и прочая ерунда.
– Можно было с ним и не торопиться, – усмехнулась я, но без улыбки, конечно.
Ирья, вероятно, подумала, что я там чего-то недосчиталась и поспешила возразить, возможно, она подумала, что я смутилась из-за обнаруженной недостачи и худобы бумажника. Мне пришлось успокоить ее: пусть не вздумает волноваться, я ведь им совсем не пользуюсь, бумажником, я больше люблю кошельки, вот, смотри. И я достала из сумки свой сморщенный мешочек и позвенела им, как уличный музыкант, Ирья засмеялась и сказала: ты, значит, тоже, и достала свой. Это был кошелек Акционерного банка, не менее дряхлый, чем мой. Вот мы так сидели и звенели кошельками, словно победители, и смеялись – немного грустно, но все же вместе.
Потом мы долго молчали. Смотрели на ворону за окном на ветке клена, помешивали кофе и вздыхали. Рейно вошел за добавкой, но разговаривать не стал, в животе опять возникла пустота, так что пришлось взять кусочек булочки. Оказавшись внутри их натянутых отношений, я сразу ощутила на спине что-то липкое и неприятное, словно туда вылили что-то холодное и вязкое, вроде пюре.
А потом, когда молчание затянулось настолько, что надо было либо сказать что-то, либо уже уйти, зазвонил телефон. Звонил сын, и я была ему страшно благодарна, но не ответила, подумала, что это хороший предлог, чтобы встать и непринужденно уйти, телефон продолжал жужжать, я стала поспешно закапывать бумажник в сумку, пытаясь объяснить Ирье, что звонит сын, что он должен забрать меня, что он, пока я сидела у нее, ездил по делам и мы договорились, что он пустит звонок, когда будет подъезжать. Слова, казалось, застревали в горле, оно вдруг стало тесным, будто с колючками внутри, сначала оттуда вырывались только сухие, древесно-стружечные хрипы, но потом мне наконец удалось донести свою мысль до слушателя и начать пробираться к выходу.
Ирья стояла посреди кухни, терла полотенцем в красно-белую клетку внутренность кружки и со слегка начальственным видом смотрела на остывающий кофейник. Я стала продвигаться к прихожей. Ирья очнулась и отправилась провожать меня до двери. В гостиной на диване сидел ее муж, держал в руках пульт от телевизора и в оцепенении всматривался в темный экран. Стало жаль их обоих.
В дверях обнялись. Это произошло совершенно естественно, как бывает у друзей и хороших знакомых, без всяких жеманных хореографий.
На улице уже смеркалось. Дождь старика Хятиля зарядил сильнее, и все стало еще более хмурым, а когда я пересекла парковку, вообще перешел в мокрый снег. На маленьком кусочке газона между домом и машинами стала расти белая глазурь. Пока пробиралась к дороге, я не встретила ни души, но на остановке ошивалась троица детин подросткового возраста, явно затянувшегося. Когда они поняли, что приближается взрослый, а в его лице потенциальный источник общественного осуждения их поведения, они тут же стали демонстративно курить, плеваться и ругаться матом. В голове промелькнуло: как же хорошо, что, кроме супервежливых с-вами-все-в-порядке, есть еще и вполне нормальные молодые люди.
Я шла против ветра, мокрый снег бил в лицо. По такой погоде идти пришлось долго, но до вокзала я все же добралась. Застыла посреди людского потока, словно камень, народ обтекал меня с обеих сторон, мокрый снег лежал тяжелыми хлопьями на шапках, плечах, шарфах, ресницах. В углублении, похожем на вход в бар, похожий на бочонок пьянчужка потягивал намокшую сигарету и считал прохожих. Дойдя до десяти, он каждый раз сбивался и начинал заново. Его расстроенные чертыхания рассыпались в мокрых хлопьях, напоминая звук картонных трещоток, которые мальчишки, по крайней мере во времена, когда сын был маленький, крепили к спицам велосипедных колес, чтобы при движении получался звук, как у мотора.
Пройдя еще несколько десятков метров, я оказалась перед красивым деревянным зданием вокзала, железнодорожного, раньше я не замечала его здесь, рядом с автостанцией. То есть, наверное, на подсознательном уровне я его заметила, просто нельзя было не заметить, но, может быть, просто подумала, что они, например, идут в другую сторону или еще что-то, поезда. Но и в этот раз я направилась к автобусу.
Постояла минут десять на продуваемой всеми ветрами платформе с неясным ощущением внутри себя чего-то пустого и неприятного. От той ужасной женщины и от несчастья Йокипалтио в душе осталась какая-то бессильная злоба и чувство несправедливости этого мира, перед глазами все еще стояло то печальное выражение, которое было на лице Ирьи там, в дверях. Пришел автобус, я заснула почти сразу, как опустилась на сиденье, несмотря на шумную толпу школьников, наполнивших салон беспокойством и спертым запахом мокрой одежды. Проснулась уже в городе, на родной Хаканиеми, как раз перед своей остановкой, больно ударившись носом в стекло на повороте с улицы Хямеентие.
На улице дождь ударил в лицо холодно и резко, но это был всего лишь дождь, в Хельсинки стояло совсем другое время года. Площадь Хаканиеми показалась вдруг уродливой, люди были какие-то все погрузневшие и недовольные, даже законченные пьяницы и те куда-то спешили. Под козырьком банкомата стоял знакомый старик с палкой, походивший на эльфа, и тыкал прохожих в бок, денег не просил, а просто тыкал и что-то бормотал вслед. Я сбежала от него на тротуар, где чуть было не столкнулась с дамой из конторы на улице Вихерниеменкату, с внешностью киноактрисы, пришлось сделать неловкую попытку спрятаться за стволом хилой и скользкой от дождя липы.
Женщина прошла мимо, вытирая очки, и, думаю, не заметила бы меня, даже если бы я принялась ее щипать.
Я припустила в сторону дома. В лицо хлестал дождь, летели кленовые листья, и грязный полиэтиленовый пакет из-под фруктов угодил прямо в лоб. Во рту после автобусного сна чувствовался неприятный привкус. Я завернула в киоск купить жвачку. Очередь была длинной, как в голодные годы, но уходить я не стала, так как за мной уже тоже встали люди.
Когда я наконец-то добралась до прилавка, кассирша, выбивавшая мои покупки и похожая на старшеклассницу, спросила измученным голосом, слыхала ли я что-нибудь про День носа. Я поспешно ответила, что нет. Она оторвала взгляд от кассы и секунду ошарашенно смотрела мне прямо в лицо полуобморочным взглядом, потом покраснела и сморщилась, как будто проглотила что-то кислое, или острое, или сильно перченное. И я видела, что ей хочется извиниться, но делать этого было нельзя, это понятно даже ребенку, одним лишь словом невозможно было обратить в реальность то, что мы обе видели и чувствовали, да и я не могла прийти ей на помощь, ведь я же совсем не знала ни о каком чертовом Дне носа, знала лишь то, что нос мой ужасен, что он болит, что настроение и без того хуже не бывает.
В этой ситуации оставалось только пробормотать вымученные «спасибо-до-свидания» и протиснуться сквозь толпу на улицу в дождь.
III
Две недели прошли в каком-то раздрае. Погода была разной, солнце, ветер, дождь, мокрый снег и туман, который заполнил весь двор – даже в квартире, казалось, не повернуться. Я сидела дома, ходила на рынок и в магазин, страдала от боли в носу и мучилась от вида этого раздувшегося органа, поменявшего свой цвет на еще более мрачный. Приближался День носа, о котором трещали во всех магазинах, киосках, по радио и телевидению и в котором я не видела никакого смысла.
Настали тревожные, тяжелые дни, думалось только о печальных событиях в Кераве, о провальном визите к старику Хятиля, и в первую очередь, конечно, об Ирье и ее семье, о том, как они там и по-прежнему ли все сложно. С Ирьей мы даже обменялись парой эсэмэсок, но больных тем не касались: ни вынужденного отпуска ее мужа, ни моего носа, писали о погоде, и от этого на душе стало, с одной стороны, как будто немного легче, а с другой стороны, еще более тревожно.
Надо было бы сходить в больницу или на худой конец к медсестре какой-нибудь показать этот ужасный нос. Но я не пошла: судя по всему, нос сломан не был. Я подумала, что опухоль со временем спадет, если помогать ей старыми народными средствами, спитым чаем и обильным потреблением кофе. И вот наступил День носа. Нос по-прежнему горел, а по радио с самого утра только и делали, что твердили о проклятом Дне носа, о нем трещали без умолку, и даже я поняла, что речь идет о благотворительности, правда, не уловила, о какой именно; возможно, я с удовольствием приняла бы в этой акции участие, но мне было абсолютно неясно, кому и как все это могло помочь. Да и выяснять толком не хотелось, мне вполне было достаточно мыслей о моей бессильной, тупой обиде, все остальные думы сводились к тому, что старый и добрый День голода заменили на его пародию – День носа, думала я, это ж надо, до чего докатился современный мир, даже о голоде теперь было нельзя говорить, все вокруг теперь должно вызывать только положительные эмоции.
И когда эти воспаленные мысли были передуманы, стало почему-то стыдно. Но сделать что-то тут вряд ли было возможно, не говоря уже о том, чтобы, как все остальные, нацепить клоунский красный нос на свою раздавленную, но по-прежнему весьма заметную часть лица. А ведь когда-то, в прошлой жизни, некоторые даже называли эту мою часть тела благородной и аристократической.
И как я ни убеждала себя, что мне непременно нужно побыть дома на больничном, пришлось еще раз съездить в Кераву. Не отпускало чувство беспокойства за них, за Йокипалтио, хотелось подбодрить Ирью. Но в подъезде вдруг опять все застопорилось: нельзя вот так вваливаться без предупреждения, ведь у них там может быть какая угодно ситуация, даже самая крайняя, а что, если Ирья в магазине или еще где, а дома только муж, кто его знает, может, он нахамит или того хуже. Тем не менее захотелось дать им понять, что я приходила, уж не знаю почему показалось, что надо оставить Ирье весточку, пусть знает, что она не одна, что в мире еще осталось сопереживание. В сумке не нашлось ничего даже весьма условно подходящего для весточки, кроме старой почтовой открытки с потертыми углами, сын прислал ее еще летом, непонятно почему, он не входил в число любителей отправлять открытки. «Парк развлечений – это весело», – гласила открытка, на лицевой стороне были изображены визжащие на горках дети и большой плюшевый медведь. На обратной стороне сын нарисовал глаза и большую улыбку, а я приписала ниже: «Всего доброго, привет из отпуска, Ирма».
Идея с отпуском продолжала казаться удачной даже в тот момент, когда я бросала открытку в почтовое отверстие на входной двери, я думала, что это хорошая отговорка, я ведь давно у них не появлялась. И лишь во дворе, прислонившись к дереву, я случайно вспомнила про вынужденный отпуск ее мужа.
Сразу запретила себе думать об этом и решила нанести еще пару деловых визитов. В первой квартире скрюченная старушка захотела взглянуть на мои бумаги, которые я не осмелилась ей показать; от второй в памяти осталась только безмолвная двухдетная семья и злобное красноватое мерцание часов-радио, которые почему-то были единственным источником света в сером мраке трехкомнатной квартиры; от третьей запомнился лишь короткий разговор с мужчиной, разбиравшим телевизор на ворсистом ковре в гостиной. Любите ли вы куриную печень, Фу гадость, А мне кажется она хорошая и дешевая, Не вас ведь спрашивают, Что ж мне пора спасибо и до свидания. Вернулась домой на поезде, просто для разнообразия, думала, что даже такой опыт может быть полезен, но, когда я села в поезд, солнце уже тоже село, а потому всю дорогу не видела ничего, кроме собственного отражения в окне да невероятно толстого мужика, который развалился напротив, таращился на мой нос и противно облизывался, словно перед ним была не я, а соблазнительное клубничное мороженое.
В один из дней пришел сын, без предупреждения. При первом звонке я вздрогнула и автоматически собралась уже было пойти открыть, но, оторвавшись сантиметров на десять от стула, вдруг замерла, засмотревшись на дрожащее солнечное пятно, неожиданно появившееся посреди газетного разворота, как будто кто-то плеснул на бумагу густой желтой краской. Потом послышался стук закрывающегося окна и пятно исчезло, а звонок все звонил и звонил, а я еще с минуту сидела и думала, кто это там за дверью трезвонит, наверное, какой-нибудь террорист с анкетами типа меня. Когда я наконец поняла, что это никакое не хулиганство, как мне представлялось сначала, я встала.
Сын начал кричать за дверью: мааам, открой дверь, это яяяя. Распахнула дверь, втащила сына в прихожую и уже на грани закипания прошипела: какого хрена ты там разорался, соседи подумают, что здесь Бог знает что творится. Сын прошел внутрь, конфузясь, насколько это вообще возможно при таких внушительных габаритах, и бормоча обрывочные «спасибо». Я вмиг оттаяла и как будто даже размякла. Мы обнялись.
Сжала его раскрасневшееся, пухлое лицо в ладонях и потрепала по щеке. Знала, что он ненавидит, когда я так делаю, поэтому решила на этот раз не мучить его, дразня «гадким ребенком».
– Мама, – сказал он, и его левый глаз задергался. – Почему ты не берешь трубку? Я же волнуюсь.
– Кофе будешь?
– Мам, ты меня слышишь?
– Я как раз только что выпила, – сказала я. – Но мы еще сварим, – пробормотала я и пошла в кухню, чтобы вылить остатки старого и поставить новый. – Что-что, я не ослышалась? Неужели ты и вправду… волнуешься?
Сын как-то испуганно наблюдал за моими действиями и нервно теребил подбородок или, точнее, складку под подбородком, которая походила на автомобильную покрышку. Потом он вздохнул. Стало неудобно, стоило ли его упрекать, как будто он не имеет права волноваться о родной матери, которая не отвечает на звонки и обзаводится жутким по цвету носом. Я включила кофеварку и кивнула в сторону стола.
Он плюхнулся на стул, я села по другую сторону стола и вернулась к газете. Стала энергично шуршать страницами и сделала такое сморщенно-сосредоточенное выражение лица, по которому можно было предположить, что на огромной газетной простыне я наткнулась на необычайно интересную новость. Потом как можно более беззаботно спросила:
– Так отчего же ты, мой мальчик, так взволновался?
Теперь уже он, а не я смотрел в окно с таким видом, словно увидел там что-то-не-важно-что. В этой области, пожалуй, опыта у меня было побольше, чем у него, и я с уверенностью могла сказать, что ничего суперпотрясающего он за окном не увидел, но надо же было в конце концов и ему дать возможность потянуть время, поэтому я дала, а сама пока сосредоточилась на разглядывании газетного разворота с невероятным нагромождением типографских значков и картинок.
– Почему ты не отвечаешь на мои звонки? – спросил он, вдоволь насмотревшись на стену дома напротив.
– Отвечаю, когда могу, – сказала я, оторвав взгляд от газеты. Сын даже вздрогнул, как будто я ненароком задела его своим массивным носом. – Ты же знаешь, я теперь работаю.
– Может, тебе все же лучше дома побыть? – пробормотал он так тихо, что я едва могла различить слова в этом шепоте сквозь зубы. Потом он, наверное, понял, что сболтнул лишнего, но вместо того, чтобы попросить прощения, только еще больше залился краской. Когда мой ответ на этот выпад свелся лишь к тому, что я перелистнула страницу газеты и сосредоточилась на другом таком же аутистическом развороте, он продолжил: – Но вопрос по-прежнему без ответа. Точнее, не вопрос, проблема, я хотел сказать, что…
Потом он набрал в легкие воздуха, так что красные и черные клетки на его рубашке округлились и вздулись, как закипающая лава, и выпалил:
– Мам, мне просто надо куда-то деть эту машину.
Как только он это сказал, рубашечные пузыри сдулись. На улице кто-то злобно громыхнул крышкой мусорного бака, несколько испуганных голубей мелькнули за окном. Я посмотрела на сына. У него был такой взгляд, словно он что-то натворил, он не мог смотреть прямо, а все как будто норовил спрятать глаза внутрь глазного яблока с растрескавшимися сосудами. Он смахнул ладонью каплю пота под носом и вытер руку о джинсы. Только тут я заметила, что, бреясь, он явно думал не о бритье, – на свету стало заметно, что слева над верхней губой торчал недобритый, светлый одинокий ус. Не какой-то там волосок, а именно ус, то есть половина от настоящих усов. Ужасно захотелось по-матерински пожурить его за неаккуратность, но он выглядел таким измученным, что я не стала.
Его непонятная суета показалась мне подозрительной, хотя что я могла с этим поделать. Вопросы посыпались изо рта, как пули из пулеметной ленты, они и безвинного заставили бы почувствовать себя виноватым. Зачем ты пытаешься всучить мне эту машину? Разве нельзя, черт бы ее побрал, оставить ее где-нибудь на стоянке? И к чему такая спешка, совершенно непонятно, куда это ты вдруг собрался?
Отметила про себя с сухим удовлетворением, что, несмотря на все что мне довелось пережить за последнее время, я вполне способна на полноценную материнскую выволочку.
Сыну потребовалось некоторое время, чтобы взять себя в руки.
– Мама, – затараторил он. – Мама дорогая любимая мама я тебе уже говорил что должен на некоторое время уехать сколько раз можно повторять что это всего лишь командировка хорошая возможность ее нельзя упускать.
– У тебя какие-то проблемы? – перебила я сына, делая вид, что не замечаю его напора, он наверняка так и продолжал бы, пока не закончился бы воздух в легких. На это он ответил быстро и коротко «нет», а затем попытался возобновить наступление. Зачем мне эта машина, Просто постоит, Ах, постоит, Ну постоит ты поездишь, Ах вот как, Ну да.
– Не хочу показаться невежливой, – продолжила я. – Позволь только спросить, ее что, надо по головке гладить, эту машину, ее что, одну на улице нельзя оставить, взрослая вроде машина-то? – Слова вылетали изо рта, наполненные сарказмом и даже каким-то странным бюрократизмом, и на мгновение показалось, будто это говорю не я, а кто-то другой, какой-то хмурый мужик, который стоит у меня за спиной и выкрикивает слова совсем не того цвета и не той температуры, что надо.
– Стой, – сказал сын. – А теперь послушай!
И так тяжело, как гири, они ударили, эти слова, что я мгновенно замолчала и стала слушать.
– Мама. Я действительно уезжаю довольно надолго.
Успела сказать только: «Вот оно как», а он уже продолжил, даже, кажется, взмокнув при этом; вероятно, он не сможет приезжать, дорого и вообще, и плохо, если она будет стоять без присмотра, ведь могут начаться дорожные работы или беспорядки какие-нибудь, подростки напакостят или украдут что-то. Надо, чтобы приглядывали, а не то она пропадет тут совсем, бедолага, хорошая машина все-таки. И совсем необязательно тебе на ней ездить. Достаточно просто приглядывать.
– Вот оно что, – сказала я.
– Да и что там приглядывать, она сама по себе ведь не уедет, правда же? Делов-то.
– А что это у тебя за темные делишки, с кем ты опять связался?
На миг от раздражения он закатил глаза. Потом, к счастью, совладал с собой, и сказал тонко и сухо, что ни с кем, и посмотрел на улицу, где воздух был прозрачен и чист. И сразу все прояснилось, захотелось поскорее закончить этот разговор. Матери совершенно необязательно знать все подробности, она всегда должна пребывать в некотором волнении.
– Ты хороший мальчик, – сказала я и подумала, что в последнее время слишком часто повторяю эти слова, с чего бы вдруг. При этом подковырки тоже сыпались из меня, как из рога изобилия, слишком часто и какие-то слишком необычные.
– Да, я знаю, – продолжил сын если не устало, то как-то очень близко к тому. Его щеку пробороздили несколько морщин мучителя и мученика одновременно. Вдруг я осознала, что он ведь уже давно не подросток.
– Что с тобой происходит? – спросила я.
– Все в порядке, только вопрос с машиной надо решить поскорей.
– Ну ладно, а как Мирьям?
– Мирьям? – переспросил он, и было видно, что он совсем не слушает.
– Ну да, – пробормотала я и добавила еще, что это имя напоминает скорее название пряности, чем человечье имя.
– Ээ, что-что? – переспросил сын и почесал свой одинокий ус. Из почтовой щели в двери на пол прихожей высыпалась целая охапка рекламных газет, их приносили два раза в неделю в одно и то же время, ходил такой мужичонка, похожий на вечного, но печального бойскаута, который, со всей своей возвышенной отрешенностью, наверняка справился бы гораздо лучше с раздачей религиозной литературы. Сквозь шум прилившей к голове крови и хриплое дыхание сына я слышала, как невероятно тоскливо он вздохнул там, на лестнице, когда просовывал в почтовую щель очередную газетенку.
Пришла в себя от покашливания сына и спросила: ээ, что-что? В ответ сын тоже вопросительно-неопределенно заэкал, а затем после короткой паузы разговор снова перешел в полубодание или, точнее, полуфехтование. Ну так и что, Прости, задумалась, Да нет я спросил так что, Пожалуй именно так и спросил, Точнее я спросил ну так и что, Это уже в третий раз, Ну да, Да, Но почему, Что почему, Ну я же не знаю берешь ли ты машину или нет, Нет, Вот хрень, Не ругайся на меня, Ну да, Да, Ну может я как-то не так выразился, Определенно как-то не так, Что, Выразился, Ну да ну мам понимаешь, Что, Ну мне понимаешь очень-очень надо, Прям уж очень, Ну да очень, Вот оно что, Ну так можешь ты сказать возьмешь ты эту машину или нет.
– Да возьму, возьму, черт с тобой, – сказала я. – Вот заладил.
А потом я совершенно забыла, где и с кем нахожусь, и продолжила как ни в чем не бывало:
– Ладно, у тебя самого-то вообще как дела?
– Ты же уже спрашивала, – ответил он холодно.
– Да, но ответа я так и не услышала.
– Значит, так, – сказал он и стал рассказывать.
И рассказал, правда, по большей части, как я полагаю, наврал, но фильтровать все это почему-то не хотелось. Так вот сидела и слушала эту путаницу, тоскливо подробный и местами явно заранее продуманный рассказ о смене нескольких квартир, двух подружек, ни одна из которых не была готова к серьезным отношениям, о работе, которой так много, причем в самых разных областях, что всю ее и не переделать. Повествование о двух приятелях было более детальным, судя по всему, они были те еще мастаки обстряпывать дела, а потом, когда сын перешел к описаниям всяких невероятно изощренных комбинаций, как он сам выразился, я мгновенно провалилась в какое-то глухонемое состояние, напоминающее скорее некое путешествие, сначала смотрела на герань, трясущуюся в деревянной тюрьме на краю двора, затем мысленно перенеслась на берег залива Тееленлахти, и его словно отполированная водная гладь вынесла меня к железнодорожным путям, а они, в свою очередь, увели в сторону Мальми, Корсо и Керавы, однако там у меня защемило сердце, пришлось вырвать себя оттуда и вернуть к действительности, где сын все еще бубнил свой затянувшийся рапорт со скучными подробностями.
– И как сказал один мой добрый знакомый, было бы просто непростительно выбрасывать такую хорошую игрушку, мотор заменили, колеса вполне еще походят.
– Что? Кто?
Сын посмотрел на меня устало и произнес:
– Пойдем-ка лучше взглянем на машину. – И он стал натягивать шапку, непонятно даже, откуда она вдруг взялась у него в руке, насколько мне помнится, при входе ее не было, но вполне вероятно, что она просто каким-то странным образом оказалась точно такого же, то есть никакого, цвета, что и его волосы, то есть сына.
Я снова спросила:
– Что?
– Пойдем, посмотришь машину.
– Что?
– Пойдем, говорю, на машину посмотришь, – сказал он на сей раз тоном совершенно взрослого человека, так что, не будь он моим родным сыном, у меня волосы на голове буквально встали бы дыбом, как в плохих романах. Я взглянула на сына – он стоял передо мной, как раскрасневшаяся живая статуя. Выглянула на улицу – в окне дома напротив инженерша задернула занавески таким опереточным жестом, что было ясно наверняка: она уже давным-давно за нами шпионит.
Снова посмотрела на сына. Я практически ничего не знала о его жизни, но видела, что он сильно нервничает. Его ноги, зажатые в грязно-белые кроссовки, переминались с одной на другую и казались совсем тоненькими.
Ну как такому можно было отказать?
*
Так он и ушел, сын, заковылял по дорожке вдоль залива и вскоре превратился в маленький красный комочек посреди черно-белого пейзажа, а затем исчез в аккуратно вырезанной прорези Круглого дома. Сложно сказать, проявила я заботу о нем или нет, но самой себе я уж точно никак не помогла.