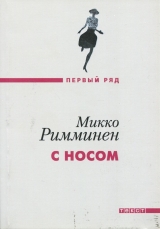
Текст книги "С носом"
Автор книги: Микко Римминен
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 15 страниц)
Когда я во главе всей этой вереницы обогнула фуру и вернулась на правую полосу, то для верности ехала не больше сорока. Суставы на пальцах побелели и, казалось, даже онемели на руле, я так крепко в него вцепилась, что дрожь из пальцев перешла на все тело, и, прежде всего, зачем-то в правую ногу. Машина чихала и дергалась, но двигалась вперед. По левой полосе мимо неслись машины всевозможных размеров. Смотреть в их сторону я не отваживалась, но как будто нутром чуяла, что мне грозят кулаком, показывают выставленные вверх средние пальцы и сыплют ругательствами.
А потом вдруг раз – и вот она, Керава. Притормозила на мокрой развязке и покатилась под горку в сторону светофора, с очередной вереницей машин позади себя.
Наверное, можно вообще почитать за чудо то, что я справилась с дорогой в Кераве, которую знала гораздо хуже, чем родной город, да и то только с пассажирского места. Все время ехала не по той полосе, преграждала кому-то путь, или мешалась под колесами, или чуть не врезалась в кого-то или во что-то. И чем дальше в город, тем больше я нервничала; случайно нажав на клаксон на руле, умудрилась так перепугать аккуратную, выстроенную по парам группу дошколят, переходивших дорогу, что они стали сновать туда-сюда и устроили настоящую кашу-малу; и под конец, уже поворачивая на знакомую парковку и с тоской глядя на родную сосну, возле которой не раз приходилось стоять, налетела днищем на камень или что-то вроде того.
Мотор издавал протяжное, заунывное бормотание, когда я пыталась пристроиться между двух больших мини-вэнов. Когда я решила повернуть ключ и заглушить мотор, поняла, что он уже и сам заглох. Прошло некоторое время, прежде чем я смогла привыкнуть к тому, что машины и шум разом исчезли. Ветер шумел в уплотнителях дверей, в моторе что-то щелкало, перед окном вдруг вырос подросток неказистого вида, он вел на поводке что-то маленькое, но, видно, живое. Я втянула голову в плечи.
Вылезла из машины. Хотелось бы сказать, что просто вылезла, и все, но ведь это, конечно, совсем не так было, не так просто, сначала пришлось перелезть на сторону пассажира, к его, пассажирской, двери, которая, стоило мне открыть ее, тут же ударилась о соседнюю машину. И такой нелепой казалась мне вся эта чехарда, что я сразу же подумала об Ирье, лишь бы только она ничего этого не видела.
Однако долго размышлять мне не пришлось: сразу же после того, как я протиснулась между машинами, на меня набросился этот жуткий тип.
– Мнэ нада снаряд! – кричал он и взбивал воздух руками, покрытыми такой густой черной шерстью, что казалось, будто он в варежках. Я стояла в полной растерянности посреди автостоянки в одном из дворов Керавы, на холодном ветру, и вряд ли в тот момент можно было сделать что-то еще, кроме как стоять, уставившись на орущего мужика, и пытаться унять дрожь, которая опять накинулась на ноги, словно где-то внизу, под ними, вдруг начались дорожные работы.
– Мнэ нада снаряд, – бушевал он. – Снаряд!
– Простите, что? – взвизгнула я. От этого взвизга на выходе остался только жалкий остаток, скукожившийся до шепота.
– Очен нада снаряд, – продолжил мужик. – Очэн нада.
В подтверждение своих слов он начертил руками в воздухе какие-то дуги, которые, вероятно, должны были означать то, что ему нужно, но для меня эта грамота была непостижима.
– Простите, но я ничего не понимаю, – сказала я.
– Снаряд, – сказал мужик и развел руками.
Мне стало страшно. Но на раздумья времени не было, поскольку он продолжал объяснять:
– Снаряд. У тэбя машина, у мэня нэт машина. Нэт, машина у мэня ест. У мэня ест машина, моя машина, но машина нэ едэт. Моя нэ едэт. Твая едэт, снаряд, дай снаряд.
– А-а-а, заряд, – догадалась я.
– Да-да. Снаряд.
– Заряд.
– Я так и говорил, снаряд, – сказал он и повторил свою ужасную историю про снаряд еще раз.
Прошло какое-то время, прежде чем рассвет понимания забрезжил где-то на горизонте моего сознания; самым сильным потрясением, конечно, была эта ужасная история со снарядом, но все остальное тоже проносилось в мозгу – сине-серая Керава, мокрые машины, доносящиеся откуда-то издалека детские голоса, странный и немного замшелый городской дух. Ноги подгибались, голова кружилась, в глазах щипало. Хотелось просто нажать какую-нибудь кнопку, чтобы все эти мучения враз закончились. Но вряд ли помогло бы, нет.
– У тэбя ест кабэл? – спросил мужик. Смотрела на него в полном недоумении, все смотрела и смотрела, боялась смотреть ему в глаза и направляла взгляд чуть в сторону, всматриваясь в плоскую крышу соседнего дома, на углу которой висел обрывок некогда розового воздушного шарика; весьма поблекший за те два года, которые он, по-видимому, тут болтается. Эти останки не могли вызвать во мне ничего, кроме меланхолии. Лить когда мужчина опять заговорил, я поняла, что снова заплутала в своих мыслях.
– Кабэл? Ест кабэл?
Искренне и с надеждой в голосе, а потом, наверное, для того, чтобы еще раз подчеркнуть ставшую уже вполне очевидной чистоту своих намерений, он карикатурно высоко поднял похожую на лезвие ножа бровь, и сложилось впечатление, будто эта одинокая полоска волос сдвинула всю его шевелюру на затылок. Я не знала, как быть, просто покачала головой и позволила своим ногам делать все, что им вздумается, – они нервно подергивались, сами собой.
Из-за того, что случилось утром, я уже почти полдня чувствовала себя виноватой, вдобавок к этому я хоть и начала понимать, что страшное создание требовало не снаряд, а всего-навсего заряд, меня все-таки успел пробить озноб перед возможным преступлением, которое наверняка зрело в его голове. И конечно, в этом не было его вины, Боже мой, он ведь всего лишь иностранец, что в этом такого, иностранец как иностранец, откуда-то со Средиземного моря, судя по цвету кожи и усам-кисточкам; сын, наверное, назвал бы его ассирийцем, это слово появилось в его словаре после того, как я однажды отчитала его за слишком предвзятые суждения.
Успела, конечно, подумать: неужели каким-то необъяснимым, неестественным образом я переняла от сына предубеждение к иностранцам, сразу приняв одного из них за разбойника, однако времени на угрызения совести не осталось, так как мужчина заговорил опять. Теперь я понимала его гораздо лучше, может, он тоже чувствовал себя неловко, обращаясь к незнакомой тетке, кто знает, но сейчас он проговорил все очень внятно, и стало ясно, что ему позарез надо «прикурить» аккумулятор. Я наконец осмелела и даже взглянула на него. Если бы не история со снарядом, я бы тотчас заметила, что у него вполне дружелюбное лицо с веселыми глазами, внушительным и самодовольно подрагивающим во время речи двойным щетинистым подбородком и смешными густыми усами, которые пританцовывали под носом, даже когда он ничего не говорил. И все же, несмотря на все эти обстоятельства, я испытала невероятное облегчение, когда первая капля дождя упала мне на лоб. В сгущающихся сумерках она, казалось, возникла из концентрированного вечернего света.
– Дождь начинается, – сказала я накрахмаленным голосом и добавила, что нет ни кабеля, ни других проводов, нет заряда, вообще ничего. Да и аккумулятор, судя по всему, никудышный. Потом осмелела и, правда, с некоторым усилием над собой изобразила на лице сожаление, затем пробормотала, что желаю его машине долгих лет и что мне надо идти, надо идти. И через долю секунды я уже бодро шагала к Ирьиному дому и ощущала, как на плечи давит что-то странно тяжелое, омерзительное, с гнильцой.
– Удачный дэн тэбе! – прокричал он вслед как-то душераздирающе весело.
Я и сама, конечно, хотела, чтобы день стал более удачным, а свои ответные пожелания промычала в шарф уже почти скрывшись за углом. Остановилась на минуту перевести дух. В песочнице сидел угрюмый и безразличный ко всему бутуз, но времени на него совсем не было, к тому же я вдруг вспомнила, что очень спешу на верхние этажи, малыш вряд ли читал местную прессу. Зато ее читал столкнувшийся со мной в дверях подъезда мужчина, в кепке и с мусорным ведром, – я это сразу поняла по красноватого цвета сомнению в его карих глазах. Он явно неохотно, а потому неуклюже придержал мне дверь, и я проскользнула у него под рукой, как будто именно такой способ проникновения в подъезд мог вызвать меньше всего подозрений. Проходя через вторую подъездную дверь, успела ощутить запах мускулистой сухой подмышки шестидесятилетнего мужчины, с достоинством прожившего свою жизнь, подмышки, которая больше не потеет, а потому не нуждается в дезодоранте.
Вскоре я стояла перед дверью Йокипалтио и уговаривала себя нажать кнопку звонка раньше, чем меня охватит паника. И я тут же запаниковала.
Дверь распахнулась практически сразу, оставив мне ровно столько времени, чтобы отскочить сантиметров на двадцать назад. Появилась Ирья. На голове у нее был платок, а в руках, прорезиненных перчатками, половая тряпка. Смотрела она отсутствующим взглядом человека, который всерьез занимается уборкой. Я попыталась понять по ее глазам, читала она статью в газете или нет, но не поняла. Она не плевалась огнем и не изрыгала злобу, однако и обниматься тоже не стала, просто сказала: а, это ты, привет.
– Проходи, – пригласила она. – Я как раз все, ну вот.
Потом она встряхнула тряпкой, которая издала еле слышный мокрый хлопок.
Наконец она сказала: как хорошо, что ты зашла. Я растерялась. Невозможно было уловить по этой ее реплике, куда она клонит, Ирья, действительно рада, или сдержанно-холодна, или вообще безразлична. Может, она старается соблюдать дистанцию? Или так отвергает? Или просто настороженна? Опасается меня? Что она думает? Что я мошенница и что-то вынюхиваю? Положение дел оставалось непонятным. Ирья махнула тряпкой на мою открытку, лежащую на маленьком столике в прихожей, и сказала все тем же непроницаемым голосом, по которому ничего нельзя было понять: до чего же мрачное у тебя чувство юмора.
– Ну, здравствуй, – сказала я наконец.
Потом она предложила мне пройти, прямо так, в ботинках и в верхней одежде, и ее приглашение было таким настойчивым, что я стала ожидать допроса или страшных ругательств и обвинений. И как только мы прошли в кухню, мне было велено сесть за стол, но сама Ирья за стол не села, а стала наливать воду в кофейник, но как-то непривычно медленно и долго, словно тянула пальцами изо рта жевательную резинку, оставив меня томиться от нетерпения на стуле. Больше всего мне хотелось просто попросить прощения, но поскольку я так и не поняла, что у нее на уме, у Ирьи, то стала смотреть по сторонам, нет ли где газеты, то есть видела она вообще статью или нет; но единственное печатное издание, которое мне удалось обнаружить, лежало прямо передо мной на обеденном столе и называлось «Час пик», что, конечно, в другой ситуации показалось бы просто забавным, однако в ту минуту мне было совсем не до смеха.
А потом у меня появился новый повод для беспокойства – в туалете неожиданно раздался как-то по-славянски журчащий звук слива воды, затем дверь распахнулась, и в кухне возник муж Ирьи. Он стоял и смотрел на меня, задумчиво и бородато, словно у него в заднем кармане было припрятано ужасное обвинение, или где их там обычно прячут. Я старалась прочесть по лицам обоих, какая у них сейчас дома обстановка, по-прежнему ли они в ссоре, или поссорились заново, или еще что, но я ничего не смогла понять, кроме того, что у меня в голове снова стали разгораться уже было потухшие угли сомнений.
И в тот момент, когда я уже готова была разрыдаться перед этим человеком, он вдруг сказал: а здравствуй, повернулся на пятках и вышел.
Из-под мышки у него торчала газета.
Я чуть было не ринулась за ним следом, хотелось схватить его, прижать к стене в прихожей, вырвать из-под мышки газету и разорвать ее в мелкие клочья или вообще съесть, как счастливый билет. Однако все это безумие осталось лишь в мыслях, мужчина ушел и сменился Ирьей, которая присела наконец напротив меня, обрамив голову привычным ореолом каповых часов. У нас, видимо, уже утвердилось свое определенное расположение в пространстве. Попыталась заглянуть ей в глаза, она смотрела на меня прямо и без тени смущения, только за одно это можно было ее полюбить, она словно из железа, эта женщина, что, конечно, в этот момент не могло не внушать страх, но я ничего не могла с этим поделать, мне оставалось только сидеть и лихорадочно пытаться сообразить, почему она вот так тихо сидит с грустной полуулыбкой и смотрит в окно, что ей известно, и известно ли что, и как у нее вообще дела, по-прежнему ли не ладятся, и не подлила ли я своими визитами масла в огонь. Но ни на один вопрос ответить тогда было невозможно, только в животе урчало, да кофеварка поддакивала, страшной газеты нигде не видать, может, она там, у мужа, и он как раз читает ее, лежа на диване, читает заметку про меня, со злобной ухмылкой на давно не бритом лице, отпуск ведь, и думает: вот сейчас я посмеюсь над этой бабой.
– Как дела? – спросила Ирья.
– Мне надо в туалет, – пропищала я.
Не говоря больше ни слова, вышла, открыла кран и спустила ровно столько воды, сколько требовалось для совершения гигиенической процедуры. Не удержалась, чтобы не взглянуть на свою физиономию, которая таращилась на меня из зеркала над раковиной: нос постепенно начал утрачивать свои гигантские размеры и как будто сдуваться, словно все его содержимое вдруг улетучилось, а на носовом хряще остались лишь пустые кожаные мешки. К тому же все, что прежде было покрасневшим и потемневшим, стало, по крайней мере с левой стороны, приобретать жуткий зеленоватый оттенок. Глаза по обе стороны этого отростка выглядели маленькими и нездешними. Когда-то их называли красивыми и чарующими, и ведь даже не так давно.
Припудрила на носу то, что можно было, и, встряхнув головой, попыталась если уж не избавиться от него наяву, так хотя бы прогнать мысли о нем. В зеркале отражались четыре крючка для полотенец на стене. На каждом крючке висело по полотенцу, и вместе они составляли красивую цветовую гамму пастельных тонов. Под крючками были подписи: «ЯЙРИ», «ОНЙЕР», «ЭЛЛАК» и «АННА». Стало вдруг ужасно неловко. Если я когда-нибудь и слышала имена детей Ирьи, то это пролетело мимо ушей. И как же они тут, посреди всего этого.
А потом смекнула, что неприлично в чужой ванне вот так торчать часами, наводя красоту, и вытолкнула себя обратно в коридор, напротив ванной была дверь в гостиную.
Шторы в комнате были задернуты, он лежал на диване, муж, с синим отсветом телевизора на щеках. У него на груди лежала газета, но сложно сказать, какая именно. Страшно было что-то предпринимать, когда толком ничего о нем не знаешь, о муже, хотя Ирья вряд ли взяла бы себе в мужья чудовище. Правда, всякое случается. И поскольку муж, казалось, не смотрел толком ни в телевизор, ни в газету, я в порыве какого-то истерического отчаяния начала вдруг, согнувшись и скукожившись, красться к нему. Умудрилась задеть пальму, которая стояла на специальном пьедестале в углу за дверью, пальма предательски закачала листьями и обиженно зашелестела.
– Огого, – прохрипел муж Ирьи.
Надо было срочно что-то сказать, что-нибудь успокаивающее, прошептать, например, убаюкивающим голосом его имя, но оно, как назло, выскочило из головы, это имя, хотя ведь только что прочла его под крючком для полотенец.
– Ирма, – послышалось из кухни.
– Алло! – почему-то отозвалась я, а затем, не отрывая глаз от груди ее мужа, неожиданно для себя шепотом спросила: – Что там?
В кухне стало тихо, в комнате – тихо, казалось, что во всей Кераве вдруг стало тихо, и когда я задумалась об этой тишине, то поняла, насколько тихо действительно было вокруг. Возникло чувство, что за мной внимательно наблюдают, наконец я осмелилась поднять глаза: он и вправду таращился, муж Ирьи, и даже имя его вспомнилось, Рейно, – Рейно пристально смотрел на меня, о выражении его глаз сказать что-то определенное было сложно, поскольку в комнате царил полумрак. И одновременно я почувствовала на себе еще чей-то взгляд, детей с фотографий на книжной полке, телевизора, пальмы и Ирьи с порога комнаты.
Я прошептала: хотела взглянуть, что показывают по телевизору, и сделала пару робких шагов, чтобы увидеть газету. Рейно смотрел на меня так, словно я вот-вот наброшусь на него, он даже весь сжался, когда я, вместо того чтобы подойти к телевизору, наклонилась к газете, какие-то спортивные новости там были, совсем другая газета, не знаю, стало мне от этого легче или тяжелее, ведь источник моей тревоги все еще не был обнаружен. Теперь, когда задача в гостиной выполнена, я внезапно ощутила полную беспомощность: непонятно, как выпутываться из этой ситуации.
И когда Ирья крикнула с кухни, что кофе готов, я промычала что-то неразборчивое и пулей вылетела из комнаты.
В кухне Ирья гремела чашками и блюдцами, точнее, даже не гремела, а звенела ими, словно колокольчиками. Она стояла, повернувшись к раковине, и я, улучив минутку, пробежалась взглядом по углам, столу, полкам и подоконнику, я подумала, что она не заметила, как я вошла. Хотелось спросить, как она, но почему-то не решилась. А потом Ирья сказала немного задумчиво: ну садись же, мил человек, и я, конечно, села, в действительности даже раньше, чем она добралась до конца своей реплики. Казалось, что теперь надо быть паинькой и во всем ее слушаться.
И как только я наконец-то устроилась на стуле более или менее удобно, я вдруг увидела ее, полочку для газет, серую с металлическим отливом, прикрепленную к стене возле шкафа с посудой. Она была едва видна из-за висящего рядом красно-белого клетчатого передника.
И вот я там сидела, за столом, в бьющем из окна грубом и бесцеремонном осеннем свете, посреди непрерывного, висящего в воздухе тиканья каповых часов и приглушенной возни Ирьи, я смотрела на стену и на передник, за которым пряталась полочка для газет.
Мне надо было как-то к ней пробраться.
Новый повод для беспокойства появился довольно быстро, когда Ирья вдруг спросила, не отрываясь от процесса перекладывания булочек, правда, она почему-то делала это крайне медленно:
– О чем это вы там шептались?
В ее тоне не было ничего особенного, но именно это больше всего и пугало: в ее голосе сквозило безразличие, которое сразу представилось мне этакой холодностью, как в фильмах, и возникло такое чувство, словно я, сама того не желая, влезла в любовный треугольник, причем в роли главной злодейки. Некоторое время я не в силах была ничего сказать, только звучно сглатывала, будто там, под кожей на шее, терлись друг о друга каменные жернова, а потом Ирья неожиданно повернулась и посмотрела мне прямо в глаза, как-то отрешенно, и, хотя через мгновение в уголках ее глаз уже появилась знакомая и еле заметная улыбка, сказать о том, читала она заметку или нет, было мучительно сложно. И в ожидании приговора больше не было сил тихо сидеть на месте, хотелось что-то сказать, наполнить щеки и рот словами и выплюнуть их наружу, объяснить, что я просто пыталась немного поговорить с ним, так, ни о чем, пообщаться, по-приятельски, а то этот отпуск и все такое, – хотелось сказать что-нибудь невзначай, однако не получилось, я вообще не сильна в этом. Я не сразу поняла, что именно эти слова еще днем произнес Виртанен, правда, расположены они тогда были немного в другом порядке.
Слова лились изо рта неудержимым потоком, и это было сродни стихийному бедствию. На самом деле хотелось просто удариться лбом об стол и завыть, признаться во всем, рассказать всю историю, сказать, что она неожиданно стала для меня очень важна, она, Ирья, не история, конечно, и уж во всяком случае, не газетная история, ее я, наоборот, хотела бы поскорее забыть, ее и еще много чего другого. Я просто беспокоилась за нее, за Ирью. И все это вертелось на языке, но выговорить я ничего не могла, только нервно теребила блестящую вишенку на новой скатерти и смотрела на Ирью, точнее, куда-то в ее сторону, не в глаза, а как бы мимо, в глаза смотреть я не осмеливалась, глядела на ее серебристую сережку в виде капли, на выцветший платок с розами, на все это, а также на огромную, похожую на палатку голубую домашнюю футболку, на которой красовался муми-тролль с облезшей от времени и стирок мордой.
Когда я наконец прекратила это жалкое барахтанье и очнулась, Ирья, уже сидевшая напротив меня за столом, сказала, что как это мило с моей стороны, и в ту же секунду я поняла: она ничего не знает. Она не читала газету. И вдруг посреди воцарившейся и почти уже тягостной тишины неожиданно раздался звонок в дверь.
Ирья прошептала извинения и зашлепала в своих эргономических сандалиях к входной двери, а я бросилась к газетнице и к висящему поверх нее переднику, словно там, в углу, стояло какое-то существо в костюме уборщицы, которое надо было срочно куда-нибудь спрятать. В спешке я стала перебирать газетную кучу прямо сквозь передник, но когда он, к счастью, упал на пол, путь к прессе оказался открыт. Газеты торчали одна поверх другой из всех трех карманов, и, потянув за одну газетенку, я умудрилась вывалить на пол все остальные, я стала лихорадочно сгребать их в кучу, чтобы запихнуть обратно. Это оказалось нелегко. Там были разные глянцевые, скользкие и гладкие журналы – более чем достаточно и для домохозяйки, и для юных натуралистов, неприкаянных подростков и автолюбителей, стоило бы спокойно и сосредоточенно перебрать их все, но последняя надежда на это рухнула, когда в дверях раздался неясный стук и послышалась чья-то невнятная речь.
Однако теперь стало очевидно, что нужной газеты на полочке не было.
Еще раз оглядела кухню. Мне казалось, что мой взгляд прокатился по ней, как шары по дорожке в кегельбане. Из коридора в висок ударил поток воздуха, принеся с собой голоса, скрип двери, непонятный гул, шум телевизора в гостиной и шепот у входной двери.
Потом, протаращившись долгих две секунды на торчавшую из-под клетчатого полотенца свежеиспеченную булку, что лежала возле раковины, я вдруг заметила ее. Она валялась на полу под обеденным столом или, точнее, прямо под моим стулом, вероятно, упала, когда Ирья убиралась, не думаю, что она сама ее туда бросила, Ирья ведь была не из тех, кто бросает газеты на пол, но именно там она и лежала, газета, та самая газета, в этом не было никаких сомнений, на обложке все та же, похожая на плавленый сырок рожа премьер-министра, что была на столе у Виртанена. С тех пор, казалось, прошла уйма времени. Я бросилась под стол и потянулась к светящемуся там лицу и скрытым под ним, грозящим мне неприятностям, и уже схватила было газету за край, как вдруг услышала голос Ирьи из коридора. Она звала меня.
Застыв на месте, я совершенно четко понимала, что именно застывать мне как раз не следует. Однако двинуться я тоже не могла, просто стояла там под столом на коленях с задравшейся юбкой и старалась не дышать, ну дитя дитем или дура дурой. В ушах что-то клокотало, и красный шум, казалось, давил на глаза. Коленям было больно.
– Ирма! – снова послышалось из коридора.
Не придумав ничего более умного, я сунула газету под кофту. Стала потихоньку выползать из-под стола, пальто и юбка усиленно сопротивлялись, задираясь все выше и выше, сердце колотилось, оно, конечно, все время стучало, но сейчас за его ударами сложно было расслышать что-либо еще, только раскатистый грохот в висках. Не то чтобы их особенно хотелось слышать, эти другие звуки – протяжный треск рвущихся колготок, присвист собственного дыхания, – но менее всего, конечно, хотелось слышать приближающиеся шаги, этот звук должен раздаваться только вовремя.
И когда этот звук затих, а вместо него послышался грудной смех Ирьи, у меня возникло ясное осознание того, что возможные пути к отступлению закрыты: не остается ничего другого, как продолжать позировать попой кверху.
По идее, рассмейся – и из этой ситуации можно было бы благополучно выйти, но было не до смеха. Захотелось сморозить что-то вроде: «Ну что ты, это совсем не то, что ты подумала». Но изо рта вырывались лишь сопение и посвистывание. И когда в конце концов мне удалось выдавить из себя нечто членораздельное, мое бормотание, пропущенное сквозь вощеную ткань скатерти означало, что у меня якобы сережка упала, но потом по какой-то совершенно необъяснимой причине изменила показания и промямлила, что это не сережка, а носовой платок, после чего вылезать из-под стола совсем расхотелось.
– Что ты сказала? – спросила Ирья откуда-то оттуда и как будто хихикнула.
– Что? – переспросила я, издав нечто похожее то ли на вздох, то ли на стон, и стала выкарабкиваться, хотя больше всего мне хотелось упасть лицом прямо на чистый пол. Пальцы скользили по линолеуму, издавая неприятный скрип, газета под кофтой шуршала, колготки трещали, и опять ей, Ирье, стало смешно, а вот я не испытывала ничего, кроме ужаса. Стала сдавать задом вперед, потом кое-как встала на ноги, да так и осталась стоять, а она, Ирья, была прямо передо мной и явно старалась сделать вид, что все так, как и должно быть.
Я выпрямилась насколько смогла, засунула руки в карманы пальто и, сжав их в этом укрытии в кулаки, сказала:
– Носовой платок. Он. Платок. Он упал.
Ирья смотрела на меня, склонив голову набок, потом угукнула и сняла с моего рукава грязинку величиной с булавочную головку. И сказала как-то печально, словно оправдываясь, что пол не очень чистый:
– Ну да ладно. – И затем добавила: – Там Ялканены пришли.
Поначалу я не смогла сказать ничего, кроме «ну да». Затем в голове пронеслось, что с ними ведь то же самое, их ведь я тоже обманывала, и, может быть, там уже целый комитет создан для выяснения обстоятельств, вот же она сидит на кухне, та самая обманщица, давайте ее допросим. С этими мыслями я покорно проследовала в прихожую, ничего другого просто не оставалось, да я бы ни на что и не осмелилась; из телевизионно-голубого проема гостиной доносился доверительный голос ведущей новостей, я постаралась задержаться в коридоре, рассматривая какой-то миниатюрный, размером с почтовую марку, журнал про графику: на обложке была изображена то ли груша, то ли череп, сложно сказать; и хотя я успела подумать, что в любом случае речь идет об искусстве, будь это грушевый череп или черепная груша – сейчас все возможно, однако остаться и провести более обстоятельный анализ я не могла, как бы мне ни хотелось застыть на месте и продолжить развивать всякие дурацкие идеи.
Вот уже и входная дверь, прямо тут, за углом, я оказалась там буквально через секунду, забыв на миг про голову и позволив действовать ногам. Все четверо смотрели на меня, в первую очередь, конечно, Ирья, потом в коридор протиснулись и Ялканены, все выглядели очень озабоченными. Я не сразу поняла, что именно мой испуганный вид стал причиной их беспокойства.
Единственный, кто, казалось, смотрел на все это свысока, был младенец, сидевший на руках у матери. Он удивленно рассматривал блестящие украшения на абажуре под потолком и улыбался, как-то криво и как будто самому себе.
– А, здрасьте, – еле слышно пробормотала я.
– Здрасьте, – сказали взрослые Ялканены почти в один голос и, склонив головы набок, продолжили меня рассматривать. Я попыталась прочесть по их лицам, что же думают они, читали ли они заметку в газете, но их лица были непроницаемы, Ялканены просто стояли и смотрели. Их дочка вдруг запищала, потом закричала и, наконец, завыла, и все эти проявления чувств достигали по одному только уровню громкости такой мощи, что все мои внутренние переживания померкли и я не без восхищения подумала: ну надо же, сколько голоса умещается в таком крошечном существе.
Наконец Ирья решила нарушить затянувшуюся паузу и сказала:
– Ой-ой-ой, что же это ее так расстроило?
– Ой-ой-ой, – сказала и я, но едва слышно.
Мари, не обращая внимания на мое мычание, заметила:
– Не пора ли сменить подгузник нашей маленькой какашенции?
Она произнесла это с такой теплотой, на которую взрослый человек способен только в одном состоянии: будучи родителем. Мне в тот же миг захотелось погрузиться в свои собственные, скудные, но родительские воспоминания о какашках, однако сделать этого я так и не успела, потому что Ялканен-отец сказал: «Угу»; и хотя его ответ не имел с точки зрения смысловой наполненности абсолютно никакого реального веса, определенный импульс в этом простом междометии все-таки был.
Их намерение уйти вначале даже испугало меня, сама не знаю почему, возможно, потому, что я не понимала, зачем они вообще пришли и стояли там на лестничной площадке, или, наверно, просто потому, что они были так немногословны, эти Ялканены, однако вряд ли можно было их в этом обвинять, разве не имели они права удивиться тому, что незнакомая тетка, проводящая подозрительные опросы, вдруг объявляется в прихожей их соседей и ведет себя весьма и весьма странно. Ирья поспешила мне на помощь и стала объяснять, что у них сегодня праздник, и мне потребовалось какое-то время, чтобы понять, о чем она говорит и у кого праздник, наконец после нескольких глухих ударов сердца до меня дошло, что это у них, у Ялканенов праздник, и Ирья добавила: мы тут подумали, что, может быть, ты тоже не прочь к ним заглянуть, – ощущение было такое, словно у меня в голове порвалась вдруг какая-то жилка и все тело охватил слепой, всепоглощающий детский ужас.
Я посмотрела на них на всех, на каждого в отдельности, на Ирью, которая все еще была в платке и с тряпкой в руках, день уборки – это день уборки, что бы ни случилось, на Мари и ее мужа, склонивших головы друг к другу, словно голубки, на девочку, которая непонятным образом висела как бы между родителями, хотя на самом деле сидела только на руках у матери; ее плач заметно ослабел и превратился в тонкий писк, но по лицу было видно, что по-прежнему что-то не так, и мой нос, несмотря на всю его бесформенность, безошибочно чуял, с чем это связано.
Уже давно пора было что-то сказать, и, похоже, на этот раз особых сложностей с порождением речи у меня не возникло, слова ползли изо рта липкой, тягучей лентой карамели, сын играл с такой лентой в детстве, я бы ни за что не позволила, но его отец тайком приносил эту сладкую дрянь, невыносимо было смотреть на кривлянье ребенка; не знаю, как он это делал, но ему всегда удавалась запихнуть в себя невообразимое количество этой отравы, которую он потом театрально вытаскивал изо рта или из носа целыми километрами, как иногда казалось. Так вот, словесный поток вдруг зажурчал, этакое смахивающее на плач бормотание, в котором плачевная составляющая, я очень надеялась, осталась незамеченной, хотя, конечно, вряд ли, потому что именно на плач это больше всего и походило, на плач, на причитания, на стон сердца, да как же вы, люди добрые, да какие же вы добрые, да разве же я могу, ох-ох, разве я осмелюсь, чужой человек, вы уж простите, но не могу, не могу, Боже ж ты мой, да зачем же вы, добрые, добрые люди. И вначале они, естественно, ошарашенно на меня смотрели, а потом даже стали утешать, мы стояли в дверях и тянули и без того растянутые гласные, этакий словообмен с завыванием, который люди из вежливости готовы продолжать до бесконечности, будто бы торгуясь, но только наоборот.








