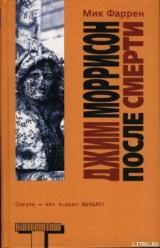
Текст книги "Джим Моррисон после смерти"
Автор книги: Мик Фаррен
Жанр:
Контркультура
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 35 страниц)
Мик Фаррен
Джим Моррисон после смерти
Эту книгу я посвящаю Феликсу Денису, капитану «Эспаньолы», который столько раз спешил мне на помощь – и всегда приходил вовремя.
Люди вообще непоследовательны, только мёртвые твёрдо придерживаются своих позиции.
Олдос Хаксли
ГЛАВА 1.
Что ни говори, народ вечно заморачивается на смерть.
Эйми Макферсон стояла у себя на веранде и злобно оглядывала Небеса. Наверное, в двухмиллионный раз после того, как она умерла, её ярость на Господа Бога – как он с ней поступил, как он её предал – вновь достигла критической точки. Да как Он смеет, если только Он вообще существует, так с ней обходиться?! Низкий, бесчестный и вероломный! Она так хорошо потрудилась во славу Его, она сделала столько всего. Она избегала соблазнов и искушений, не потворствовала своим слабостям, жила в воздержании и усмиряла плоть. Она стольким пожертвовала, и все – ради Него, с её точки зрения, Он её предал – бесстыдно и подло. Вся её жизнь строилась на беззаветной вере в то, что она полагала единственной и абсолютной истиной. После смерти ей были обещаны райские куши. Он ей обещал. А потом изменил своему слову. Когда Эйми Макферсон оказалась в Мире Ином, она обнаружила, что никто её тут не встречает, не раскрывает божественные объятия – что если ей нужен Небесный Рай, она должна создавать его самостоятельно. Бог не явился к ней во всей славе своей, даже не заглянул на чашку чаю, и она начала сомневаться, а есть ли Он вообще.
Но даже если Он есть, Он, видимо, убеждён, что этот нематериальный набор «Сделай сам» – вполне достаточная награда за жизнь, целиком отданную любви и беззаветной преданности, жизнь, исполненную религиозного рвения, истовых молитв, восхвалений и униженного смирения. Он выдал ей чистый кусок небесного пространства, а уж заполнять его надо было самой. После всех обещаний и чаяний Небеса, которые она получила или восприняла, возникли исключительно из её собственного воображения, без всякой помощи и поддержки с Его стороны. Он даже не позаботился выдать ей руководство по сборке и эксплуатации.
Эйми Макферсон стояла у себя на веранде и злобно оглядывала Небеса. Всё это – только её творение. Целиком и полностью. Вообще-то, наверное, это должно быть приятно, хотя бы по той причине, что творец должен гордиться споим творением. Называется: удовлетворение от выполненной работы. Однако гордость своим творением, равно как и удовлетворение от выполненной работы, меркли перед предательством Бога. Образ этих Небес она вырвала чуть ли не с мясом, ценой немалых душевных усилий, из самых глубин своего воображения, и воплотить этот образ вовне тоже стоило сил немалых. Там, на Земле, с той минуты, когда она, укрепившись в вере, твёрдо решила посвятить всю себя Господу Богу, воображение стало ей вроде как и ни к чему, во всяком случае, в нём не было надобности, и вот теперь оказалось, что оно захирело и атрофировалось. Создавать Небеса с нуля – работа трудная и неприятная, тем более что Эйми не думала, что ей вообще придётся работать. Ведь ей обещали покой, утешение и негу. Небеса должны были быть готовы к её появлению – новенькие, дочиста вымытые Небеса, накрахмаленные и взбитые – что-то вроде некоего метафизического пятизвёздочного отеля, где за стойкой регистрации её встретит святой Пётр, ангелы – коридорные проводят её в номер, а там, в номере, её будут ждать домашние зверюшки, всё, что были у неё на Земле: они будут смотреть умными преданными глазами и вилять хвостами, а на подушке будут лежать мятные леденцы – в знак того, что ей здесь рады.
Даже общая концепция оформления – и та далась ей с большим трудом. Поначалу она взяла за основу работы художника Максфилда Перриша, вкупе с диснеевской «Фантазией». Такое заимствование при её поразительно никудышной памяти вылилось в буйство ненатуральных и резких мультяшных цветов: озеро цвета винного индиго, ослепительный ультрамарин безоблачного неба, тёмно-зелёные кипарисы и сосны на мысе на том берегу. Горы цвета сливочного мороженого вдалеке и ненатурально фиолетовая трава, утыканная ромашками идеально правильной формы – выдержанные в рисованном стиле диснеевской школы, – смотрелись совершенно неправдоподобно, не говоря уж обо всём остальном. Эйми пришлось признать, что выступы мрамора в золотых прожилках напоминают какое-то странное, малосъедобное блюдо из тёртого сыра. И это – её недоделка, её недочёт. Похоже, ей просто было не дано создавать минералы и камни более-менее аутентичного вида. Ведь есть же люди, которые просто физически не в состоянии нарисовать руку. Вот как раз такой случай. Воспоминания же о Максфилде Перрише вылились в небольшой неоклассический храм на краю скалистого мыса, что вдавался в озеро ярдах в двухстах оттого места; где Эйми сейчас стояла. Перриш также вдохновил её на создание полудюжины юных девственниц в прозрачных струящихся одеяниях. Девы – такие беспечные юные феи – кружились, взявшись за руки, в нескончаемом хороводе с базовой хореографией в интерпретативной традиции Айседоры Дункан. Дисней, с другой стороны, явно ещё сказался в кроликах, и оленятах, и беззаботных весёлых птичках, что порхали в безоблачном небе и выпевали сладенькие мелодии сентиментальных попсовых песенок тридцатых, сороковых и пятидесятых годов, пока Эйми стояла па веранде и озирала своё Творение.
Как будто почувствовав, нет, разумеется, не о чём она думает, а так – общее настроение, одна птичка спустилась и зависла дюймах в восемнадцати над её головой, приветливо улыбаясь и чирикая разрозненные фрагменты из «Over the Rainbow». Эйми вдруг разъярилась и замахала руками, отгоняя не в меру общительную пичугу:
– Кыш отсюда, ты, глупая тварь! Пошла к чёрту!
Птичка ловко увернулась от руки Эйми, однако же не улетела. Поднялась ещё дюймов на шесть и снова зависла в воздухе, насвистывая припев из «Swinging on a Star». На этот раз Эйми в буквальном смысле набросилась на неё с кулаками и, как ни странно, попала. Удар застал птичку врасплох. Её отбросило назад, а над головой завертелись – уж совершенно в мультяшном стиле – мелкие звёздочки, солнышки и планеты. Эйми невесело усмехнулась:
– Будешь знать, как ко мне приставать, летучий грызун.
Птичка встряхнулась и потеряла при этом три пёрышка, которые, медленно кружась в воздухе, опустились на веранду. Потом взглянула на Эйми с немым укором и улетела прочь. Эйми со злобой смотрела ей вслед.
– Надо вас всех стереть на фиг и начать все по новой.
В такие минуты сомнений, тягостных раздумий, тревог и уныния Эйми корила и даже ругала себя зато, что состряпала эти дурацкие Небеса, напоминающие корявенький и неумелый мультик с плохой прорисовкой на чёрном бархате, под саундтрек из «Белоснежки и семи гномов», только с примесью расслабляющих нью-эйджевых наигрышей. В такие минуты было несложно поверить, что даже её собственные творения – включая миленьких певчих птичек – если пока ещё и не обернулись против неё, то уже втайне смеются над её дерзкими, честолюбивыми устремлениями. К счастью, когда обнаружилось, что прозак и валиум здесь возникают буквально из воздуха, стоит только про них подумать, у Эйми появилась возможность контролировать длительность и частоту этих приступов меланхолии; теперь и само сотворение Небес и созерцание, так сказать, законченного продукта уже не вгоняли её в депрессию.
Сначала она ещё верила, что Бог придёт к ней, чтобы поздравить, когда она завершит работу над сотворением Небес – к обоюдному удовлетворению: и Его и Её. Но эта вера уже очень скоро зачахла и тихо почила в бозе, когда Господь Бог так и не соизволил явиться к ей во всей своей славе, а ведь она так ждала, так ждала. Когда не случилось ни лучезарной радуги, ни столпа огня, ни даже какого-нибудь завалящего голубя, её отношение в корне изменилось и решимость окрепла. Если Бог так бесчестно её оставил, она Его тоже отвергнет. Она ему не нужна, значит, и Он ей не нужен. Она будет и дальше творить свои Небеса, все больше распространяя их в пространстве, и они будут открыты для всех, кто придёт. Это будут настоящие Небеса, как раз такие, к каким стремится всякая праведная христианская душа – именно то, чего означенная душа ждёт и что ей действительно необходимо после травмы смерти и её непосредственных последствий, – до последнего золотого луча, струящегося водопада и верного колли. С той только разницей, что вместо Бога здесь будет она сама. Эйми Макферсон. Она станет сосредоточием совокупных восхвалений и благоговейного обожания; она станет счастливым реципиентом хвалебных гимнов и славословий. Она, разумеется, понимала, что для этого надо будет кое-что подкорректировать, и особенно в сознании мужиков, чтобы они её приняли в качестве легитимного божества. С другой стороны, она может сразу рассчитывать на беззаветную преданность всех феминисток, утверждающих, что Бог был женщиной. Она отдавала себе отчёт, что найдутся и совершенно упёртые фундаменталисты, которые даже в смерти не примут свершившийся факт и не признают законной её божественность. Но для таких, самых упрямых, всегда есть Голгофа и Преисподняя.
При жизни сама эта мысль – обыграть Бога в его игре – была бы предельным богохульством. Здесь, в жизни загробной, они с Богом вроде как на равных, во всяком случае, такое складывалось ощущение, а концепция богохульства предполагает значительную дистанцию между хулящим и хулимым. В конце концов, богохульство – это смертный грех, а Эйми, поскольку она умерла, к смертным уже не относится. Разумеется, если Господь всё же заметит её старания и начнёт возражать, она будет счастлива пасть перед Ним на колени. Если Он ей назначит гореть в вечном пламени или придумает какую-то особую кару за её дерзость и самонадеянность, значит, так тому и быть. Во всяком случае, она хоть будет знать, что Он обратил на неё внимание. Её планы не были столь грандиозными поначалу. Она решила, что её Небеса будут скромным, но при этом привилегированным местом, что-то вроде закрытого райского клуба, для неё и для парочки-другой миллионов верующих, которым захочется здесь поселиться. К несчастью, Эйми Макферсон страдала манией величия в тяжёлой форме и пребывала а полной уверенности и собственной непогрешимости – в этом она была схожа с упёртыми проповедниками-евангелистами – и никогда не умела вовремя остановиться. Идея о собственных Небесах прирастала и множилась, пока не пришла к логическому завершению: Эйми решила, что загробная жизнь устроена в корне неправильно и нужна Священная Миссия, может быть, даже Крестовый Поход, чтобы в принудительном порядке реконструировать Мир Иной, согласно её представлениям о правильных Небесах. Только тогда вновь умершие могут быть уверены, что библейские обещания и предсказания – не пустой звук, что все обязательства и соглашения будут выполнены, пусть даже для этого ей придётся занять место отсутствующего Всевышнего. К несчастью, её более чем скромные творческие способности совершенно не подходили под столь масштабный замысел. Какое-то время, когда они с Сэмпл составляли единое существо – хоть постоянно ссорились, но все равно кое-как уживались в одной мнимой плоти, – у них получалось работать вместе. Эйми размечала пространство; Сэмпл дорабатывала детали. Однако Сэмпл быстро вошла во вкус и начала давать выход своей извращённой чувственности, упрямой гордыне и извращённой, опять же, тяге ко всему нездоровому, мерзкому и тошнотворному. Небеса Эйми начали покрываться отдельными зонами искажений, пятнами иррационального, причём среди них было немало таких, о которых и говорить-то противно, не то что на это смотреть, и их разделение – двух сестёр, Эйми и Сэмпл, – сделалось неизбежным.
Они разделились. Благодаря уникальному, ими же и придуманному бинарному расщеплению, они разорвали своё единство – и вместо одной стало две. Потеряв половину своего существа, Эйми нашла утешение в своей одержимости: переделать свой личный Рай во всеобщие Небеса, или во Все Небеса, как она называла это про себя. Без этих Всенебес она так и останется такой же, как все, – ещё одной бывшей смертной в придуманном мире, состряпанном из иллюзий и воображаемых удовольствий. Если ей не удастся склонить остальных к своей точке зрения, тогда чем она отличается от того идиота, кто объявил себя Моисеем, устроил этот свой квазисинемаскоп с широкоэкранными постановками на библейские темы и проводит свою вечность в праведном гневе, карая грешников собственного изготовления, снова и снова, и мир без конца, навсегда, аминь. Хотя Эйми никогда не призналась бы в этом даже себе самой, удаление сестры-половины из исходной шизоидной личности помогло ей избавиться от значительной части внутренних ограничении, что сдерживали её раньше. Эйми вдруг обнаружила, что после ухода Сэмпл её собственный маниакальный энтузиазм и одержимость сделались ещё более маниакальными и безоглядными, то есть практически неудержимыми. Но и депрессии стали более тяжкими и затяжными. Расставшись со своей явно опасной тёмной половиной, Эйми сама стала опаснее и темнее.
После раскола сестры почти не общались друг с другом, хотя постоянно друг друга чувствовали – эта эмпатия была такой сильной, что подчас становилось жутко. Сэмпл проводила всё время в сомнительных развлечениях в своём личном пространстве, которое создала, отделившись от Эйми. Эйми ни разу не была у сестры, но она хорошо представляла себе, на что это похоже: на Ад, как он видится Сэмпл. На самом деле все это как нельзя лучше согласовывалось с планами Эйми. Её Небеса, и для равновесия – равнопротивоположный Ад, созданный Сэмпл; такая вот ньютоновская теология. Впрочем, это отнюдь не значило, что она собиралась наведаться в гости к сестре.
Разделение и последующий разъезд также не помешали Сэмпл продолжать издеваться над Эйми, но теперь – издалека. Издевательства были изобретательные и явно продуманные заранее. Сестрица прикалывалась над Эйми с завидной регулярностью. Такие «невинные» шалости вроде зловещего чёрного вертолёта, что грохотал в лучезарно лазурном небе Эйми, разгоняя пушистые облака своим буйным пропеллером, или стаи, опять же, зловещих и хищных птиц: рассевшись на кипарисах, они смотрели на Эйми своими холодными злыми глазами в стиле Альфреда Хичкока[1]1
Имеется в виду знаменитый, уже ставший классикой жанра фильм Альфреда Хичкока «Птицы», сняты по рассказу Дафны Дю-морье. – Здесь и далее примеч. пер.
[Закрыть], а потом вдруг снимались все разом и улетали на ту сторону заката. Сэмпл также взяла в привычку периодически умыкать с Небес херувимчика или ангела – для своих грязных забав. И хотя Эйми, понятное дело, этого не одобряла, её не особо расстраивали вышеозначенные похищения. В конце концов, ангелов всегда можно заменить.
Однако в данный конкретный момент у Эйми были заботы и поважнее, чем Сэмпл с её развлекалочками. Её грандиозные планы как-то очень уж не спешили воплощаться в жизнь, и Эйми пришлось признать, что ей просто-напросто не хватает воображения, чтобы вызвать к реальности должным образом бесконечный Небесный Свод. Ей нужен помощник. Микеланджело, который распишет её Сикстинскую капеллу. Ей нужен мечтатель и выдумщик, который проникнется её идеей и воплотит её видения, он поможет ей сотворить Небеса такими, какими им следует быть. Какое-то время она подумывала, не переговорить ли с подложным Моисеем: масштабы его постановок, достаточно сложных в техническом исполнении, явно указывали на присутствие некоей доли таланта. И если, опять же, судить по его спектаклям, он был законченным психом. Но Эйми знала: даже при том, что в её распоряжении – целая вечность, она всё равно не сумеет навязать свою волю этому Моисею, Его безумие было слишком упёртым. На самом деле ей нужен художник, живописец или поэт, умерший совсем недавно и ещё не успевший здесь освоиться – при полном отсутствии предвзятого мнения и открытый для предложений. Иными словами, ей нужна личность творческая и при этом легко поддающаяся постороннему влиянию.
Как это часто бывало в последнее время, мысли Эйми сами собой обратились к Сэмпл. Эйми знала, что если она хочет заполучить такого вот творческого подрядчика, без помощи Сэмпл ей не обойтись. Сперва художника надо найти. Он должен пребывать в растерянности и неведении, и надо успеть воспользоваться этой растерянностью и неведением – надо взять его тёпленьким, пока у него не появятся самостоятельные предпочтения и склонности. Эйми понимала, что ей самой с этой задачей не справиться. Тут нужны хитрость и неисчерпаемое, соблазнительное обаяние – то есть то, чего не было у самой Эйми, но зато было в избытке у Сэмпл. Именно Сэмпл придётся найти для неё художника или поэта и заманить его на Небеса, а убедить Сэмпл взяться за это дело будет очень непросто, если Эйми не сможет придумать, как воззвать к её врождённой порочности и извращённости.
Эйми повернулась спиной к своим никудышным, прямо сказать, Небесам и пошла в дом. Перед мысленным взором маячил непрошеный образ. Молодой человек с тёмными кудрями и чувственным ртом неспешно шагал по какой-то пыльной дороге, засунув большие пальцы обеих рук за ремень нарциссистских кожаных штанов в обтяжку; он шёл себе по дороге, взбивая пыль каблуками поношенных армейских ботинок, и лениво покуривал сигарету. Это явно не могло иметь ничего общего с замыслом Эйми, и она поспешила обрушить на бессмысленное видение громы и молнии, пока оно не укрепилось у неё в голове. Молодой человек пошатнулся, словно и вправду громом поражённый, и спешно покинул её сознание. Шуточка вполне в духе Сэмпл, надо будет её расспросить относительно этого непрошеного вторжения; но в глубине души Эйми знала, что сестра тут ни при чём. Этот странный молодой человек был сам по себе. Оставалось только надеяться, что его появление не предвещает дальнейших осложнений.
* * *
Джим Моррисон тряхнул головой, чтобы там хоть немножечко прояснилось. Ему что, по башке дали кувалдой? Мозги проебли – в буквальном смысле? Или его молнией поразило? Сознание как будто рассыпалось на куски, а на месте проломов образовались пустоты. Поиск данных прервался без предупреждения. Когда-то и где-то кто-то спалил его память, хотя он не помнил, где и когда. Обрывочный образ; солнце, пыль, какой-то унылый просёлок, вялые, разморённые мысли о кружке холодного пива, – но он только мелькнул, этот образ, и сразу угас, не дав ни малейшей наводки ни что случилось, ни что было прежде. В общем, мозги отключились. О себе он знал только, что когда-то был поэтом и что – во всяком случае, первое время – ему придётся жить как бы в застывшем мгновении, где даже самое обыкновенное и повседневное кажется странным и незнакомым, где реальность вывернута наизнанку и где ты зависишь только от доброжелательности толпы, проходящей мимо.
Среди того очень немногого, в чём Джим Моррисон был абсолютно уверен, было и твёрдое знание, что его настоящая смерть случилась где-то ещё, а не на той пыльной дороге. Все воспоминания об истинной смерти представляли собой мешанину бессвязных, но назойливо повторяющихся картин: тёплая вода, тесная, но уютная ванна и город Париж. Всё остальное – бесполезный набор деталей, двигательных навыков и разрозненных образов. И ещё – он никак не мог вспомнить, как его зовут. Имя вертелось в голове, по каждый раз ускользало. Будто нарочно. Он умел читать и писать, он помнил названия книг и песен. Он умел натянуть на себя штаны и застегнуть молнию. Всё остальное – разбросанные фрагменты картинки – паззла. Страх, злость и безрадостная безысходность, причём как свои, так и чужие.
Какая-то женщина пробежала мимо, её волосы горели в огне, шлейф дыма тянулся за ней по промозглому бетонированному шоссе, задушенному испуганными машинами, в обрамлении высохших пальм, а зловещее красное солнце на горизонте, затянутом дымкой, пыталось пробить этот дым лучами. Слепые кони тонули и синевато-сером океане, а индейцы умирали в песках стерильной пустыни.
Он очень надеялся, что эти провалы в памяти – явление временное. Может быть, когда память к нему вернётся, ему будет плохо и больно, но это всё-таки его память, и он хотел, чтобы она вернулась. Он был настроен оптимистично.
Она вернётся. Когда-нибудь. Обязательно.
Что-то подсказывало ему – вероятно, смутное, интуитивное воспоминание о близком знакомстве с ПРОДВИНУТОЙ и неоднократной интоксикацией, её ещё можно назвать упоением, – что и в земной своей жизни он частенько пребывал в полной отключке и страдал от провалов в памяти, так что можно было с уверенностью предположить, что его теперешнее состояние – просто космическая вариация привычного экс-существования. А если так, то винить надо только себя. Когда он понял, что умер – умер таким молодым, – первым делом подумал: только бы эта загробная жизнь не была повторением тех же пьяных, дурманных, угарных и хаотичных дней. Он сделает всё, чтобы этого избежать. И вот, насколько можно судить, к стыду его, решимость оказалась не слишком твёрдой.
Ладно, ближе к текущим конкретным фактам.
А текущий конкретный факт выражался в следующем: Джим неожиданно оказался на вечеринке, а вечеринок он в своей жизни повидал немало, так что сразу понял, это – не обычное сборище с целью весело провести время. Джим понятия не имел, как он здесь очутился и почему, но ему сразу же стало ясно, что в действе а-ля Сесил Б. Де Милль[2]2
Де Милль, Сесиль Блаунт (1881 – 1959). Знаменитый американский режиссёр, продюсер и драматург. Один из создателей Голливуда. Все его работы пронизаны эстетикой викторианского театра.
[Закрыть], где смешались стопы и вопли, танцевальные ритмы и утончённый порок, участвуют люди, которые, как и он сам, попали сюда непонятно как и, как и он сам, абсолютно растеряны. В глазах большинства собравшихся он различал характерную, очевидную пустоту – отупелую безучастность. Они тоже пожертвовали своей памятью и сознанием ради этого остановившегося мгновения; для них это было мгновение звенящего резонанса и безудержного порыва, насыщенный миг волос и языков, пота и плоти, губ и текучести. И всё это – на фоне монументального задника в виде неспешно извергающегося вулкана, что как будто в замедленной съёмке истекает потоками раскалённой лавы, тягучими языками живых адских огней; потоки и языки весьма живописно струятся по чёрным склонам. Лица вокруг вспыхивают отражениями серного пламени, омытые красно-оранжевым жаром, и чёрные тени, как мелкие бесы, шныряют в вопящей и стонущей давке.
Больше тысячи человек и ещё около сотни существ непонятного происхождения – сплошной гедонизм и половая распущенность – толпятся в низине, естественном амфитеатре у подножия вулкана. С трёх сторон эта впадина огорожена высокой стеной из чёрного базальта, и в этой базальтовой чаше беснуются люди, мужчины и женщины, опьянённые и одурманенные наркотой, уже на грани психоза, они хватаются друг за друга – сплетение разгорячённых, раскрашенных и надушённых тел. Кое-кто развалился в блаженной истоме на давно перепачканных и промокших насквозь подушках, разбросанных на отшлифованном камне, но большинство просто ходит, подобно маятнику, вслепую, буквально на ощупь, едва держась на нетвёрдых ногах. И почти все – голые. Может быть, в самом начале на них ещё были одежды, только одежды давно сорваны, а вместе с ними исчезло и ощущение собственной индивидуальности, даже на самом что ни на есть примитивном уровне. Толпа слилась в единое существо, которое ещё может передвигаться, но уже не может мыслить. И эта бурлящая смесь, движимая исступлённой похотью, волновалась, как море в предштормовое ненастье, – море, испещрённое островками массовой истерии и громкими стонами совокупных оргазмов.
На выступе в скале, буквально впритык к истошно вопящей толпе, располагались эфиопские барабанщики, их блестящие, умасленные тела – все в золотых украшениях с инкрустацией из бирюзы и слоновой кости, лица скрыты под мокрыми дредами; они что есть силы лупили по барабанам, обтянутым леопардовыми шкурами, их неистовые ритмы заводили толпу ещё больше. Народ внизу бесновался чуть ли не в религиозном экстазе, разнузданном и восхищённом. Но барабанщики словно и не замечали этого буйства, этого истового поклонения их искусству. Настырные, разгорячённые руки тянулись к ногам исполнителей, бесстыдно ласкали их задницы и гениталии, но никто из барабанщиков ни разу не сбился с ритма, не пропустил ни одного удара. Даже когда страстные, наглые языки слизывали с них пот, они продолжали играть, и ритм лишь нарастал, стойкий, непоколебимый.
На втором выступе, сразу под барабанщиками, молодые мужчины и женщины в тонких прозрачных шелках – которые не скрывали, а лишь подчёркивали наготу – разливали вино. Тёмное, ароматное, психоделическое вино из каменных кувшинов, запас которых был, кажется, неисчерпаем. Оно лилось тягучими струями в подставленные кубки и прямо в раскрытые рты. Волосы этих изысканных виночерпиев были убраны венками из белых цветов и роскошными пышными орхидеями. Разливая вино, они покачивались в такт барабанному ритму, периодически отвлекаясь от своей работы, дабы отдаться ласкам и поцелуям совершеннейших незнакомцев, а то и отдаться в прямом смысле слова. Впрочем, поток вина не прерывался. Гости сами взбирались на выступ и наливали себе, сколько нужно, или забирали с собой целый кувшин, чтобы лишний раз не бегать за напитками. Вино лилось рекой в буквальном смысле, мешаясь с другими жидкостями, что обильно пропитывали это безумное празднество на грани отчаяния.
И в центре этого вихря чувственности, возвышаясь над волнообразным хаосом, стоял, злобно сверкая глазами, сам Золотой Телец. Футов пятнадцать в высоту – от копыт до кончиков рогов, – он был выкован целиком из золота и изукрашен сверкающими каменьями, языческий идол, великолепный в своей первородной скульптурной свирепости. Его ноздри, кажется, раздувались от ярости, а красные рубиновые глаза смотрели с суровым бычьим презрением на людей, что резвились внизу. Его украшали гирлянды белых цветов в красных подтёках вина, с обеих сторон от головы клубились столбы ароматного дыма – из двух жаровен с горящими благовониями, – впечатление было такое, что зверь дышит огнём. Две женщины, обнажённые ниже пояса, сидели, широко расставив ноги, на его влажном хребте, ритмично двигая бёдрами: глаза закрыты, на лицах – исступлённый восторг. К идолу прилагалась и надлежащая жертва, юная дева, подвешенная на цепях, закреплённых на кончиках золотых рогов; весьма соблазнительная девица в синем шёлковом бальном платье, разорванном в клочья, – вылитая Дебра Пейджет в «Десяти заповедях»[3]3
«Десять заповедей» – фильм Сесила Б. Де Милля (США, 1956). Библейское повествование о Моисее с момента его рождения до исхода евреев из Египта. Исключительно зрелищный и занимательный фильм. «Оскар» за спецэффекты.
[Закрыть], хотя в фильме Дебра Пейджет не подвергалась таким извращённым изыскам со стороны многочисленных желающих, да ещё под таким ракурсом. С точки зрения истории и морали подобные сцены были прерогативой Хауарда Хьюза[4]4
Хьюз, Ховард Робард (1905-1976), известный американский промышленник, авиатор, кинопродюсер. В 1928-1941 гг. вложил крупные средства в производство кинофильмов, выпустил в качестве продюсера несколько лент, давших неплохие кассовые сборы и получивших ряд премий.
[Закрыть].
После нескольких кубков пурпурного вина Джим перестал волноваться о том, как он сюда попал, на эту разнузданную вечеринку под извергающимся вулканом – толпа волновалась вокруг, как море, вызывая стойкие галлюцинации на грани полного ослепления. Ему смутно припоминалось крутое ущелье где-то высоко в горах, битва между дионисийцами и аполлонийцами, и он был в самой гуще сражения. Аполлонийцы имели неоспоримое преимущество в виде автоматического оружия и поддержки с воздуха, тогда как у дионисийцев были лишь палки и камни. Наверное, незачем говорить, что в этом неравном бою Джим сражался на стороне дионисийцев, и память, должно быть, была ценой, которую он заплатил за своё опрометчивое участие. В общем, пить надо меньше.
Единственное, в чём он был твёрдо уверен: эта оргия – не порождение его воспалённого воображения. Да, его память была в отключке, но он всё-таки помнил свою индивидуальность – в смысле, свойства и особенности характера, определяющие его личность, – и он был уверен, что его вкусы и склонности, хотя и с уклоном в вакханалическое безумство, всё-таки не тяготели к такому эпически-порнографическому монументализму в стиле старого Голливуда. Когда он вдруг оказался у самых копыт Золотого Тельца и с удивлением сообразил, что с упоением ласкает пышную грудь какой-то девицы, голой и безымянной, вылитой Мэйми Ван Дорен в ранней юности, то понял, что это – работа кого-то другого. Если бы он творил эту реальность сам, он бы ни за что не позволил, чтобы его оттащили от этой девицы, когда самое интересное только-только начиналось.
Поначалу девица была очень активной и явно горела желанием продолжить; не прошло и минуты, как она буквально сорвала с него рубаху, причём по частям. Джим не очень жалел о рубахе, и когда девочка принялась рьяно расстёгивать пряжку ремня на его древних заслуженных кожаных штанах, он приготовился отдаться на волю страсти. Его беспокоило лишь одно: когда она заговорила, он не понял ни слова. Поначалу он испугался, что вместе с памятью подзабыл и английский. Хотя нет, быть такого не может: он же думает на английском, да и когда попытался заговорить, слова и фразы получились вполне английскими, пусть даже язык у него заплетался.
Речь девицы вообще была не похожа на язык как на стройную систему лексических единиц и грамматических форм; это был просто какой-то набор звуков, хрипов и выкриков. Тогда Джим решил, что девица, наверное, просто перебрала психоделического вина и у неё начались бреды, однако вскоре заметил, что большинство из собравшихся изъясняются на такой же невразумительной глоссолалии[5]5
Глоссолалия – 1) в религиозных культах некоторых сект – бессмысленное выкрикивание в состоянии экстаза, «говорение на языках», которое сектанты воспринимают как боговещание; 2) в фольклоре – магическое заклинание в виде звукосочетаний; 3) расстройство речи – произнесение бессмысленных сочетаний звуков при сохранении некоторых признаков связной речи
[Закрыть]. Может быть, у того, кто всё это придумал – и, вероятно, перетащил сюда Джима оттуда, где он был раньше, – были проблемы с тем, чтобы наделить речью сбои творения? Либо так, либо он просто не хочет, чтобы участники этой буйной вавилонской гулянки общались друг с другом. В ходе раздумий над этим вопросом Джим уяснил для себя одну вещь: кто много думает, тот теряет. Пока он размышлял и строил догадки, к ним подлетели двое – мужеподобная лесбиянка и какая-то волосатая образина, саскуотч[6]6
Саскуотч – по мифологии индейцев Тихоокеанского Северо-Запада (США и Канады) – большое, покрытое волосами человекоподобное существо, обитающее в диких местах. По сути, то же самое, что «снежный человек».
[Закрыть] как он есть, – схватили «Ван Дорен» за руки и за ноги и утащили куда-то под смех толпы. Джим расценил этот поступок как недружелюбный и сексуально неэтичный, но он был слишком пьян, чтобы бежать разбираться.
После этого он бесцельно бродил в толпе, без рубахи, в своих чёрных кожаных штанах и стоптанных армейских ботинках. Его периодически поливали вином, и незнакомцы обоих полов и бесполые вовсе ласкали его мимоходом. Этот праздник распущенности, поначалу прикольный, уже стал ему надоедать, и Джим огляделся в поисках тихого места, откуда он мог бы наблюдать за этой эпической пьянкой с дебошем, не рискуя, что его самого втянут в действие, Он заметил углубление в скале, на высоте футов в двенадцать, как раз напротив уступа с эфиопскими барабанщиками. К углублению вела тропинка, пусть весьма относительная, но вполне пригодная для подъёма, а сама ниша смотрелась вполне заманчиво. Единственная проблема – там уже сидел какой-то мужик. Вполне одетый и отличие от большинства гостей, он сидел, привалившись спиной к скале и подтянув колени к груди, его лицо было полностью скрыто пол чёрной широкополой шляпой. Он был единственным человеком поблизости не только совсем одетым, но одетым весьма по-щегольски, и поэтому смотрелся единственным извращенцем на фоне голой и полуголой массовки.








