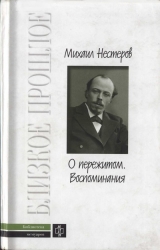
Текст книги "О пережитом. 1862-1917 гг. Воспоминания"
Автор книги: Михаил Нестеров
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 41 страниц) [доступный отрывок для чтения: 15 страниц]
Неаполь-Капри
Вот я и в Неаполе, передо мной Везувий. Брожу по Санта Лючиа, еще по старой, папской Санта Лючиа, покупаю у Беляева «рикорди ди Наполи» [116]116
Неаполитанские сувениры (ит.). (Прим. ред.).
[Закрыть]для моих милых уфимцев. Хожу в Неаполитанский музей. Поднимаюсь по так называемой «ослиной» лестнице на Сан Мартино. Перед моими глазами расстилается голубой Неаполитанский залив с туманным Капри, Иския… Всюду слышна музыка, дивный говор красивого, беспечного народа. Так прошло два-три дня.
Надо двигаться дальше – в Помпею. Вот я и там, в отеле Диомеда. Прогуливаюсь по улицам несчастного города, погибшего ко славе Карла Брюллова. Купаюсь в Неаполитанском заливе, наконец, нанимаю извозчика и через Кастелламаре еду в Сорренто. Кругом сон наяву.
В Сорренто восхищаюсь дивной природой, пробираюсь к морю в надежде выкупаться, но, испуганный массой народа – мужчин и дам в купальных костюмах – испуганный этим зрелищем, откладываю свое намерение до Капри.
Я на Капри, в отеле «Грот Блё». У меня милая небольшая комнатка с окном на море, на Везувий и с двумя дверьми – одной в коридор, другой к двум старым англичанкам. Здесь я намерен прожить недели две-три, отдохнуть, поработать. Я уже в Риме написал один небольшой этюд на Пинчио. Там же, на Виа Грегориана, купил лимонных дощечек, таких приятных для живописи.
Пока что занялся обозрением острова, его красотами. Побывал на море, отважился где-то в стороне от добрых людей, за камнями, выкупаться. Погода дивная. На душе – рай. Отлично кормят, за столом свежие фрукты, вино…
В отеле публика интернациональная. Тут и англичанки, и шведы, и немцы, есть один датчанин-художник, который таскает с собой огромный подрамок с начатым на нем импрессионистическим пейзажем. Все они мне нравятся и скоро завязывается знакомство. Странный русский, не расстающийся со своей голубой книжкой, начинает интриговать раньше других двух старых англичанок, потом датчанина-художника, и разговор при помощи этой книжки как-то налаживается. Я отважно ищу слова, фразы в книжке, моих ответов терпеливо ждут. Все, и я в том числе, в восторге, когда ответ найден, и я угадал то, о чем меня спрашивают…
Я в прекрасном настроении, я вижу, что ко мне относятся мои сожители с явной симпатией, это придает мне «куражу», я делаюсь отважней и отважней; я почти угадываю речи моих застольных знакомцев.
Так проходит неделя. Я делаюсь своим. Со всеми в самых лучших отношениях. Начинаю писать, и мое писание нравится, симпатии ко мне увеличиваются. В числе моих друзей – старый англичанин, говорят, очень богатый. Он расспрашивает меня о России, и я говорю о ней с восторгом, с любовью, что для англичанина ново: он слышал, что русские обычно ругают свою родину, критикуют в ней все и вся. То, что я этого не делаю, вызывает ко мне симпатии старика. Однажды, когда я сидел с книгой, он подошел ко мне и спросил, что я читаю. Я ответил, что Данилевского «Россия и Европа» [117]117
В книге «Россия и Европа» (1871) публицист и естествоиспытатель Н. Я. Данилевский проповедовал особый вид панславизма, «идею славянства», разделил все человечество на «культурно-исторические типы» и считал, высшим – славянский.
[Закрыть] . Англичанин об этой книге знал, и то, что я симпатизирую автору, увеличило его расположение ко мне.
Я начал этюд моря ранним утром, когда рыбаки после ночи вытаскивают свои сети, когда в воздухе так крепко пахнет морем, а вдали, еще едва заметный, курится Везувий… Я вставал рано-рано и, чтобы не будить моих соседок-англичанок (старый сон – чуткий сон), пробирался как-то на плоскую крышу дома, а оттуда со всеми своими принадлежностями спускался по лестнице на наш дворик.
Чудесные были эти утра! Все кругом дышало здоровьем, красотой – так мне казалось, потому что я был молод, жизнь била ключом, впереди сонмы надежд, порывы к счастью, к успехам.
Как-то я узнал, что в старом отеле «Пагано» все комнаты для жильцов, столовая, приемная украшены живописью художников, живших в разное время в этом отеле, что многие из них во времена своего пребывания в «Пагано» были молоды, а теперь прославленные старики. Имена их принадлежат всей Европе, всем народам, ее населяющим…
И я, недолго думая, написал на двух дверях своей комнаты – на одной «Царевну – Зимнюю сказку», а на другой «Девушку-боярышню» на берегу большого северного озера, с нашей псковской церковкой вдали. Об этом сейчас же узнали хозяин отеля и жильцы, и я еще больше стал с того времени своим.
Время летело стрелой. Я совершенно отдохнул и стал подумывать об отъезде в Париж. Скоро об этом узнали все мои каприйские друзья, старые и молодые.
Вот настал и день разлуки. Последний завтрак, последняя беседа, по-своему оживленная. Все спешили мне выказать свое расположение, и я с искренним сожалением покидал Капри, отель «Грот Блё» и всех этих старых и молодых людей.
Решено было всем отелем идти меня провожать. Перед тем, тотчас после завтрака, было предварительное прощание. Все говорили напутственные речи, а я, понимая, что меня не бранят, благодарил, жал руки, улыбался направо и налево. Я получил в тот день не только на словах выражение симпатий, но каждый считал нужным вручить мне какой-нибудь сувенир: кто свой рисунок, кто гравюру (старый англичанин), кто какую-нибудь безделушку, а мои старые девы-соседки поднесли мне стихотворение своего изготовления.
Пароход свистком приглашал занять на нем места. И вот из нашего отеля двинулась процессия: впереди с моими скромными вещами служитель отеля, за ним я, окруженный провожающими, которые наперерыв болтали, сыпались пожелания и прочее…
На берегу расстались, и я, взволнованный, сел в лодку и покинул гостеприимный Капри. Долго с берега мне махали платками, зонтами, и я не скупился ответами на эти приветствия. В тот же день я выехал на север и через Милан, Швейцарию двинулся в Париж, унося незабываемые впечатления о днях, проведенных в благословенной Италии.
Два месяца прошли, как два дня. Осталось моему привольному житью, этому сну наяву, еще лишь один месяц. Надо его провести с пользой, с умом, интересно. Постараюсь!
Париж – Дрезден
Пролетели мы через живописную, но нелюбимую Швейцарию с ее озерами, Монбланами и Сен-Бернарами, а вот и Франция. Она такая, как я ее себе представлял, как ее пишет наш брат-художник.
Поезд подлетел к перрону, и я почувствовал, что моя книжечка здесь меня не спасет. Трудный для меня французский выговор помешает этому сильно. Однако надо выходить, брать извозчика на рю Кюжас. Как-то все это надо оформить. И что же? Все обошлось благополучно, и я еду по улицам Парижа, преразвязно оглядывая бегущих по панелям и бульварам французов.
Вот я уже переехал мост. По пути узнал многое знакомое по снимкам. Вот Нотр-Дам, вот Пантеон. Я еду бульваром Сен-Мишель и знаю, что где-то тут и моя рю Кюжас. Куда-то мой возница сворачивает и подъезжает к дому средней красоты: это и есть те парижские «меблирашки», куда меня направили римские друзья мои.
Выбежал портье в зеленом дырявом фартуке и, убедившись в моей немоте, подхватил мой скарб, побежал куда-то вверх, болтая что-то очень оживленно и весело. Мне не было так весело, как этому человеку в зеленом фартуке, однако я притворился, что все прекрасно, что все именно так, как мне нужно, поспешил за моими вещами, пока не предстал перед пожилой дамой. Та, убедившись, что месье не из тех, что тратят слова попусту, оставила меня в покое, и через минуту я очутился в комнатке очень маленькой, очень старенькой, но все же над кроватью был малиновый полог, и все, что нужно, было налицо.
Помолчав, сколько нужно, мы расстались с зеленым фартуком, и я погрузился в размышления о своей дальнейшей судьбе. Затем умылся, переоделся и пустился, не тратя зря времени, в путь. Я заметил, что так уже «обтерпелся», что меня трудно было после Италии чем-либо поразить особенно.
Вот и сейчас, выйдя из дому, я побрел, что называется, куда глаза глядят. Первое, что попалось мне, – театр Одеон. Обошел его и не удивился. Затем очутился в Люксембургском саду. Хорошо, приятно, но и такое я уже видел. Тут же решил, что в ближайшие дни надо побывать в Люксембургской галерее.
Гулял много, долго. Подходил к Пантеону. Но что такое парижский Пантеон, когда я еще недавно в Риме видел подлинный, античный Пантеон и грандиозный Сан Пьетро!..
Закусив где-то на бульваре чем бог послал, я рано в тот день лег под свой малиновый полог, обдумывая, с чего начать следующий день.
Утром проснулся и решил двинуться прямо на Всемирную выставку – это была выставка 1889 года. Сообщение с выставкой было идеальное, и я без труда попал туда.
Первое впечатление – это колоссальная Нижегородская ярмарка. Те же ярмарочные эффекты, та же ярмарочная толпа, тот же особый ярмарочный гул, запахи и прочее. Однако это первое впечатление сходства Всемирной парижской выставки с Всероссийской нижегородской ярмаркой скоро меняется, и у меня оно изменилось, как только я очутился в художественном отделе выставки. О, это уже не была Нижегородская ярмарка!
Интересы ярмарки, ее главная задача были здесь почти в корне уничтожены задачами самого искусства. Торговать искусством, как и наукой, конечно, в каких-то пределах и условиях можно, но прямые цели тут иные, более высокие, духовные. И в этом, попав в художественный отдел, вы быстро убедитесь.
В тот год художественный отдел был очень полон. Французы постарались не только над количеством его, но и качественно он был высок. И я рад был, что попал сюда после Венеции, Флоренции, Рима. Я скоропонял, почувствовал, что мне нужносмотреть и чего смотреть не следует.
Высокое, технически новое искусство того момента не было особенно глубоким искусством, и лишь часть, самая незначительная, французов и англичан в этом были исключением, а я и мое поколение были воспитаны на взглядах и понятиях искусства Рёскина и ему подобных теоретиков. Нам далеко было недостаточно, чтобы картина была хорошо написана, построена и прочее; нам необходимо было, чтобы она нас волновала своим чувством. Наши ум и сердце, а не только глаз, должны были участвовать в переживаниях художника. Он должен был захватить наиболее высокие свойства духовно одаренного человека. И вот на эти-то требования тогдашняя выставка, при всех своих внешних достоинствах, отвечала слабо.
В первый день я, конечно, мог спешно обежать лишь территорию художественного отдела, в коем были представлены все народы мира. Я едва успел что-то перекусить, выпить кофе и до самого вечера оставался среди картин. На второй и третий день у меня сложился план, что мне надо и без чего я обойдусь, и сообразно с этим последующие дни я и направлял свое внимание и время. У меня на весь Париж, на всю выставку было около трех недель, и это надо было помнить.
Не прошло и недели, как я на выставке ориентировался совершенно свободно. С утра, если я попадал на выставку, я брал себе какой-либо один народ и в отделе этом проводил до полдня. Затем шел закусить, выпить наскоро стакан кофе и шел во французский отдел к Бастьен-Лепажу; если там было свободное место, садился перед его «Жанной д’Арк» и отдыхал, наслаждаясь не столько тем, как картина написана, а тем, сколь высоко парил дух художника [118]118
Картина Ж. Бастьен-Лепажа «Жанна д’Арк» (1880) находится в Метрополитен-музее (Нью-Йорк).
[Закрыть] . В этой вещи достижения Бастьен-Лепажа совершенно феноменальны.
Я старался постичь, как мог он подняться на такую высоту, совершенно недосягаемую для внешнего глаза француза. Бастьен-Лепаж тут был славянин, русский, с нашими сокровенными исканиями глубин человеческой драмы. В «Жанне д’Арк» не было и следа тех приемов, коими оперировал, например, Поль Деларош, его театрального драматизма. Весь эффект, вся сила «Жанны д’Арк» была в ее крайней простоте, естественности и в том единственном и нигде неповторяемом выражении глазпастушки из Домреми; эти глаза были особой тайной художника. Они смотрели и видели не внешние предметы, а тот заветный идеал, ту цель, свое призвание, которое эта дивная девушка должна была осуществить.
Задача «созерцания», внутреннего видения у Бастьен-Лепажа переданы с сверхъестественной силой, совершенно несравнимой ни с одной попыткой в этом роде (Крамского в его «Созерцателе» [119]119
Картина И. Н. Крамского «Созерцатель» (1876) находится в Киевском государственном музее русского искусства.
[Закрыть] и других). Вот перед этой-то картиной я проводил дивные минуты своего отдыха, эти минуты и сейчас считаю наилучшими в те дни.
Я говорил, что хороши были англичане. Их серьезные портреты, а также группа так называемых прерафаэлитов [120]120
Нестеров называет «прерафаэлистами» прерафаэлитов – Д. Г. Россетти, Дж. Э. Миллеса, X. Ханта, Э. Берн-Джонса – английских художников-романтиков середины XIX в., увлеченных искусством Раннего Возрождения и стремившихся подражать его наивному реализму.
[Закрыть] мне очень нравились. Тогда же я увидел прославленную картину «Христос перед Пилатом» Мункачи, вещь эффектную, но не глубокую [121]121
Картина М. Мункачи «Христос перед Пилатом» (1881) находится в частном собрании в Филадельфии.
[Закрыть] .
Новы были для меня Испанцы [122]122
«Испанцы» – речь идет об экспонированных на выставке картинах испанских живописцев Антонио Муньоса-Дегрена, Хосе Морено Карбонеро, Хосе Касадо дель Алисала, Феликса Гидальго и Падилья, Хуана Луна и Новицио, Эмилио Сала и Франсеса, Ф. Прадильи и Ортиса, Луиса Альвареса Катали (чья картина «Трон Филиппа II в Эскориале» была удостоена золотой медали на Всемирной выставке) и ряда других.
[Закрыть] . Их большие исторические полотна были красиво исполненными театральными постановками без внутреннего драматизма. Как им далеко было до нашего Сурикова!
Если я не был на выставке, то проводил время, осматривая музеи – Лувр, Люксембургский, Пантеон…
Лувр многим мне напоминал только что покинутую Италию. Из новых остановили внимание Курбе своими «Похоронами» [123]123
Нестеров имеет в виду «Похороны в Орнане» Г. Курбе (1849–1850).
[Закрыть] , Реньо – «Маршалом Примом» [124]124
«Маршал Прим», или, вернее, «Хуан Прим» – конный портрет испанского генерала и политического деятеля (1869). Автор его, эпигон романтиков А. Реньо, пользовался большой популярностью в 1870-е гг.
[Закрыть] и тогда такие еще свежие барбизонцы [125]125
Барбизонцы – французские пейзажисты Т. Руссо, Ш.-Ф. Добиньи, Ж. Дюпре, Н. Диас де да Пенья, К. Труайон и другие, работавшие, как и К. Коро, в 1830–1860-х гг. в деревне Барбизон близ Парижа. Барбизонская школа сыграла большую роль в развитии французского пейзажа и пленэрной живописи.
[Закрыть] .
Много очень ценного было и в залах музея Люксембургского. Но лишь Пантеон с его Пювис де Шаванном вызвал во мне поток новых сильных переживаний. «Св. Женевьева» Пювиса перенесла как-то меня во Флоренцию, к фрескам Гирландайо в любимой мною капелле Санта Мария Новелла [126]126
В пантеоне находится цикл росписей Пюви де Шаванна на темы из жизни святой Женевьевы, покровительницы Парижа (1878–1898).
[Закрыть] .
Пювис глубоко понял дух флорентийцев Возрождения, приложил своек некоторым их принципам, их достижениям, приложил то, что жило в нем и пело, соединил все современной техникой и поднес отечеству этот превосходный подарок, его обессмертивший. Не все, что дал Пювис в Пантеоне, равноценно. И все же именно он, а никто другой, достиг наилучших результатов в стенописи Пантеона и Сорбонны. К сожалению, я не был на его родине в Амьене, где сохраняются его ранние произведения.
Пювис и Бастьен-Лепаж из современных живописцев Запада дали мне столько, сколько не дали все вместе взятые художники других стран, и я почувствовал, что, если я буду жить в Париже месяцы и даже год-два, я не обрету для себя ничего более ценного, чем эти разновидные авторы. Все в них было ценно для меня: их талант, ум и их знания, прекрасная школа, ими пройденная, – это счастливейшее сочетание возвышало их в моих глазах над всеми другими. Все мои симпатии были с ними, и я, насмотревшись на них после Италии, полагал, что мое европейское обучение, просвещение Западом, может быть на этот раз завершенным. Я могу спокойно ехать домой, и там, у себя, как-то претворить виденное, и тогда, быть может, что-нибудь получится не очень плохое для русского искусства. Мало ли чего в те молодые годы не передумалось, куда ни заносили каждого из нас наши мечты, наше честолюбие!
Несмотря на все это, я старался пополнить свои впечатления всем, чем мог. Я был в Версале, был всюду, где мог взять хоть что-нибудь. Лувр и Люксембургскую галерею я посетил несколько раз. Одним словом, был добросовестен и прилежен.
Сам Париж, как город, лишь своим средневековьем пленял меня. То же, что давал этот новый Вавилон сейчас, меня мало прельщало. Я не был ни в каких «Мулен Руж», и это «лицо Парижа» (или, вернее, его маска) мне осталось и в следующие приезды неизвестно. И вовсе не потому, что я хотел быть или казаться целомудренным, – нимало. Просто потому, что «это» всюду одинаково грязновато и пошловато, и не за тем я ехал за границу.
Я не обманывал себя, что многое я не узнал из того ценного, что мог бы узнать, живя на Западе, в Италии или Париже дольше, годы, но в данных условиях – один, без языка, несмотря на мою энергию, подвижность и молодую любознательность, – большего я взять бы не мог.
В то же время я чувствовал, что во мне зарождается живая потребность, необходимость сказать что-то свое, что во мне что-то шевелится уже, как плод в утробе матери. И тогда я, имея возможность побывать в Лондоне, от этой поездки отказался, ограничив себя Мюнхеном, Дрезденом и Берлином.
Особенно же мне необходимым казалось завершить свое путешествие Рафаэлевой Сикстинской Мадонной. Для нее одной, казалось мне тогда, у меня осталось достаточно силы к восприятию. Она, Сикстинская Мадонна, должна была последней напутствовать меня на долгий и трудный путь служения родному искусству…
И я стал понемногу готовиться к отъезду из Парижа, благодарил мысленно Бога, что Он дал мне возможность с такими малыми средствами обогатить свой ум, свое сердце стольким прекрасным, созданным гением, талантом народов Запада.
Пришел день, и я покинул Париж. По пути заехал в Мюнхен. Там осмотрев Пинакотеку, галерею Шакка [127]127
Галерея Шакка – художественная галерея в Мюнхене, основанная немецким литератором графом А. фон Шакком.
[Закрыть] с прекрасным, сказочным Швиндом, с ранним Бёклином. Видел Сецессион [128]128
Сецессионы – выставочные объединения в Германии и Австрии конца XIX – начала XX в., противопоставлявшие себя официальному академическому искусству и являвшиеся основными проводниками стиля «модерн».
[Закрыть] .
Из Мюнхена проехал в Берлин, а оттуда съездил в Дрезден, и тотчас же по приезде отправился в галерею. Пройдя ряд залов, остановившись у Гольбейна, я поспешил в зал рафаэлевский, к его Сикстинской Мадонне. Вот здесь я найду завершение виденного. Здесь величайший и одареннейший из художников живет в самом совершенном его произведении.
Зал хорошего размера… Слева идут амфитеатром места для зрителей. Свет окна – слева же. Я выбрал себе место на одной из задних скамей. Народа было немного – человек двадцать-тридцать, иностранцы. Сел и я. Еще минута, и передо мной открылась Мадонна Сикста.
Первое мгновение мое внимание было несколько отвлечено ее окружением, этим малиновым бархатным фоном, банально задрапированным, этой золотой мишурой, но лишь мгновение. Мой глаз сейчас же с этим освоился, позабыл о людях, об их неумелом усердии, об их медвежьих услугах. Была мертвая тишина, дававшая возможность быстро сосредоточиться.
Художникам, видевшим Мадонну впервые, лучше воздержаться от обычной манеры нашей судить картину, как специалисту-живописцу. Лучше отдаться на первый раз непосредственному чувству. Я так и сделал. Я долго оставался в немом созерцании, прислушиваясь к своему (художественному) чувству, как к биению своего сердца. Картина медленно овладевала мной и проникала в мое чувство, сознание.
Первое, что я осознал, – это ни с чем не сравнимое целомудренное материнство Мадонны. В ней не было и следа тех особенностей итальянских мадонн, сентиментально изощренных, грациозно-жеманных. Проста и серьезна Сикстинская Мадонна. Сосредоточенная мягкость, спокойная женственность, высокая чистота души в такой гармонии с прекрасным юным телом.
Лицо Сикстинской Мадонны – не лик нашей Владимирской Божьей Матери: Мадонна Рафаэля чисто католический идеал Мадонны, а не образ Владычицы Небесной. С этим нам, православным, русским, необходимо с первого же взгляда примириться. Рафаэль писал величайшее свое произведение для католического мира, будучи сам сыном церкви католической. В его Мадонне все сказано для верующего сердца католика. Мы православные, инако верующие, можем в этом бессмертном создании Рафаэля отдать ему дань восхищения за то, что он с такой силой, ясностью, в таких чистых, одухотворенных линиях и красках передал нам, да и всему человечеству, на многие сотни лет свою религиозную мечту, мечту миллионов людей. Рафаэль в этой своей Мадонне, как наш Иванов в «Явлении Христа народу», выразил всего себя, он как бы для того и пришел в этот мир, чтобы поведать ему свое гениальное откровение.
Писана Мадонна в спокойных тонах, сильными, гармоническими красками, излюбленными мастером в период его расцвета. Для меня вся прелесть картины в Мадонне. Христос-Младенец написан умно. Он – ребенок необыкновенный, как необыкновенна Его Мать. Хорош Сикст. Слабее св. Варвара. Слабее по тем общим местам, которые в ней одной еще остались от прежнего, Перуджиновского Рафаэля [129]129
Рафаэль был учеником Пьетро Перуджино (1500–1504), и его ранние работы – «Мадонна Констабиле» (ок. 1500), «Обручение Марии» (1504) – носят следы влияния учителя.
[Закрыть] .
Я несколько раз возвращался в Рафаэлевский зал в этот день. Был и на другой день. Впечатления первого дня лишь закреплялись во мне больше и больше и настолько определились, что, когда я был в Дрездене вторично через несколько лет, я боялся, что многое пережитое, передуманное, прочитанное и услышанное за прошедшие годы изменит мой взгляд, но мое отношение к Сикстинской Мадонне не изменилось и по сей день. Я позднее лишь осознал крепче, ярче то, что увидел двадцатисемилетним начинающим художником.
Итак, мое первое заграничное путешествие кончилось. Пора домой… И я выехал из Берлина. Скоро и граница. Вот она, вот Родина… Проехали какую-то канавку или речонку, и я дома, у себя в России. Вот они стоят, мои земляки… Вот носильщики, вот крепкий высокий жандарм с золотой медалью за верность. Все – наше, все – Родина.
Посмотрим, что дала мне Европа, что я сумел от нее взять, что понял, что полюбил в ней, посмотрим…
В Россию! От станковой живописи к церковной
Я прямо поехал в Москву. Повидал кое-кого из приятелей и уехал в Хотьков монастырь. Нанял избу в деревне Комякине, близ монастыря, и принялся за этюды к «Варфоломею» [130]130
«Видение отроку Варфоломею» (1889, ГТГ) – первая картина Нестерова в цикле, посвященном преподобному Сергию Радонежскому (до принятия пострига – Варфоломею), крупному церковному и политическому деятелю Руси XIV в., вдохновителю борьбы русских против татарского ига, основателю Троице-Сергиевой лавры. В Житии преподобного Сергия, написанном его учеником Епифанием, рассказывается об эпизоде, легшем в основу картины Нестерова: отроку Варфоломею не давалась грамота; однажды, когда отец послал его на поиски пропавших жеребят, Варфоломею явилось видение святого старца, к которому мальчик обратился с просьбой «яко да бых умел грамоту»; старец исполнил желание мальчика.
[Закрыть] .
Окрестности Комякина очень живописны: кругом леса, ель, береза, всюду в прекрасном сочетании. Бродил целыми днями. В трех верстах было и Абрамцево, куда я теперь чаще и чаще заглядывал.
Ряд пейзажей и пейзажных деталей было сделано около Комякина. Нашел подходящий дуб для первого плана, написал самый первый план, и однажды с террасы абрамцевского дома совершенно неожиданно моим глазам представилась такая русская, русская осенняя красота. Слева холмы, под ними вьется речка (Аксаковская Воря). Там где-то розоватые осенние дали, поднимается дымок, ближе – капустные малахитовые огороды, справа – золотистая роща. Кое-что изменить, что-то добавить, и фон для моего «Варфоломея» такой, что лучше не выдумать.
И я принялся за этюд. Он удался, а главное, я, смотря на этот пейзаж, им любуясь и работая свой этюд, проникся каким-то особым чувством «подлинности» историчности его: именно такой, а не иной, стало мне казаться, должен быть ландшафт. Я уверовал так крепко в то, что увидел, что иного и не хотел уже искать [131]131
Речь идет об этюде «Окрестности Абрамцева» (1889, ГТГ).
[Закрыть] .
Оставалось найти голову для отрока, такую же убедительную, как пейзаж. Я всюду приглядывался к детям и пока что писал фигуру мальчика, писал фигуру старца. Писал детали рук с дароносицей и добавочные детали к моему пейзажу – березки, осинки и еще кое-что.
Время шло, было начало сентября. Я начал тревожиться, – ведь надо было еще написать эскиз. В те дни у меня были лишь альбомные наброски композиции картины, и она готовой жила в моей голове, но этого для меня было мало. А вот головы, такой головы, какая мне мерещилась для будущего преподобного Сергия, у меня еще не было под рукой. Повторялось то, что и с «Пустынником», когда скрылся из моих глаз отец Гордей. Я не решался начать картину, не имея под рукой исчерпывающего материала.
И вот однажды, идя по деревне, я заметил девочку лет десяти, стриженую, с большими широко открытыми удивленными голубыми глазами, болезненную. Рот у нее был какой-то скорбный, горячечно дышащий.
Я замер, как перед видением. Я действительно нашел то, что грезилось мне: это и был «документ», «подлинник» моих грез. Ни минуты не думая, я остановил девочку, спросил, где она живет, и узнал, что она комякинская, что она дочь Марьи, что изба их вторая с краю, что ее, девочку, зовут так-то, что она долго болела грудью, что вот недавно встала и идет туда-то. На первый раз довольно. Я знал, что надо было делать.
Художники в Комякине были не в диковинку, их не боялись, не дичились, от них иногда подрабатывали комякинские ребята на орехи и прочее. Я отправился прямо к тетке Марье, изложил ей все, договорился и о «гонораре», и назавтра, если не будет дождя, назначил первый сеанс.
На мое счастье, назавтра день был такой, как мне надобно: серенький, ясный, теплый, и я, взяв краски, римскую лимонную дощечку, зашел за моей больнушкой и, устроившись попокойнее, начал работать.
Дело пошло ладно. Мне был необходим не столько красочный этюд, как тонкий, точный рисунок с хрупкой, нервной девочки. Работал я напряженно, стараясь увидать больше того, что, быть может, давала мне моя модель. Ее бледное, осунувшееся с голубыми жилками личико было моментами прекрасно. Я совершенно отождествлял это личико с моим будущим отроком Варфоломеем. У моей девочки не только было хорошо ее личико, но и ручки, такие худенькие, с нервно сжатыми пальчиками. Таким образом, я нашел не одно лицо Варфоломея, но и руки его.
В два-три сеанса был сделан тот этюд, что находился в Остроуховском собрании [132]132
Этюд девочки (1889), использованный Нестеровым в работе над картиной «Видение отроку Варфоломею», был подарен И. С. Остроухову (на этюде слева внизу надпись: «Илье Семеновичу Остроухову на добрую память М. Нестеров 1890») и находился в коллекции Остроухова, которую он разместил в собственном доме в Трубниковском переулке на Арбате. В 1918 г. дом и коллекция Остроухова были национализированы, а сам владелец оставлен пожизненным заведующим Музеем иконописи и живописи, созданным в трубниковском доме. После смерти Остроухова в 1929 г. музей был закрыт, а все собрание картин передано в ГТГ.
[Закрыть] . Весь материал был налицо. Надо приниматься за последний эскиз красками. Я сделал его быстро и тут же нанял себе пустую дачу в соседней деревне Митине. В половине сентября переехал туда, развернул холст и, несмотря на темные осенние дни, начал рисовать самую картину. Жилось мне в те дни хорошо. Я полон был своей картиной. В ней, в ее атмосфере, в атмосфере видения, чуда, которое должно было совершиться, жил я тогда.
Начались дожди, из дому выходить было неприятно, перед глазами были темные, мокрые кирпичные сараи. Даже в Абрамцево нельзя было попасть, так велика была грязь. И лишь на душе моей тогда было светло и радостно. Питался я скудно. Моя старуха кухарка умела готовить только два блюда – кислые щи да кашу.
Так я прожил до середины октября. Нарисовал углем картину и за это время успел убедиться, что при такой обстановке, один-одинешенек, с плохим питанием, я долго не выдержу, – и решил спасаться к моим уфимцам. Они рады были повидать меня после заграницы и предложили мне все самые заманчивые условия для писания картины: наш зал с большими окнами, абсолютную тишину, спокойствие. О питании не нужно было и говорить – оно там было всегда поставлено прекрасно.
Я, недолго думая, свернул свою картину на скалку, расплатился за квартиру, распрощался со своей стряпухой и уехал в Уфу, тогда уже по железной дороге.
Радостная встреча, расспросы о том, что не написалось в письмах из Италии, Парижа. Скоро картина была натянута. Снег в Уфе выпал рано, в начале ноября, свет был прекрасный, и я начал своего «Варфоломея» красками. Полетели дни за днями.
Вставали мы рано, и я после чая, тотчас как рассветет, принимался за картину. Я не был опять доволен холстом, слишком мелким и гладким, и вот, однажды, когда была уже написана верхняя часть пейзажа, я, стоя на подставке, покачнулся и упал, упал прямо на картину!
На шум прибежала сестра, а потом и мать. Я поднялся, и все мы увидели, что картина прорвана – большая дыра зияла на небе. Мать и сестра, видя меня таким смущенным, а еще больше – пробитую картину, не знали, как помочь делу, как подступиться ко мне.
Однако первые минуты миновали. Ахать было бесполезно, надо было действовать. Я тотчас же написал в Москву в магазин Дациаро [133]133
Магазин Дациаро на Кузнецком Мосту торговал красками, художественными принадлежностями, а также произведениями искусства.
[Закрыть] , прося мне спешно выслать лучшего заграничного холста известной ширины, столько-то. Написал и стал нетерпеливо ждать посылки. Время тянулось необыкновенно медленно. Я хандрил, со мной не знали, что делать, не рады были, что и пригласили меня. Однако недели через полторы пришла повестка, и в тот же день я получил прекрасный холст, гораздо лучший, чем прорванный. Я ожил, ожили и все мои вокруг меня.
Скоро я перерисовал картину наново и взялся за краски. Как бы в воздаяние за пережитые волнения, на новом холсте писалось приятней. Он очень мне нравился, и дело быстро двигалось вперед.
В те дни я жил исключительно картиной, в ней были все мои помыслы, я как бы перевоплотился в ее героев. В те часы, когда я не писал ее, я не существовал и, кончая писать к сумеркам, не знал, что с собой делать до сна, до завтрашнего утра.
Ходить в гости не хотелось, и лишь изредка я ездил кататься, катаясь, заезжал в Старую Уфу, в маленький домик с мезонином, где шесть-семь лет тому назад я так счастливо проводил летние дни и вечера. Но там все было другое, теперь мне почти чужое, и я ехал домой… Кучер старался показать, как резво бегут у него кони, пускал их полной рысью, и я, весь закиданный снегом, прозябший на морозе, возвращался домой к вечернему чаю. И снова все мои за столом, в тепло натопленной горнице, говорим о картине, о завтрашнем рабочем дне, а то я уносился в воспоминания об Италии, и меня слушали, не наслушивались…
Проходила длинная ночь, утром снова за дело. А дело двигалось да двигалось. Я пишу «Варфоломея», его голову – самое ответственное место в картине. Удастся голова – удалась картина. Нет – не существует и картины.
Слава Богу, голова удалась, картина есть. «Видение отроку Варфоломею» кончено…
Кроме своих, которым после успеха «Пустынника» все, что ни напишу, нравится, нравится и посторонним, хотя, быть может, они и восхваляют меня из любезности или на всякий случай. Один А. М. П. – купец с университетским образованием и большим самомнением, хотя и неглупый, забавно и цинично вышутил бедного «Варфоломея».
Пора собираться в Москву. Там посмотреть картину в раме, и что Бог даст. Провожаемый самыми добрыми напутствиями, я уехал, забрав картину. Что-то будет…
В те дни приснилось мне два сна. Первый такой: высокая, до самых небес, лестница. Я поднимаюсь по ней все выше и выше – к облакам… – просыпаюсь. Утром рассказываю сон матери. По ее мнению, сон хорош: я буду иметь успех с «Варфоломеем», он вознесет меня и т. д….
Второй сон таков: «Варфоломей» в Третьяковской галерее. Висит в Ивановском зале на стене против двери от Верещагина. Повешен прекрасно, почетно. Через год после этого сна, когда картина уже была в галерее, я из Киева приехал в Москву, пошел в галерею. Иду через ряд зал к Иванову и вижу «Варфоломея» висящим как раз на той самой стене Ивановской залы, как я видел его во сне тогда, когда кончал картину в Уфе.
Странные два сна, указывающие на то, в каком напряженном состоянии были мои нервы в то время.
В Москве поместился в тех же номерах, что и год назад. Принесли раму, вставили в нее картину. Выглядит «Варфоломей» в раме неплохо. Жду приятелей…
Узнали, что привез картину, потянулись один за другим смотреть. Пришел Левитан. Смотрел долго, отходил, подходил, вставал, садился, опять вставал. Объявил, что картина хороша, очень нравится ему и что она будет иметь успех. Тон похвал был искренний, живой, ободряющий. Левитан сказал, что у него уже был Павел Михайлович, хвалил вещи и спрашивал, приехал ли я. Начало неплохое…
Каждый день бывал кто-нибудь из художников, и молва о картине среди нашей братии росла и росла, пока однажды утром не пожаловал сам Павел Михайлович. Я был к этому подготовлен и ждал его со дня на день.
Обычное тихое постукивание в дверь, обычное: «Войдите». Та же длинная шуба с барашковым воротником, высокие калоши, и то же русское хорошее, благородное лицо с заиндевевшими усами и бородой. Приветствия, поцелуи, расспросы об Уфе, просьба посмотреть картину. Приглашение. Долгое внимательное рассматривание так и эдак, и близко, и подальше, словом, обычный порядок, спокойный, тихий, без слов. Одно внимание, любовное внимание: ведь дело большой важности. Наконец, односложные замечания, похожие на похвалы, и похвалы, похожие на замечания.
На репинском портрете (первом, с сидящей фигурой) Павел Михайлович похож до мелочей: его глаза, рот, затылок, его руки и манера их держать, все очень, очень верно [134]134
Портрет П. М. Третьякова работы И. Е. Репина (1883) находится в Третьяковской галерее.
[Закрыть] .








