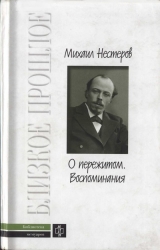
Текст книги "О пережитом. 1862-1917 гг. Воспоминания"
Автор книги: Михаил Нестеров
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 41 страниц) [доступный отрывок для чтения: 15 страниц]
Свободный художник. Женитьба
Дела с первых же шагов в школе пошли хорошо. Писать и рисовать стал внимательней, снова стал видеть краски, а эскизы – ну, эскизы стали моим любимым делом. Я все лучшие силы отдавал им. Первые номера, награды сыпались. В эскизах я чувствовал, что я художник, что во мне живет нечто, что меня выносит на поверхность школьной художественной жизни стихийно. И я слышал, что эскизы настолько обратили на меня внимание школьного начальства, что оно решило меня не задерживать, полагая, что чего недополучу я в школе, даст сама жизнь. Со мной все учителя были очень в то время внимательны, ласковы, и я ходил именинником. Озорство постепенно испарялось, я весь ушел в занятия. Подошел незаметно конец года, последний третной. Я поставил чуть ли не четыре эскиза и один большой «Призвание Михаила Федоровича Романова на царство» [82]82
В настоящее время эскиз «Призвание Михаила Федоровича Романова на царство» (1885) находится в ГТГ.
[Закрыть] . Я делал его с огромной любовью. Тогда на меня сильно повлияли суриковские «Стрельцы», их темный, благородный тон. Я везде его видел и эскиз свой написал в вечерне-темной гамме. Вышло нарядно, а для ученического эскиза и совсем хорошо.
Принес я свои эскизы на экзамен. Перед ними толпа, и я снова, после многих лет, испытал то большое удовлетворение, торжество, что испытал в последнюю весну перед роспуском у К. П. Воскресенского.
Начальство осталось мной чрезвычайно довольно. За все эскизы я получил первые номера, а за «Призвание», кроме того, 25 рублей награды – случай небывалый (обычно давали 5 рублей). И эскиз Училище взяло в «оригиналы» – это тоже бывало крайне редко.
Не успел я переварить этот успех, за ним пришел еще больший: Совет профессоров действительно решил меня выпустить, дав одновременно мне обе медали – и за рисунок, и за этюд.
Таким образом, я стал «свободным художником» [83]83
Звание «свободного художника» было присуждено Нестерову в марте 1885 г.
[Закрыть] , но это все вместе с моими уфимскими делами подорвало мои силы, и я свалился, да еще как! было что-то с почками, я проболел всю весну и часть лета, в Уфу не поехал, а моя невеста, узнав о моей болезни, в распутицу, на лошадях до Оренбурга (тогда железной дороги до Уфы не было), приехала в Москву, и тут у нее на глазах я стал поправляться и переехал в Петровский парк. Там я окончательно выздоровел.
18 августа 1885 года мы обвенчались с Марией Ивановной, и для меня началась новая жизнь, жизнь радостей художественных и семейных…
Раньше чем перейти к пересказу того, что меня ждало в новой жизни, скажу два слова о том дне, когда мы с Марией Ивановной поженились. Свадьба была донельзя скромная, денег было мало. В церковь и обратно шли пешком. Во время венчания набралось поглазеть в церковь разного народа. Невеста моя, несмотря на скромность своего наряда, была прекрасна. В ней было столько счастья, так она была красива, что у меня и сейчас нет слов для сравнения. Очаровательней, чем была она в этот день, я не знаю до сих пор лица… Цветущая, сияющая внутренним сиянием, стройная, высокая – загляденье! А рядом я – маленький, неуклюжий, с бритой после болезни головой, в каком-то «семинарском» длинном сюртуке – куда как был неказист. И вот во время венчания слышу справа от себя соболезнования какой-то праздно глазеющей старухи: «А, ба-а-тюшки, какая она-то красавица, а он-то – ай, ай, какой страховитый!»
После венца мы собрались все у сестры жены. Стали обедать. И в самый оживленный момент нашего веселого пирования бывшего на свадьбе доктора-акушера вызвали из-за стола к больной. Вернулся – опоздал, больная уже умерла…
Все это тогда на нас произвело самое тяжелое впечатление, конечно, ненадолго, но хорошая, веселая минута была отравлена. В душу закралось что-то тревожное…
Возвращусь, однако, к новой жизни. Мы поселились около вокзалов на Каланчевской улице, взяли небольшой номерок. Ничего определенного в смысле заработка не было, пришлось тотчас же отказаться от родительской помощи. Молодой задор требовал этого.
Надо было начинать эскиз, а затем и картину на большую серебряную медаль на звание классного художника. Эскиз я сделал скоро, тема – «До государя челобитчики», попросту – выход Царя. В том же черно-густом тоне, что и «Призвание», те же огни, облачения, – словом, повторение пройденного. Однако эскиз утвердили и дали денег (100 рублей) для начала картины. Большой холст, натурщики, костюмы, а главное, жизнь, скоро опустошили мой карман. Началась погоня за заказами.
Жена тоже что-то начала делать. Мы жили так скромно, как больше нельзя. Наступала осень, за ней зима, а у нас и теплого платья еще не припасено… Ну да ничего, зато мы молоды, нам по двадцать три года, любим друг друга.
И, действительно, появились кое-какие заказы, иллюстрации. Мы немного ожили. Работа с картиной шла своим порядком. Прошло сколько-то времени, меня пригласил работать к себе «комнатный декоратор» Томашко. Он тогда был в славе. Богатые купцы строили себе дома, и их украшал Томашко. Ему нужен был помощник для плафона. Я и подвернулся тут.
И вот я у него пишу плафон аршин в шесть-семь для морозовского особняка на Воздвиженке [84]84
Речь идет об особняке В. А. Морозовой на Воздвиженке.
[Закрыть] . Что-то комбинирую, компликую с Микеланджело, Тьеполо и еще кого-то. Плафон готов в неделю. «Маэстро» доволен и сразу отвалил мне сто рублей. Каким победителем я летел тогда от Воротниковского переулка к себе на Каланчевскую! Как радостно меня встретила моя красавица жена! Сколько в тот день было веселья! Вот где сказалась наша юность, наши двадцать три года.
Теперь время летело. Днем я работал или дома, или у Томашки, причем он, уезжая по делам, запирал меня в мастерской на замок, в тех видах, чтобы, если без него явится кто-нибудь из его заказчиков, не открылась тайна, что плафоны пишутся не им, а кем-то другим и за гроши…
Так было со мной, а после меня на таких же условиях работал Головин, с той разницей, что я у Томашко проработал лишь один год, а бедный Головин несколько лет и с трудом от своей кабалы избавился [85]85
А. Я. Головин проработал у Томашко семь лет (1890–1897).
[Закрыть] .
Томашко был внешне любезен, но был чистой воды эксплуататор, и при этом жестокий. У него по летам было много дела, а следовательно, и большая артель так называемых уборщиков – комнатных живописцев. По субботам бывал расчет с рабочими, они получали заработную плату, и Томашко, бывало, еще с четверга был не в духе и неистово вымешал субботний расчет на бедном мальчике, взятом в ученье, которое было для вихрастого Леньки не столько ученье, сколько мученье. Он постоянно ходил избитый и боялся своего учителя-мучителя как огня.
Итак, денежные дела шли у нас сносно. Мы были сыты и одеты. Эскиз был сделан. Я приступил к самой картине. Надо было достать натуру, костюмы. Первопланного мальчика я написал с жены. Попал туда, в толпу челобитчиков, и Моисеич.
Было трудней с костюмами, но и это уладилось. В Училище дали мне письмо в костюмерную Большого театра, и мне предоставили выбрать, что надо. Костюмы были плохие, хотя и назывались роскошными. У меня не было навыка и сноровки обращаться с этой бутафорией, и кто-то из приятелей посоветовал пойти к Сурикову и поговорить с ним, узнать, как он в таких случаях поступает. Сказано – сделано.
В один из вечеров я отправился на Долгоруковскую, Сурикова застал. Он принял меня ласково, обо мне он кое-что слышал. Познакомил меня со своей женой. Она тогда уже была болезненного вида, такая хрупкая, бледная, с голубоватыми жилками на лице. Звали ее Елизавета Августовна, в ней была французская кровь. С нее Суриков, говорили тогда, написал в «Меншикове» невесту Петра II, ту, что сидит в ногах Меншикова. Славное было лицо у Елизаветы Августовны, доброе, самоотверженное. Всей душой она была предана своему мужу-художнику.
Итак, состоялось мое знакомство с Суриковым, потом оно крепло. Василий Иванович стал иногда заходить к нам в номерок, и, кажется, ему было приятно бывать у нас. Жена была всем мила, всем она нравилась своей простотой, задушевностью и молодостью. В это время часто бывал еще Сергей Васильевич Иванов, тогда молодой, горячий, нарочито грубоватый, полный планов и бунтарских идей. Ему тоже очень нравилась моя Мария Ивановна. Да и вообще к нам охотно заходили молодые приятели.
Славно жилось тогда нам. Однажды я узнал, что весной, в мае, я буду отцом. Стали строить планы, один другого увлекательней, наивней. И как тут была оживлена, изобретательна будущая счастливая мать!
Как-то поздно ночью к нам в номер тревожно постучали, и на мой вопрос: «Что такое?» – мы услышали: «Горим, вставайте!» Поспешно мы встали – горел пятый этаж над нами, мы были в четвертом.
Без суеты успел я вынести весь наш скромный скарб. Жену удалось спокойно вывести и устроить в безопасном месте, после чего потолок нашего номера провалился, и наш номер тоже сгорел. Сгорело два этажа большого дома. Мы временно перебрались в другие меблированные комнаты наискось и там оставались до того времени, когда нас водворили в свободный номер нашего дома. Это печальное обстоятельство не оставило по себе тяжелых следов. Жена была здорова, и все снова вошло в свою колею.
Кроме большой картины, я писал тогда к ученической выставке картину малых размеров – «В мастерской художника». Позировала мне в качестве модели моя Мария Ивановна, а художником был приятель – скульптор Волнухин. Картина вышла несколько иной, чем мои предыдущие жанры. Но так как я свою модель обнажил, хотя и очень скромно, а по тем временам это было не принято, то мне было сделано соответствующее внушение. Картина успеха не имела, и я подарил ее сестре моей жены [86]86
Местонахождение картины «В мастерской художника» (1885) неизвестно.
[Закрыть] .
А между тем время шло да шло. Вот наступил и 1886 год, навсегда мне памятный…
Большую картину вчерне я написал. Надо было ее кончать – в маленьком номере тесно, отойти некуда. Как-то встретил Иллариона Михайловича Прянишникова, спрашивает, как дела? – говорю ему, как дела. А он и предлагает мне перенести картину в Училище, в свободную мастерскую. Конечно, я ухватился за это предложение, и вскоре картина моя была в огромной мастерской наверху, где архитектурные классы. Стал кончать, ко мне стали заглядывать не только ученики, молодые художники, но и наши мэтры. Чаще других – Прянишников. Как-то раз входит он не один. С ним артиллерийский полковник, очень приятного вида. Это был Николай Александрович Ярошенко. Прянишников представил меня ему, сказав: «Это наш будущий передвижник».
Я был очень доволен этим посещением, положившим начало самых дивных отношений между мной и Ярошенками на многие годы, на всю нашу жизнь.
Вот и весна подошла. Скоро надо ставить картину на суд. Я ею не был доволен. Чувствовал, что не справился, хотя, по тем временам, затея и была смелая, но не того я ждал. Вышло как-то внешне, неубедительно, хотя, быть может, и красиво.
Время от времени заходила жена. Ну, ей-то картина нравилась, хотя она иногда и говорила шутя: «Ты не мой, Мишенька, ты картинкин».
И то была правда – я весь был в картине, в заботах о ней, о ее судьбе и только, когда не был в мастерской, вспоминал о другом, о предстоящем скоро более важном событии, чем получение большой серебряной медали, чем звание классного художника. Таковы-то в большинстве мы, художники… в этом надо, к сожалению, сознаться.
Наступил и день суда, 12 мая. Картину снесли вниз, поставили в натурном классе с другими вещами, представленными на большую серебряную медаль. Что-то Бог даст…
Все обошлось хорошо. Медаль и звание я получил, я – «классный художник», впереди неясно, но надежд много… Как знать, может быть, и в самом деле когда-нибудь и передвижником стану… Всякое бывает…
Отпраздновали мы мой успех, были пельмени, вспоминали Уфу. Весело прошел день, беззаботно. На другой день вздумали побывать в Сокольниках. Всю дорогу туда и обратно моя Маша была особенно оживлена. Шалости не прекращались. Она была так интересна в своей большой соломенной шляпе с шотландскими лентами, так к ней шло ее простенькое, как всегда, платьице. Она взяла мою палку, шла под руку со мной и болтала так заразительно, что все встречные смотрели на нее с явным сочувствием, а некоторые говорили: «Как мила!» Так памятен этот ясный, солнечный день мне до сих пор. Это было 13 мая.
Смерть жены. «Христова невеста»
27-го мая, утром жене стало худо, и мы с ней отправились к заранее ею выбранной, по особой рекомендации, акушерке, где она и должна была остаться. День прошел в страданиях, к вечеру же Бог дал дочь Ольгу. Этот день и был самым счастливым днем моей жизни… Я бродил, помню, по набережной Москва-реки, не веря своему полному, абсолютному счастью, упиваясь им, строя в своем восторженном состоянии планы один другого счастливее, радостнее. Так было до следующего утра…
А утром, утром я узнал, что появились за ночь тревожные признаки. Был вызван доктор, вышел от больной серьезный. По лицам окружающих было заметно, что что-то неладно. Жена, к которой меня, наконец, пустили, сильно за ночь и день изменилась, осунулась, мало говорила. Позвали лучшего тогда в Москве профессора Чижа. Он вышел мрачный, я стал догадываться…
Всю ночь молился. Рано на рассвете был у Иверской. Быть может, впервые понял все, молился так, как потом уже не молился никогда. И Бог не оставил меня, не отнял у меня веры в Его величие, не ожесточил души моей, а просветил ее Своим Светом…
Было тогда воскресенье, Троицын день, ясный, солнечный. В церкви шла служба, а рядом, в деревянном домике прощалась с жизнью, со мной, со своей Олечкой, с маленькой Олечкой, как она звалась заранее, моя Маша. Я был тут же и видел, как минута за минутой приближалась смерть. Вот жизнь осталась только в глазах, в той светлой точке, которая постепенно заходила за нижнее веко, как солнце за горизонт… Еще минута, и все кончилось. Я остался с моей Олечкой, а Маши уже не было, не было и недавнего счастья, такого огромного, невероятного счастья. Красавица Маша осталась красавицей, но жизнь ушла. Наступило другое, страшное, непонятное. Как пережил я эти дни, недели, месяцы?
Похоронили мою Машу в Даниловом монастыре, на той дорожке, где лежал другой дорогой мне человек – учитель мой В. Г. Перов. Еще на Пасхе мы с Машей были здесь у Перова, сидели, говорили, а теперь вот и она тут лежит… Так все скоро, так все неожиданно, страшно…
А Олюшка… Что она? Где она? Еще Маша лежала в церкви, в Москву приехал дядюшка Кабанов и, узнав в номерах, что случилось, сейчас же был около меня. Он предложил увезти тотчас же девочку к себе в имение, в Тверскую губернию. Там было много народа, женщин, там девочке будет хорошо, будет кому с ней нянчиться.
Дядюшка Кабанов был добрый человек, и вот он достал плетеную корзиночку, уложил в нее мою дочку и увез ее. На Николаевском вокзале, пока ждали поезда, он обронил деньги и тут же загадал: если найдет, то все будет благополучно. И нашел их. Пришлось, однако, чтобы долго не ждать, поехать в товарном поезде. И вот дорогой внезапно загорелся тот самый вагон, где ехал дядюшка со своей корзиночкой. Однако и на этот раз все обошлось благополучно, и девочка приехала в Лукосино, где ее окрестили и где она оставалась до осени, когда ее взяла к себе в Петербург сестра покойной жены Е. И. Георгиевская.
Я остался в Москве, потом уехал в Уфу, но остановился не у отца, а у брата покойной жены. Тогда, казалось мне, иначе поступить я не мог.
Осенью снова был в Москве. Часто то один, то с С. В. Ивановым бывал в Даниловом монастыре. Хорошо там было. Тогда и долго потом была какая-то живая связь с тем холмиком, под которым теперь лежала моя Маша. Она постоянно была со мной, и казалось, что души наши неразлучны.
Под впечатлением этого сладостно-горького чувства я много рисовал тогда, образ покойной не оставлял меня: везде ее черты, те особенности ее лица, выражения просились на память, выходили в рисунках, в набросках. Я написал по памяти ее большой портрет такой, какой она была под венцом, в венке из флердоранжа, в белом платье, фате. И она как бы была тогда со мной [87]87
Этот портрет был впоследствии уничтожен художником; остался лишь фрагмент – голова М. И. Нестеровой. Находится в частном собрании (Москва).
[Закрыть] .
Тогда же явилась мысль написать «Христову невесту» с лицом моей Маши… С каким сладостным чувством писал я эту картину. Мне чудилось, что я музыкант и играю на скрипке что-то трогательное до слез, что-то русское, быть может, Даргомыжского.
В этой несложной картине тогда я изживал свое горе. Мною, моим чувством тогда руководило, вело меня воспоминание о моей потере, о Маше, о первой и самой истинной любви моей. И еще долго, на стенах Владимирского собора я не расставался с милым, потерянным в жизни и обретенным в искусстве образом. Любовь к Маше и потеря ее сделали меня художником, вложили в мое художество недостающее содержание, и чувство, и живую душу, словом, все то, что позднее ценили и ценят люди в моем искусстве.
«Христову невесту» я начал писать на глютене, составе, на котором, тогда говорили, писал Семирадский в храме Христа Спасителя. Состав этот дает приятную матовость. Но когда картина была почти готова, кто-то сказал мне, что матовость-то глютень дает, да краска потом лупится. Подумал я, подумал да и начал картину на другом холсте без глютеня и с измененным пейзажем. Первая картина была на ученической выставке, и потом я подарил ее своим родителям. Вторая, спустя несколько лет, появилась на Периодической выставке в Москве и была приобретена Великим Князем Сергеем Александровичем [88]88
Первый вариант картины «Христова невеста» («Девушка-нижегородка»), бывший на 10-й ученической выставке Московского училища живописи, ваяния и зодчества в 1887 г., находится в частном собрании (Москва). Местонахождение второго варианта картины (приобретен вел. кн. Сергеем Александровичем), воспроизведенного в монографии С. Глаголя (см.: М. В. Нестеров. Жизнь и творчество. Русские художники. Собрание иллюстрированных монографий под ред. И. Грабаря), неизвестно.
[Закрыть] .
В ту зиму я стал бывать на вечерах у В. Д. Поленова. Он жил тогда где-то у Зоологического сада, в старом барском особняке, расположенном посреди большого двора. Тут же был и сад. Я впервые увидел обстановку и жизнь еще мне незнакомую, стародворянскую.
Собиралось нас довольно много. Тут бывали Левитан и К. Коровин, кажется Головин и еще кто-то. Рисовали кого-нибудь из присутствующих или натурщика. Помню, позировал Левитан в белом арабском балахоне, который очень шел к его красивому восточному лицу. Рисовал и сам Василий Дмитриевич, рисовала Елена Дмитриевна Поленова.
Потом бывал чай. Мы шли в гостиную, где около большой лампы под огромным белым абажуром в глубоком кресле сидела старушка – матушка Василия Дмитриевича, которая по-барски, но весьма благосклонно с нами здоровалась и вела беседу.
Вся эта обстановка мне очень нравилась, чем-то веяло тургеневским, очень мягким, благообразным и стройным. Помню, несколько раз и Поленов навешал меня в эту зиму.
А то вот еще что помню: однажды под вечер наш швейцар Иван доложил мне, что меня спрашивает какая-то молодая дама в трауре. Я просил ее впустить. Вошла бледная особа вся в черном, с книжками в руках. Назвала какую-то польскую фамилию, а затем, когда я просил ее сесть, недолго думая, сообщила мне, что она знает о моей потере, что она тоже потеряла близкого человека, что понимает мое душевное одиночество, и пошла, и пошла… Я слушал, разинув рот. Она много говорила о просвещении ума и сердца, об идеалах и, в конечном итоге, предложила мне «вместе читать». Прощаясь, оставила мне свои книги, сказав, что зайдет и тогда мы побеседуем о прочитанном. Что-то говорила о Ришелье, о Мазарини, выказала «ученость», которой я не остался доволен. Моя романическая незнакомка обещала ко мне заглядывать, чтобы я не скучал. По уходе ее я пораздумал о своем положении и решил в ближайшее же время с этими визитами покончить. Незнакомка недолго заставила себя ждать. Явилась, но узнав, что книги ее я не разрезал, и встретив холодный прием, ушла недовольная. Явилась еще однажды, а затем уж больше не являлась, и чтение вдвоем так и не состоялось.
В ту же зиму я написал по заказу из Кяхты исторический жанр: «Первая встреча царя Алексея Михайловича с боярышней Марией Ильиничной Милославской». Вещь эта ничего оригинального или художественного в себе не имела. С нее и было сделано мной повторение для отца моего приятеля – Турыгина [89]89
Местонахождение обоих вариантов картины «Первая встреча царя Алексея Михайловича с боярышней Марией Ильиничной Милославской» (1886–1887) неизвестно.
[Закрыть] .
Но о чем я чаще и чаще стал задумываться – это о том, чтобы написать то, что я недавно пережил, – смерть моей Маши, ее последние минуты. Я начал делать эскизы. Они меня более и более вовлекали в эту близкую, хотя и тяжелую тему [90]90
Нестеров не закончил и впоследствии уничтожил картину «Смертный час» (1887).
[Закрыть] .
На Рождество я ездил в Петербург, чтобы повидать мою дочку. Она была уже крепкая, славная девочка и еще больше, чем когда родилась, лицом напоминала покойную жену. Обстановка, где девочка находилась, мне не была по душе. Это была семья, где бывало много денег, но не было ни семейного лада, ни более или менее высоких стремлений. Тройки, Острова, благотворительные базары наполняли жизнь красивой, но праздной женщины, которая в это время должна была заменять мать моей девочке.
Так прошла зима 1886–1887 года.
Я забыл сказать, что вскоре после смерти жены я получил очень хорошее, сочувственное письмо от сестры, но оно было лишь от нее. Мои родители ничем своего сочувствия моему горю не выказали, и все оставалось в продолжение года по-прежнему.
Однако летом внезапно под напором сознания, что все мои беды, все мое горе и несчастье произошли от моей вины, что они были мне посланы во искупление моего греха, моего своеволия, за то, что я не исполнил волю своих стариков, женился без их согласия, без их благословения. Эта мысль томила меня. От нее я не мог отделаться, пока внезапно не решил поехать в Уфу просить моих, тоже измученных, хотя и безмолвствующих стариков простить меня. Мне нужно было верное сердце, сердце матери.
И я недолго собирался… Вот Нижний, вот знакомые пристани: Самолетская, Меркурьевская, Курбатовская. Вот и наши – Бельские. У сходней знакомая и любезная надпись: «Сегодня в Уфу». Я на пароходе. Скоро наш «Витязь» отошел от конторки и «побег на низ».
Дорогой я думал об одном, как приеду я, как этот неожиданный приезд мой будет принят, и сердце говорило, что все будет хорошо. Мать все поймет, на то она и мать, чтобы все понять, все простить, все своей любовью исцелить.
Вот замелькали родные с детства берега извилистой Белой. Опять Дюртули, Бирск, а там и пристань. Меня никто не встречает. Выхожу на берег, много знакомых, но наших лошадей нет. Никто не знает, что я здесь. Беру извозчика. Странно ехать в Уфе и не на своих лошадях. Не так я приезжал в свою Уфу в старые годы. На сердце неладно…
Вот и дом, ворота открыты. Извозчик въезжает, и вижу мать… Она тоже увидала. Оба разом бросились друг к другу. Так и замерли во взаимных объятиях. Все было забыто, все прощено… Опять нашли один другого. Слезы, но слезы радости, облегчения…
А там в дверях сестра, отец. Общее семейное счастье… А что было потом, сколько было сказано такого, что таилось в самой глубине сердца. И там, в Уфе я опять горячо молился, благодарил Бога за новую помощь, за новую ко мне милость Его. И пошли счастливые дни. Расспросы, самые любовные расспросы обо всем дорогом: об Олюшке, об искусстве… Какие дивные были те дни для меня!








