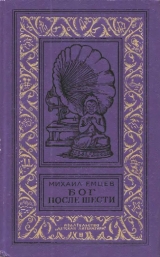
Текст книги "Бог после шести(изд.1976)"
Автор книги: Михаил Емцев
Жанр:
Научная фантастика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 16 страниц)
13
В конце рабочего дня Люська была готова к предстоящему ответственному свиданию: подмазала короткие жесткие ресницы, подровняла ногти, осмотрела и привела в порядок костюмчик, в котором, во всяком случае, уже ничего нельзя было изменить. Выпросила у сотрудницы отдела Веры новенькую сумочку на один раз для настоящего свидания. Вера, девушка энергичная и резкая, спортсменка и общественница, вытряхивая из сумочки содержимое, ухмыльнулась:
– Для настоящего? А те, что раньше, были ненастоящими?
Этими словами она испортила Люське радость, полученную от кратковременного владения красивой сумочкой. Девушка сникла, и на лице ее проступила бледность. Знакомая, тщательно скрываемая от всех, но всегда присутствовавшая боль или, точнее, ожидание этой боли кольнуло сердце. Люська загнанно оглянулась, надеясь, что остальные женщины не слышали ехидных слов. Но, как и всегда, бутерброд упал маслом на пол: все отлично услышали всё и тотчас отреагировали.
– За последнюю неделю наша малышка выбралась на путь истинный, – неопределенно и, как всегда, доброжелательно отозвалась высокая, светловолосая Елена.
Она совсем недавно развелась с мужем и осталась с маленьким сыном. Лена относилась к Люськиным похождениям снисходительно и покровительственно. Лена училась в вечернем институте, готовила диплом, и она отрывала каждый лишний час от возни с бумажками в отделе, чтобы позаниматься. Казалось, несмотря на неудачную семейную жизнь, она спокойно и уверенно смотрит в будущее. У нее есть ребенок, любимый человек, интересная специальность, и она не торопилась менять свою жизнь, пока не получит материальную самостоятельность. Вера тоже была не злой, но ее подводил острый язык и некоторая размашистость, присущая той среде, где она проводила все свои вечера после работы. “Она с гантелями даже на работу приходит”, – говорили о ней в отделе. “И с штангой спать ложится”, – говорили другие, не менее доброжелательные сотрудники, но эти колкости мало трогали Веру, полностью ушедшую в любимый спорт.
– Отличить настоящее свидание от ненастоящего никто никогда не может, – рассудительно заметила сидевшая у окна Катя, – это становится ясно намного позже, через много-много лет.
Катя, или, как ее по-польски величали, Кася, была самой уютной и благополучной в этой комнате. Жизнь ее с мужем и двумя детьми текла ровно, гладко, в больших и мелких заботах. Но заботы и треволнения ее никогда не превышали нормы благополучия. Разве чуть-чуть отклонялись, когда дети начинали болеть. Странное дело, эта милая, теплая и, в общем, очень добрая женщина вызывала у Люськи инстинктивное и непрестанное раздражение. Ей казалось, что весь вид Каси в ее всегдашней вымытости и выстиранности является упреком Люськиному образу жизни. Когда она смотрела на розовую Касину щеку и докторские очки в позолоченной оправе, досадливая тоска врывалась в Люськино сердце.
– Девушки, немедленно прекратите, вы мне мешаете! – сказала Инна Николаевна, руководительница их отдела, пожилая, очень красивая в прошлом женщина.
Перед Инной Николаевной Люська преклонялась. У их начальницы была романтическая, сложная и роскошная, по мнению девушки, жизнь. С выездом за границу, среди известных людей из высших кругов искусства. И, наконец, прекрасная трехкомнатная квартира в центре города, обставленная дорогой мебелью.
Люське иногда казалось, что вот как-нибудь Инна Николаевна встанет и уйдет из их конторы особым, каким-то парящим шагом. Люди будут расступаться и указывать на нее пальцами и шептать ее имя как какой-нибудь знаменитой артистки. Но обычно ничего такого не происходило. Инна Николаевна по-прежнему сидела и считала цифры, составляла отчеты, а после работы вместе со всеми неслась в продовольственные магазины, напихивая в сумки и авоськи нужные семье продукты. Люська просто не знала, вернее, воображение девушке мешало понять очевидное: Инна Николаевна была только иллюзией респектабельности и красоты. Во времена молодости ей удавалось эту иллюзию поддерживать у окружающих настолько, что однажды ее начальник обратил на нее внимание. И она стала его женой. С годами осталась лишь форма, мало соответствующая содержанию. А содержание Инны Николаевны было настолько обычным, заурядным, что даже высокий чин мужа не мог изменить его.
Люська присела за свой стол, чувствуя, как дрожат губы. Напрасно она подкрашивала их и искусственно взбадривала себя. “Ну что ты, дурочка!” – говорила она себе и улыбалась.
За всю свою бесшабашную жизнь Люська впервые попадала в такую ситуацию. Раньше она не дорожила ничем: ни собой, ни отношением к себе, ни чувствами других людей. Да она и не видела возле себя стоящих чувств. Это позволяло ей жить или, как она говорила, гулять, как бог на душу положит. И за эти двадцать два года бог положил ей на душу многое. Ей казалось, что она поняла, вернее, увидела и узнала жизнь. Но это было пустое знание, оно прошло мимо нее. “У меня нет прошлого”, – говорила девушка. Она жила веселой весенней птицей, готовая без конца щебетать, смотреть и удивляться. Она была счастлива по-своему, на особый лад. Чувство к Виктору обрушилось на нее подобно снегопаду. Оно засыпало ее, мешало дышать, придавило.
И вот тогда девушка почувствовала, что у нее, как ни грустно, есть прошлое. Прошлое, которое возродилось в самый трудный миг настоящего. Этим прошлым были множественные свидания, романы и романчики, о которых лучше не вспоминать. Сейчас, когда не нужно, прошлое возродилось и Люська пребывала в смятении.
Неожиданное чувство к Виктору переродило ее. Она стала другой. Она вдруг обнаружила, что, к своему удивлению, должна отвечать за поступки и поведение девушки, которая носила ее имя и фамилию и была совсем чуждым ей человеком. Никто не понимал ее состояния, и намеки подружек выводили Люську из привычного состояния доброго, улыбчивого отношения к миру. Она обижалась, хотя понимала, что обиды ее бессмысленны.
Раздался звонок. Люська задвинула ящик письменного стола, сложила бумаги, перетащила их на стол Инны Николаевны, вприпрыжку помчалась в гардероб. Хлопнула дверь, толпа сотрудников вынесла Люську на мостовую.
В лицо ударил крупный мокрый снег. Девушку подхватила волна людей, одолевающих трудности часов “пик”. Люська взяла левее от тротуара, перевела дух.
“Хоть и не в первый раз иду к нему я на свидание, а за спиной у меня крылья и на глазах слезы”, – придумала она фразу, и она ей очень понравилась. “За спиной крылья, на глазах слезы, а в душе страдание”. Люська выдохнула воздух, энергичным маленьким штопором ввинтилась в толпу, осаждавшую троллейбус.
В троллейбусе тесно и душно. В шубах и зимних пальто пассажиры были неповоротливы и сердиты. Люська протиснулась к билетной кассе. Там и осела, прижимаясь вздернутым носиком к стеклу кабины водителя, с нетерпением ожидая свою остановку. Наконец в матовом от влаги стекле она увидела силуэты знакомой станции метро, у которой должен был находиться он. Она выпорхнула из троллейбуса и занялась собой. Оправляла крылышки, помятые в транспорте, восстанавливала радостное и светлое ощущение, не покидавшее ее при встрече с Виктором. Часовая поездка вытряхнула из Люськи восторг и высокие эмоции. Девушка помрачнела, исчезла приподнятость. Она прислонилась к колонне и стала раздумывать над своим положением. Вдруг ей показалось, что все это зря и ничего нового в ее отношениях с Виктором не будет. Ее надежды были детскими, а суета напрасной. Девушка почувствовала себя уставшей и немолодой. И тут боковым зрением она увидела Виктора. Высокий, сильный, с правильным, чистым лицом, он шел медленно и спокойно. Люська сорвалась со своего места из-за колонны, бросилась к нему навстречу, но тут же остановилась. “Нельзя так, – сказала она себе. – Нельзя. Никак нельзя”.
Когда Виктор подошел к ней, наклонился, потому что он был выше ее на полторы головы, она закрыла лицо руками, и меж пальцев девушки проступили черные слезы.
– Ты что, ты что? Случилось что-нибудь?
– Нет, – сказала она, – это я от радости. Мне тут сдуру показалось, что я уже… что у меня ничего… И тут я увидела тебя. И теперь я очень счастлива.
Девушка схватила его руки, приложила к лицу, и он почувствовал, что она целует ладонь. Виктор резко отдернул руки. Люська вдруг закричала:
– Боже, какая я сумасшедшая! У меня ж вся краска расползлась, правда?
– Правда, – сказал Виктор, – правда. Ты похожа на первоклашку, которой позволили писать чернилами, макая ручку в чернильницу.
Люська засмеялась.
Они вышли из метро и попали на городские горы. Это были не горы, а небольшие холмики над рекой, текущей по центру города. Но, с другой стороны, это были настоящие горы: ведь сюда приходили все, кто хотел уединиться, хоть немного приобщиться к природе.
Люся и Виктор стали гулять, то есть бестолково и бессмысленно плутать по утоптанному снегу дорожек, которые никуда не вели, а все время сворачивали вниз, на набережную, где дул холодный мокрый ветер декабрьской оттепели и гуляли пожилые дамы с собаками в вязаных тулупчиках. Разговор у Виктора с Люськой шел самый обычный, какой бывает у влюбленных:
– Ты знаешь, когда тебя нет, мне многое нужно сказать, а когда вижу тебя, все забываю.
– Я тоже только дома вспоминаю, что я должен был тебе сказать при встрече.
– Но так же нельзя! Мы только ходим и смеемся, как дурачки.
– Но разве умные люди не смеются?
– Смеются, но не так, как мы.
– Умные люди смеются скучно. Да, очень скучно и очень умно. А поэтому умные люди смеются глупо.
– Да, пожалуй! Может, в этом и есть правда.
– Расскажи мне что-нибудь о себе.
– Да что же рассказывать? Вот весь я перед тобой. Да и рассказывал я.
– Да, рассказывал, но я не помню. Я помню лишь одно: что ты есть. Вот это я помню всегда.
– Ты мне лучше сама расскажи о себе.
Они присели на обледенелую лавочку, смотрели вниз на черное, лишенное льда, вздрагивающее мелкими волнами покрывало реки. От поверхности воды поднимался тяжелый, густой пар. Люся сказала, подумав:
– Это, наверное, даже плохо…
– Что плохо? – заинтересовался Виктор.
– Я думаю о тебе постоянно, страшно и всё время.
Виктор помолчал, осторожно спросил:
– Почему ты меня к себе не приглашаешь? Мы все по паркам да по горам бегаем, как волки бездомные.
Люся отвела взгляд. “Начинается, – подумала она. – Вот и все. Догорает наша поэзия”.
– Ты же знаешь, какая я… не могу себя побороть, боюсь, сама не знаю чего, боюсь. Да и дома у меня нехорошо. А так, конечно… – Она протянула руку, нащупала пальцы Виктора, осторожно погладила.
Но юноша был настроен решительно. Он сжал ее руку и похлопал ею по своему колену.
– Ну что ж, не к тебе, так ко мне. У меня мать человек невредный. Отец строгий, но он дома почти не бывает. Все на предприятии пропадает.
– Мать, – сказала Люся задумчиво. – Конечно, мать – человек, который все понимает. У матерей глаз зоркий. Они для любимого сыночка выберут кусок пожирней, одежду помодней, невесту покрасивей. Они, матери, конечно, понимают…
Она оборвала себя и замолкла. Тихо смотрела на черную воду реки. В реке с тем же унылым постоянством колебались отражения длинных фонарных столбов. От матери не скроешься. Все увидит, разузнает. И тут ей, Люське, придет очередная стопроцентная крышка. Господи, как же раньше все было легко! Да неужели ж она обречена любить этого синеглазого длинновязого парня? Вот сейчас она встанет и пойдет, бросит обычное: “Пока! Позвоню!” – и продолжит свою веселую, беззаботную жизнь, в которой так просто и счастливо живут люди. К притворяшкам пойдет или еще куда. Мало ли мест на свете, где можно отдохнуть еще не старой девушке!
Она подняла глаза и снова спрятала их под накрашенными ресницами. С какой-то болью ощутила она мысль: никуда ей не уйти от этого парня. Он, если захочет, уйдет, а она останется при нем. Она обречена на странную, невесть откуда взявшуюся верность этому человеку.
Обречена! Какое страшное, какое рабское слово! Незнакомое, неведомое ранее ей слово. Смешно сказать, что в этом слове заключено для нее, Люськи, даже какое-то удовольствие. Запретное удовольствие: быть рабом любимого человека.
И от всех этих мыслей и чувств, от состояния невыразимой тоски и странного наслаждения она пришла в истерическое возбуждение. Ей хотелось что-то сделать, но она не знала, какие силы нужны на преодоление этого сложного чувства.
Она произнесла несколько раз подряд глухо, без вся-го выражения:
– Если бы ты знал, как я тебя люблю! Если б ты только это знал!
Виктор глядел на Люську искоса. Доброе покровительственное чувство охватило Виктора. Какая она все-таки беспомощная и трогательная! Ей повезло, что она нарвалась на него, на Виктора. Другой бы, наверное, стал обижать кроху. Но он не может себе этого позволить. Не так воспитан. Он улыбнулся и обнял девушку за плечи.
– Да не волнуйся ты, не расстраивайся. Не поведу я тебя к своим родителям. Раз боишься чужого взгляда – и не надо, ничего не надо делать. Так и будем мы с тобой скитаться по метро, паркам и кинотеатрам, пока не состаримся.
Он засмеялся и потряс Люську за плечи. Та слабо и нерешительно улыбнулась в ответ.
– Все будет очень хорошо. Все устроится наилучшим образом. Самое главное, как говорят притворяшки, берегите высокий уровень настроения. Все устроится.
Девушка недоверчиво покачала головой, печально сказала:
– Ой, что-то не верится! Это раньше мне все удавалось, а теперь, когда я начала бояться, все из рук валится. Как-то не так идет, как хотелось бы…
…Чтобы согреться, они бегали по дорожкам парка, скользя и спотыкаясь на льдистых буграх, обледеневших склонах; потом, согревшись, проголодались и подкреплялись мороженым; затем колесили в метро от станции к станции, и уже поздно вечером попали на последний сеанс в кино, где молодая пара на экране в течение полутора часов выясняла отношения. Расстались они за полночь, и Люська возвращалась домой притихшая, утомленная, разочарованная. Последние дни ей все время казалось, что она поступает не так, как надо. Впервые в жизни к ней пришло большое, настоящее чувство. Его следовало удержать, сохранить. Но Люська не знала, как это делать. Советы окружающих просто раздражали ее. Холодные, чужие, чем-то вредные слова – пустое сотрясение воздуха. Люська затыкала уши, когда ей начинали советовать многознающие подруги. Она мотала головой и отвергала весь предшествующий опыт человечества, не могла она использовать этот опыт. У человечества была своя история, у нее, Люськи, – своя. И она должна была все решать сама. Решать и поступать. Но как?
Возвращаясь домой, Виктор тоже раздумывал о своих отношениях с девушкой. Но мысли его текли иначе, более уверенно и спокойно. Люська вызывала у него чувство доброй, прощающей нежности. Странный, милый человек. Рядом с ней он чувствовал себя чуть ли не богатырем: все было ему по плечу, все удавалось, не существовало преград. Как это ни смешно, маленькая, хрупкая Девочка – пятьдесят килограммов костей и немного кожи (он поддразнивал ее так) – придавала ему больше уверенности в своих силах, чем бодрые увещевания родителей и родных, Виктор знал, что должен выглядеть и поступать, как сильный, настоящий мужчина, потому что этого от него ждала маленькая, хрупкая девушка.
Нет, все было отлично! Виктор весело поддел носком ботинка рассыпчатый кусок снега: жизнь определенно устраивалась наилучшим образом.
14
Уже на третий день Янка знала, что за ней идет слежка. Слишком неумело, непрофессионально это делалось. Впервые подозрительного человека она заметила, отправляясь в булочную возле своего дома. Магазин самообслуживания был стандартным. Там всегда пахло свежевыпеченным хлебом и толпились придирчивые покупатели, приминавшие металлическим двурожьем батоны и ситнички.
Янка скептически фыркала: ведь все равно пальцы и ладони трогающих нависали над хлебом и, по мнению девушки, все это было негигиенично и неприятно… В то памятное утро она распахнула дверь своей квартиры и чуть не столкнулась нос к носу с маленьким мужчиной в каракулевой ермолке. Старик внимательно вглядывался в номер квартиры, приложив к глазам очки-пенсне.
– Вам кто-нибудь нужен? – спросила Янка.
Старичок помолчал, потом сказал:
– Нет, никак нет. Я ошибся номером. Отвернувшись от Янки, он стал медленно подниматься на следующий пролет.
Девушка посмотрела ему вслед и вприпрыжку понеслась по ступеням вниз, к выходу.
На лестничной площадке что-то задержало ее, Янка оглянулась. Старичок стоял у перил и глядел ей вслед. На этот раз он уже не прижимал очки к глазам, рука его оглаживала дерево перил. Янка вспорхнула, помчалась дальше. Она, как всегда, торопилась. Случай был незначительным, но было в нем что-то привлекшее внимание девушки. Потом, анализируя свое ощущение, она очень четко определила, что насторожило ее. Запах. В тот момент, когда она выскочила на лестничную площадку и столкнулась с неизвестным, ее поразил удивительно знакомый и неприятный запах. На нее пахнуло старой, пропитанной нафталином одеждой. Родители Янки были военные, и девочке пришлось много переезжать из одного города в другой. Запах нафталина был примечательным: когда они жили у бабушки, матери отца, этот запах был вездесущим, и Янке казалось, что он проникает даже в густые украинские борщи и свиные отбивные, которые так вкусно готовила старуха. Запах нафталина был для Янки символом детства, и поэтому любопытствующий пенсионер на лестнице врезался девушке в память. Потом она часто его видела. Он попадался в булочной, куда Янка обязательно забегала за любимыми рогаликами. Встречался на троллейбусных остановках, где Янка садилась в машину, идущую в институт. Но все это не вызывало у Янки особых волнений, пока она не встретила пенсионера возле здания института. Старичок приобретал апельсины у розничного лотка. Янке показался подозрительным его быстрый взгляд. В этом взгляде было слишком много нарочитого равнодушия и бесстрастности. “Что он путается на моей дороге?” – подумала Янка.
Слежка? За ней, за Янкой? Эта мысль сначала показалась девушке нелепой. “Кому это надо? Мало ли кому…” Идя в райком, где она работала внештатным инструктором, Янка восстанавливала в памяти приметы увиденного ею человека, приметы загадочного сыщика.
Друг или враг? Янка не знала, но мысль о слежке будоражила девушку. По своей натуре Янка была борцом, борьба и азарт пьянили ее, давали ей чувство полноты жизни. Правда, слишком ничтожен был в данном случае повод для волнения – какой-то пронафталиненный сыщик! Янка повертела головой, как бы отгоняя от себя никчемную и смешную мысль. Но почему тогда он вертится у нее под ногами? Ведь институт, где Янка училась, находился довольно далеко от дома. И случайно этого человечка туда занести не могло. А вдруг действительно случайность?
Но Янка мало верила в такую случайность. Ничтожна вероятность подобных событий. Шагая к райкому, Янка рассуждала, как ей казалось, вполне логически. Логика говорила за то, что следить за ней некому и незачем. А жизнь показывала иное, противоположное. Янка растерялась. Когда она подошла к подъезду райкома, ей так и не удалось доказать себе, что пронафталиненный сыщик – всего лишь продукт ее взволнованного воображения, что этот тип – из породы неутомимых пенсионеров, которые шныряют по всему городу и могут появиться в любой точке, в самом неожиданном месте. Случайный и пустой свидетель ее, Янкиных, похождений, казался ей и не случайным и не пустым. Так было страшнее, поэтому интереснее. Ей так хотелось.
В райкоме ее ждали неприятности. Сразу же она встретилась с Гришей Клочковым, и тот хмуро сказал:
– На ловца и Яна бежит. Ты мне нужна. Зайди часикам к шести, нужно поговорить.
В своей комнате за маленьким столом, стоящим у окна, Янка провела неприятные тридцать минут в ожидании разговора с Гришей. Она перекладывала с места на место бумаги. Написала два ответа на письма, но сердце ее все время было не на месте. Янка боялась и любила Гришу. Он представлялся ей самым правильным и самым деловым человеком в мире. Она не хотела себе признаться, что Гришина деловитость, его ум и распорядительность в сильной мере подкреплены респектабельной внешностью секретаря. От него шла спокойная, уверенная волна собственной значительности. Разговор Янки с ним мог носить два важных для девушки направления – либо секретарь предложит ей работу, о которой она давно мечтала, связанную с частыми разъездами в новые места, либо произошло что-то неприятное. Яна припомнила своего пронафталиненного сыщика и подумала, что между Гришиным вызовом и этим человеком может оказаться какая-нибудь связь. Какая именно, угадать трудно, но девушку не покидало предчувствие надвигающейся опасности.
Когда она вошла в кабинет секретаря, Клочков посмотрел, как показалось Янке, на нее с интересом и сдержанным удивлением.
– Садись, – хмуро сказал он. – Тут на тебя бумага пришла, почитай.
Янка взяла сложенный вдвое лист бумаги, явно вырванный из школьной тетради, и стала вникать в смысл отпечатанного на машинке через два интервала послания, в котором разоблачалась двойная жизнь Яны Смолич, студентки технологического института.
“А по вечерам ваш работник идеологического фронта, – писалось в этом письме, – приобретает облик совсем другого человека. Ее можно видеть в самых злачных местах города. Там, с наклеенными ресницами, в шиньоне, в расклешенных по последней моде брюках, в компании самых вульгарных представителей нашей молодежи, она ведет себя так, будто для нее не существует законов приличия и норм общественного поведения. Яна С. водится с самыми отпетыми личностями. В частности, она поддерживает дружбу с выгнанным из нашего института студентом художественного факультета неким Олегом Шешлевичем по кличке Худо, который неоднократно привлекался к ответственности за недостойное поведение. Ее можно встретить…”
Дальше шел перечень мест, в которых можно было встретить Янку после шести часов вечера. Пробиваясь сквозь общеизвестные формулировки “позорит имя”, “привлечь общественное внимание”, “недостойна звания комсомолки”, Янка добрела до конца письма и узрела подписи: всё знакомые фамилии студентов-однокурсников, однокашников группы, в которой она училась.
Янка хмыкнула и положила письмо на стол.
– Хорошие ребята, – сказала она, – только жаль, что со мной не поговорили.
Клочков посмотрел на нее:
– Тебе весело? Так поделись со мной, может, я тоже посмеюсь.
– Тут, конечно, многое зависит от чувства юмора, – сердито сказала Янка, – а, впрочем, может быть, и ты посмеешься. Дело простое, хотя, конечно, не совсем уж простое.
– Думаю, тут не все просто, – вставил Клочков.
– Возможно. Но я хочу объяснить фактическую сторону. Когда-то я получила от тебя задание расширять и углублять борьбу с пережитками. На меня в институтском комитете возложили почти всю атеистическую пропаганду. Ну, в институте дело это было несложное – верующих там мало, то есть практически нет никого, – так что работу я вела формально: лекции, иногда интересные экскурсии, а так делать мне было нечего. Но потом я кое-что узнала. Узнала через этого парня, о котором в письме упоминают. Его действительно выгнали из института, в основном за безделье. Хотя он человек не без дарования. Ну, а потом оказалось, что он не то чтобы организовал, а как-то собрал вокруг себя ребят и…
Она запнулась, подбирая формулировку: действительно, как же рассказать о притворяшках? Кто они – преступники или отступники? Или просто развлекающаяся молодежь?
– Нет, – как бы отвечая своим мыслям, сказала Янка, – это не просто компания, не сборище радующихся жизни ребят. Этот Худо парень рыхлый и даже вялый, но ему нельзя отказать в определенном организаторском таланте. Ему удалось подобрать своеобразную духовную секту, что ли. Да, да, именно что-то вроде секты. Пока еще без бога, хотя его присутствие уже чувствуется, оно логически вытекает из всего, что делают и говорят члены секты.
Клочков широко раскрыл свои большие карие глаза и внимательно смотрел на Янку.
– В общем, я познакомилась с этими ребятами, – продолжала Янка, – и решила побыть с ними. Ты пойми меня правильно. Я захотела понять причины явления, его источник, а заодно – психологию таких вот немножко отклонившихся от истинного пути ребят. Понимаешь?
Секретарь молчал.
– Я тебе скажу правду: дело в том, что по существу моя работа по атеизму с треском провалилась. Скучно это было и вяло и никому не интересно. У нас настолько не понимают, как в этой области надо работать, что меня похвалили в комитете за проделанный труд. А весь труд был трудом формальным: лекции там, экскурсии, но, как правило, с нулевым эффектом. А потом я увидела, как возле этого Худо возникает круг заинтересованной молодежи. Они в этом кривляний, в притворстве что-то для себя находят. Вот я и решила стать такой же, как они, притворяшкой. И стала. А с волками жить – по-волчьи выть. Приходится и ресницы наклеивать, и шиньон носить, и рестораны иногда, не так уж часто, как пишут в письме, – мы люди бедные, – посещать вместе со всеми. Я среди них сейчас и мечусь, пытаясь понять, чем они дышат, как это так получается, что многие лучшие наши официальные мероприятия проходят для них как бы впустую.
Клочков осторожно и очень аккуратно переложил чистый листок бумаги из одной стопки в другую.
– Что-то я тебя не пойму, Смолич, – сказал он задумчиво, и это не предвещало ничего хорошего. – Ты что, затесалась в эту дрянную компанию с целью улучшения атеистической пропаганды, что ли? Пусть даже тобой руководили вот такие добрые и серьезные намерения, как говоришь, но ты все равно внешне действительно пятнаешь звание… Ты это понимаешь?
Карие глаза Клочкова потемнели, и Янку обдало волной холода.
– По-моему, это просто глупость, а потом – прямое нарушение комсомольской дисциплины. Авантюризм какой-то. Ты влезаешь в секту с очень сомнительной целью и никого ни о чем не оповещаешь. И кому ты можешь доказать благостность своих намерений, а не просто самое заурядное стремление поразвлечься в компании этих самых притворяшек?
Янка почувствовала, что почва уходит из-под ног. Логическое обоснование ее поступка, которое делало девушку героиней, проникшей в лагерь противника, рухнуло в считанные секунды. Действительно, кто мог подтвердить, что она притворяшка по принуждению? Да и не была она ею по принуждению! Она стала членом секты из любопытства. Стремление понять жизнь, лежащую за пределами нормы, поставило ее самое вне нормы. Янка растерялась.
– Ну как же, должно же быть доверие к человеку, – пробормотала она, беспомощно разводя руки в стороны.
Клочков спокойно смотрел на ее руки.
– Конечно, – сказал он, – доверие есть. Но оно обладает определенным запасом. И, кроме доверия, существует контроль и проверка. Все, что ты говоришь, выглядит интересно, мы действительно должны знать жизнь наших ребят, особенности их психологии, настроения, поведения и так далее. Но все зависит от того, как это узнавать. Существуют вполне оправдавшие себя приемы и методы: собеседования, анкетные данные, знакомство с родителями и товарищами по работе, много есть интересных, проверенных жизнью способов. Для того, чтобы бороться с чуждой идеологией и настроениями, совсем не обязательно проникаться этой идеологией. Становиться ее идеологом. – Он помолчал и веско добавил: – И еще грубая ошибка. Ты используешь запрещенный прием: ты обманываешь этих самых твоих ребят, понимаешь? Так бороться с сектантами нельзя.
– Они не сектанты! Они глупые мальчишки и девчонки.
– Тем более. Это не враги государства, а зарапортовавшаяся молодежь. Разъяснительная работа должна быть честной. Повторяю: собеседовчния, разговор по душам и прочее, но открыто и честно. Без дурацких диверсий!
В кабинете повисло тягостное молчание. “Что ж это я, – думала Янка, – сижу, молчу, терплю. Мне нечего возразить. Он на сто процентов прав. Но и я права!”
– Какие анкеты! Какое собеседование! – закричала она. – Ведь ребята молчат и поступают по-своему. Это стена, ее не прошибешь! Я хочу понять, как возникает эта стена. Мы идем к ним с добром, с лучшим, что есть у нас, а они отворачиваются, они души свои воротят. Почему?
– Но ты не… это… не горячись, – осадил ее Клочков. – Ты связалась с не лучшими представителями нашей молодежи и почему-то создаешь из этого проблему. На пустом месте ищешь, ничего там нет. И вообще, я не понял, чем вы там занимаетесь, Сделаем так. Соберем бюро и подробно все изложишь. О своей так называемой инициативе по исследованию… по социологическому исследованию. Посмотрим, что ты там увидела. Вместе разберемся, что делать. Если надо, то поможем. А сейчас мой тебе совет: ты всю эту самодеятельность немедленно прекрати. Чтоб бумаг таких больше к нам не поступало. А пока иди и учти, что́ я тебе посоветовал. Тоже мне разведчица Хари в стане врага!
Янка пошла к двери и услышала, как Григорий насмешливо фыркнул ей вслед. Под это фырканье Янка и покинула кабинет. Она на минутку забежала к себе, переложила бумаги со стола в портфель, оделась и пошла домой.
Скверно все складывалось, очень скверно. Похоже, если все будут рассуждать подобно Клочкову, одобрения она не получит. А меж тем Янка чувствовала себя совершенно правой. Что-то такое происходило, что-то делалось с ребятами. Нужно было во всем разобраться. Конечно, притворяшки не самые лучшие люди на земле, но и не самые плохие. И у них есть какое-то свое дело. У них есть свой бог. Бог, который начинает существовать для них после шести часов вечера. Бог после шести.
Но и Клочков был прав. Это Янка тоже понимала. Она слишком вошла в роль притворяшки, слилась с ними. И не только внешне – в поведении, в словах, – в себе самой она ощущала перемены. На самом дне души зародилась симпатия к притворяшкам. Ей стала нравиться их странная, болезненная мечта, бессмысленное вроде бы времяпрепровождение. Упрек Клочкова бил в самую точку: она стала притворяшкой.
Поняв это, Янка ужаснулась и возмутилась. Как же так! Она этого не хотела, совсем другое было у нее на уме. “Но ничего, ничего, – успокаивала себя девушка, – я все исправлю. Меня поймут…”
Спускаясь по ярко-красной ковровой дорожке лестницы, Янка шла, погрузившись в свой мысли, ничего не замечая, не слыша. И вдруг ее точно ударило по глазам. На выходе в вестибюль маячила неприятно знакомая фигура. Возле дежурившего у проходной вахтера Ивана Никаноровича стоял ее нафталиновый сыщик. Наклонив голову к плечику в каком-то несовременном, старорежимном подобострастии, он что-то спрашивал у Ивана Никаноровича, торопливо шлепая мокрыми губами. Его серое лицо выражало интерес и преклонение. А Никанорыч с высоты своего роста басом что-то внушительно разъяснял внимательному слушателю.








