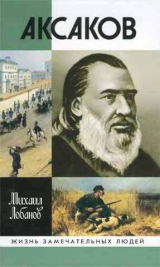
Текст книги "Аксаков"
Автор книги: Михаил Лобанов
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 28 страниц)
Таков был Александр Семенович Шишков. Он очень обрадовался Аксакову, своему младшему собеседнику, которого не видел десять лет, расспрашивал его о деревенском житье-бытье и по своей простодушной недогадливости пропустил мимо ушей признание Сергея Тимофеевича, что ему нужно место в Москве с «порядочным жалованьем». Пришлось через два дня снова приехать и спросить прямо: не может ли он, Аксаков, занять место цензора? «Почему же нет? Лучшего цензора я желать не могу», – Шишков был очень рад и удивился, как это раньше он сам об этом не догадался.
Так, с лета 1827 года началось цензорство Аксакова. После десятилетнего деревенского уединения он оказался на месте довольно бойком и хлопотном, требовавшем служебной ловкости и достаточной осведомленности в современной обстановке, в том числе литературной. Впрочем, сам Аксаков, вступая в цензорскую должность, дал себе слово толковать в цензурном уставе «все в хорошую сторону», и, стало быть, не ущемлять авторов и издателей. Об этом у него в первый же день службы разгорелся горячий спор с председателем комитета князем В. П. Мещерским, который настаивал на крайне строгом следовании уставу, каждой букве его. Однако не прошло и месяца, как председатель Цензурного комитета был отстранен от должности, и Аксакову было предписано временно исполнять эту должность, что и длилось более года. На выходивших книгах значилось: «Печатать дозволяется, Москва, 1828 года (такого-то месяца, дня). В должности Председателя Московского Цензурного Комитета Сергей Аксаков».
Служба шла успешно. Литераторы, известные и начинающие, журналисты, книгопродавцы, содержатели типографии, букинисты, – все они довольны быстрым решением их дел в новом комитете (кроме С. Т. Аксакова цензорами состояли писатели С. Н. Глинка и В. В. Измайлов). Небольшие рукописи, листа в два или три, просматривались и цензуровались тут же, при авторах. Ничего подобного не знал прежний цензурный комитет, из профессоров, которым, по их ученой занятости, в тягость были посторонние обязанности, возня с кучами книг и всяким литературным «хламом». Поэтому неудивительно, что издатель «Московского телеграфа» Н. Полевой, узнав, что его журнал будет цензуровать Аксаков, попробовал было сблизиться с ним, но Сергей Тимофеевич вовсе не склонен был к такому сближению и откровенно сказал Полевому, что только как цензор он может быть в сношениях с ним и при этом вежливо добавил, что господин издатель, без сомнения, может быть уверен в скором и снисходительном удовлетворении его требований. Но этой снисходительности хватило ненадолго, вскоре начались недоразумения, красный карандаш цензора разгуливал по страницам «Московского телеграфа», приводя издателя в отчаяние… Кто из них был прав, кто виноват – об этом немало писали и говорили, но даже и те, кто держал сторону Аксакова, должны были признать, что в конфликте с Полевым не всегда прав был Сергей Тимофеевич.
Совсем иные отношения сложились у Аксакова с издателем «Московского вестника» М. П. Погодиным, эти отношения положили начало их тридцатилетней, вплоть до смерти Сергея Тимофеевича, дружбы. Аксаков вскоре уже был не только цензором погодинского журнала, но и его деятельным автором, писавшим статьи о театре, игре московских актеров и актрис, разборы спектаклей. Эти материалы вносили разнообразие и оживление в журнал, благодарный издатель к каждой книжке «Московского вестника» стал прилагать специальное прибавление по листу и по два, где помещались аксаковские вещи.
Аксаков фактически возглавил театральный отдел журнала. Страсть неисправимого любителя декламации, игры в домашних (и не только в домашних) спектаклях отныне находила новую точку приложения – в театрально-критической деятельности Аксакова. Писал он о спектаклях так, как будто сам участвовал в них – с увлечением, с таким подробным разбором игры актеров и актрис, что перед читателем возникал живой портрет исполнителя с его удачами и промахами. Доскональное, требовательное, доброжелательное вникание Аксакова в секреты актерской игры, его точные, психологически правдивые замечания, без сомнения, оказывали неоценимую услугу актерам, были для них школой «натуральности», как определял сам Сергей Тимофеевич жизненную правду исполнения. Несмотря на тогдашнее представление его о «пошлой», «низкой» действительности как недостойной театрального искусства; несмотря на некоторую дань «условной натуральности», то есть декламации, напевности в трагедии, Аксаков в принципе отстаивал саму «натуральность», видя «единый способ – обратиться к натуре, истине, простоте: изучить и искусство представлять на театре людей не на ходулях, а в настоящем их виде». Тем самым он содействовал утверждению реалистичности в русском театре, изживанию в нем всего искусственного, рутинного, натянутого. Уже здесь заявила о себе эстетика будущего художника, автора «Семейной хроники» и «Детских годов Багрова-внука» с их высокой простотой, истинностью человеческих характеров.
Проницательность Аксакова выразилась и в том, что он первым в театральной критике оценил по достоинству искусство Щепкина и Мочалова – актеров разных сценических направлений: реалистически-комедийного и романтико-трагического, но которых объединяло и нечто общее: психологическая правда в раскрытии характера героя. Аксаковские характеристики их актерского дарования исполнены меткости и тонкости оценки. Особенно замечательна оценка Мочалова во «2-м письме из Петербурга» (напечатанном в «Московском вестнике») – в сравнении с другим трагиком – Каратыгиным, игравшим на петербургской сцене. Художническое вдохновение Мочалова, при всех срывах, неровностях его игры, потрясает силою, глубиною переживания, «имеет такие минуты, такие превосходные места, которые доходят прямо до сердца, в восторг приводя зрителя, чего г. Каратыгин в своей игре не имеет и едва ли достигнуть может». Каратыгин – «неограниченный властелин своих средств», «методическая игра» удерживает его от срывов, но, рассчитанная на внешнюю картинность, эффектные жесты, она производит впечатление хотя и блестящего, но холодного актерства, оставляющего зрителя, в сущности, равнодушным. Сравнение двух трагиков и столь точная характеристика каждого из них были даны Аксаковым в 1828 году, за семь лет до появления известной статьи Белинского «И мое мнение об игре г. Каратыгина», где также проводится «параллель» между обоими актерами и отдается предпочтение «сильному и самобытному» таланту Мочалова перед эффектной, искусственной игрой Каратыгина. А впоследствии Белинский повторит аксаковское сравнение Мочалова с «самородком чистого золота».
***
Участие Аксакова в «Московском вестнике» оживляло его литературно-театральные интересы, через Погодина расширялся круг литературных знакомств. В январе 1829 года Погодин записал в своем «Дневнике»: «Завтрак у меня, представители русской образованности и просвещения: Пушкин, Мицкевич, Хомяков, Щепкин, Венелин, Аксаков, Верстовский… Разговор от еды и (?) до Евангелия, без всякой последовательности, как и обыкновенно». Пушкин был в дружеских отношениях с Погодиным, возлагал надежды на издателя «Московского вестника» (где был опубликован отрывок из его «Бориса Годунова»), вообще на московских литераторов как на противодействие петербургской журналистике булгариных. Называя петербургских литераторов «предприимчивыми и смышлеными литературными откупщиками», Пушкин говорил, что «ученость, любовь к искусству и таланты неоспоримо на стороне Москвы». «Московская критика с честию, отличается от петербургской. Шевырев, Киреевский, Погодин и другие написали несколько опытов, достойных стать наряду с лучшими статьями английских Reviews («Обозрений»), между тем как петербургские журналы судят о литературе… наобум и как-нибудь, иногда впопад и остроумно, но большею частию неосновательно и поверхностно». Пушкин ценил Погодина за ученость, за его работу в области русской истории, сочувствовал его опытам народной трагедии, что же до отношения Погодина к Пушкину, то это было благоговение к великому поэту, олицетворяющему собою русскую литературу. Погодин мог только пожалеть, что Аксакову не довелось слушать чтение Пушкиным «Бориса Годунова». Как и для многих из собравшихся тогда, для Погодина привычным было господствовавшее в то время чтение стихов нараспев, завещанное французской декламацией, мастером которой считался Кокошкин. И вот вместо кокошкинской декламации услышали речь простую, внятную и вместе с тем поэтическую. Читал без всяких притязаний человек среднего роста, с длинными курчавыми волосами, с живыми быстрыми глазами, с порывистыми жестами, в черном сюртуке, в небрежно завязанном галстуке. Спустя сорок лет Погодин признавался, что «кровь приходит в движение при одном воспоминании» об этом чтении. «Сцена летописца с Григорием просто всех ошеломила. Что было со мною, и я рассказать не могу. Мне показалось, что родной мой и любезный Нестор поднялся из могилы и говорит устами Пимена: мне послышался живой голос древнего русского летописателя. А когда Пушкин дошел до рассказа Пимена о посещении Кириллова монастыря Иоанном Грозным, о молитве иноков: „Да ниспошлет Господь покой его душе, страдающей и бурной“, – мы все просто как будто обеспамятели. Кого бросало в жар, кого в озноб. Волосы поднимались дыбом…»
С Пушкиным же у Сергея Тимофеевича будет своя, хотя и скромная, история взаимоотношений. В 1830 году, когда в журналах начались нападки на Пушкина, он написал «Письмо к издателю „Московского вестника“» (там же оно было напечатано) «О значении поэзии Пушкина». Аксаков писал о достоинствах поэзии Пушкина, о том, что «многие стихи его, огненными чертами врезанные в душу читателей, сделались народным достоянием!». По словам самого Сергея Тимофеевича, Пушкин был очень доволен этим письмом. Не зная, кто автор его, он сказал однажды в присутствии Аксакова: «Никто еще никогда не говорил обо мне, то есть о моем даровании, так верно, как говорит в последнем номере „Московского вестника“ какой-то неизвестный барин».
При жизни Пушкина Аксаков не заявил еще о себе как писатель, единственное, что он напишет (в 1834 году) в прозе – небольшой очерк «Буран». Однако уже и здесь будет виден крупный художник: сколько поэтической выразительности в описании зимней вьюги в степи, действительного ощущения ярости бурана, смешавшего землю и небо, леденящего душу человека-песчинки в рассвирепевшей природе. Аксаковский буран произвел большое впечатление на Пушкина и отозвался в знаменитом описании метели во второй главе «Капитанской дочки».
В приведенной выше дневниковой записи Погодина о завтраке у него «представителей русской образованности и просвещения» в числе других назван и Юрий Иванович Венелин. С этим замечательным человеком у Сергея Тимофеевича сложатся самые приязненные отношения. Настоящая фамилия Венелина была Гуца; родом закарпатский украинец, учившийся в Львовском университете, он в возрасте двадцати одного года, в 1823-м, переехал в Россию, где так плодотворно развернулась его ученая деятельность как слависта. Оригинальный филолог и историк без обычного для его времени безоговорочного поклонения европейским авторитетам, с проницательным историческим чутьем, Венелин был еще более человеком сердца. За свои убеждения, за свое дело он готов был идти на крест. Это был боец за идеи славянства, за национальные культуры славянских народов. Особенно много он делал для болгар. Вскоре после встречи у Погодина, в том же 1829 году, выйдет книга Венелина «Древние и нынешние болгаре в политическом, народописном, историческом и религиозном их отношении к россиянам». Этот труд положит основание национально-культурному возрождению болгар, окажет большое влияние на деятелей болгарского просвещения. Странник по натуре, Венелин в своих трудах как бы пускался в историческое паломничество по славянским землям, уходя и в древнюю историю русского народа в его связях с другими народами, не только славянскими; и в прошлое словенцев, сербов, словаков, стараясь понять их исторические судьбы. Венелин никогда не расставался, куда бы он ни забредал, со своим ученым коробом, наполняя его каждый раз дорогими для него неповторимыми дарами именно этой славянской земли, куда он попадал, дарами народного быта, языка, литературы, фольклора.
Собирая то, что было для него богатством, он и вокруг себя распространял его. И семья Аксаковых окажется не без влияния его дела. Венелин стал учителем Константина Аксакова, когда тот в 1832 году готовился к поступлению в Московский университет, с тех пор возбужденный Юрием Ивановичем интерес к истории и культуре славянских народов уже не покидал Константина Сергеевича. В том же, 1832 году, во время приезда в Москву А. С. Шишкова Сергей Тимофеевич представил ему, как президенту русской академии, Венелина. Шишков, знавший и очень уважавший книгу «Древние и нынешние болгаре…», внимательно отнесся к ее автору, поддержал его просьбу совершить поездку в Болгарию [5]5
В воспоминаниях С. Т. Аксакова эта поездка отнесена ко времени после 1832 года, хотя есть другие источники, указывающие на 1830 год. Возможно, что, как и в других случаях, Сергей Тимофеевич не точен здесь в дате.
[Закрыть], предложив выделить для этого из средств Российской академии необходимую сумму денег. Вернется Венелин из Болгарии с обильным фактическим материалом, ценными документами, грамотами, которые потом будут изданы.
И не только поклонники ценили его. С уважением будет писать о нем Белинский, полемизируя с излишеством, по его мнению, славянских симпатий Венелина. Уже спустя четверть века после смерти Венелина (он скончался в 1839 году) Аполлон Григорьев, признавая за ним черты гениальности, причислит его к тому направлению мышления, которое он назовет «органической критикой» (связывающей предмет разговора с глубочайшими задачами жизни).
Но вернемся к службе Сергея Тимофеевича. Однажды явился в цензурный комитет небольшого роста худощавый человек с глубоко посаженными буравящими глазами и завел речь о том, чтобы ему дозволили издавать журнал отечественной истории, словесности и критики под названием «Русский зритель». Посетитель назвался Калайдовичем. Имя Константина Федоровича Калайдовича было и прежде хорошо известно Аксакову как имя ученого, имеющего заслуги в разыскании и публикации российских древностей. Он был один из тех, кто входил в знаменитый «кружок Румянцева». Основатель, вдохновитель и меценат кружка Николай Петрович Румянцев был сыном знаменитого русского полководца, генерал-фельдмаршала Петра Александровича Румянцева-Задунайского. Сын полководца как бы оправдал девиз, начертанный на их фамильном гербе: «Не только оружием». В молодости дипломат, представлявший Россию в Европе, затем министр коммерции, принимавший энергичные меры для укрепления экономики страны, министр иностранных дел, способности которого высоко оценил сам Наполеон, который вел с ним переговоры в Париже (и в знак своего уважения к нему предоставил ему возможность ознакомиться с французской Национальной библиотекой); наконец – канцлер, председатель Государственного совета – таков был служебный путь Румянцева. После того как в 1814 году шестидесятилетний граф ушел в отставку, началась новая полоса его деятельности, не менее, а более славная, принесшая ему посмертное признание большее, чем вся его блестящая государственная карьера. Он выбрал необычное поприще для дальнейшего служения Отечеству, решив объединить вокруг себя ученых, сплотить их усилия в научных исследованиях, в изучении исторических памятников прошлого. То было время, когда после победы 1812 года русское национальное самосознание находило свое выражение в литературе, искусстве, во всех сферах общественно-культурной жизни. Это же обстоятельство и одушевило деятельность Румянцева и сложившегося вокруг него кружка, развернувшего научные изыскания с небывалым размахом и сознанием своего патриотического долга. Сын великого полководца как бы созидал исторический тыл русским военным победам, доказывая тем самым, что «не только оружием» может быть силен народ. Можно даже сказать, что это тоже было оружие, та духовная сила, без которой непрочны никакие военные победы.
Средоточием пытливой научно-исторической мысли целой ученой «дружины», как назвал сотрудников Румянцева M. П. Погодин, стали российские древности. И наиболее деятельным, усердным, кропотливым исследователем, пользовавшимся особым доверием и расположением графа, был Калайдович, отыскавший десятки ценнейших рукописей.
…Между тем Сергея Тимофеевича ожидали служебные неприятности. Цензорство оказалось не тихой заводью, а в некотором роде омутом неожиданностей, где впору самому не утонуть. Одной из таких неожиданностей и явилась для Аксакова история со статьей Ивана Киреевского «Девятнадцатый век» (напечатанной в журнале «Европеец»), которую он цензуровал и в которой содержались мысли о современном просвещении, расходившиеся с официальным мнением. Статья вызвала неудовольствие высших властей. Правда, Сергей Тимофеевич отделался на этот раз «строгим замечанием», но тут же вослед пожаловали другие неприятности, вроде поднявшегося шума вокруг пропущенной Аксаковым баллады «Двенадцать спящих будочников», в которой было усмотрено оскорбление московской полиции. Следствием было то, что в феврале 1832 года Аксаков был уволен со службы.
Так закончилась более чем трехлетняя с перерывами его цензорская деятельность.
Эти неудачи, однако, не подвели пока черту под послужным списком Сергея Тимофеевича. По прошествии менее чем двух лет, в октябре 1833 года, он поступил на новую службу – инспектором Константиновского землемерного училища. Полтора года спустя училище было преобразовано в Межевой институт, и Аксакова назначили его первым директором. И удивительное дело: вчерашний неумелый хозяин на ниве земледельческой обнаружил на новой, педагогической ниве способности и воспитательные, и организаторские, и даже хозяйственные. Новая должность была ему более по душе. Надзор здесь был другой – над воспитанниками училища, а затем института, которых было двести пятьдесят человек – будущие межевщики и чиновники межевой службы, землемеры бескрайних русских пространств. Может быть, потому Сергей Тимофеевич и сошелся с ними, потому и вошел во вкус новой службы, что сам был в каком-то смысле землемером, любил до подробностей знать родную землю. Да, это была служба желанная, хотя и хлопотная, отнимавшая много времени, стоившая немалого труда, облегчаемого сознанием его нужности и полезности. Во все надо было вникать, начиная от программы подготовки учеников, частностей их обучения, воспитания и кончая хозяйственными делами. Институт был молодой, с малопроторенными еще воспитательными путями, и было где приложить педагогические усилия. Аксаков и повел дело с этим чутьем истинного педагога, для которого нравственным долгом было создание наилучших условий для обучения воспитанников, а высшим удовлетворением – их успехи, делавшие его «очень счастливым», как он сам признавался. Сергей Тимофеевич разработал новый устав Межевого института, который был утвержден и послужил основанием для всех последующих уставов этого учебного заведения. Уже одним этим он вписывал свое имя в его летопись, и не случайно новые директора института с таким уважением и почтением относились к своему предшественнику, и со временем среди учителей и воспитанников сложились свои предания о директорстве Аксакова, знаменитого уже к тому времени писателя.
Но и в Межевом институте, среди землемеров, Сергею Тимофеевичу напоминала о себе литература. Он ближе узнал Белинского. Они и до этого знали друг друга: Белинский бывал в доме Аксаковых, о нем много рассказывал отцу Константин Сергеевич, не скрывавший ничего о своих спорах с Виссарионом, как и вообще о своей умственно-философской жизни, так что Аксаков-старший всегда был как бы соучастником ее. Сергей Тимофеевич цензуровал некоторые вещи молодого критика, помог напечатать его книгу «Основания русской грамматики», взяв на себя все материальные заботы по изданию. И вот теперь сильно нуждавшийся в средствах Белинский с благодарностью принял предложение Аксакова преподавать в Межевом институте русский язык. Недолго преподавал Белинский, всего семь с половиною месяцев, быстро он утратил интерес к работе и попросил увольнения. Впрочем, вскоре, на шестом году службы, в декабре 1838 года и сам Сергей Тимофеевич ушел в отставку, желая зажить «свободно и спокойно».
Отношения между Аксаковым и Белинским и после этого не прекратились. Белинский в кругу знакомых всегда с большим уважением и душевной приязнью отзывался о Сергее Тимофеевиче. Как рассказывает А. Я. Панаева в своих «Воспоминаниях», он однажды сказал: «Ах, если бы побольше было таких отцов у нас в России, как старик Аксаков…» В письме к сыну Аксакова Белинский признавался: «Верь, Константин, что я уважаю твоего отца искренне, хотя он, как мне кажется, и предубежден против меня… Наши лета и понятия разнят и рознят нас, но я тем не менее уважаю его за верное чувство поэзии и за добрый и благородный характер». Личные предубеждения могут и проходить, «понятия» же со временем «разнят» еще больше. Как человеку умеренных взглядов, снисходительному к мнениям других, Сергею Тимофеевичу чужда была идейная нетерпимость Белинского, резкость, радикальность его суждений, все более с годами проявляющееся отрицание действительности, в чем Аксакову виделось что-то разрушительное, и все это, конечно, не располагало его к критику. Не мог не повлиять на дальнейшее отдаление Сергея Тимофеевича от Белинского и разрыв Константина с Виссарионом.
А этот разрыв был уже окончательным и непримиримым. Белинский говорил: «Чем больше живу и думаю, тем больше, кровнее люблю Русь, но начинаю сознавать, что это с ее субстанциальной стороны, но ее определение, ее действительность настоящая, начинают приводить меня в отчаяние – грязно, мерзко, возмутительно, нечеловечески…» Константин Аксаков любил Россию в большой степени «субстанционально» – в ее нравственном идеале, в то время как Белинский все более обостренно чувствовал потребность видеть в ней, в России, именно социально-отрицательное – «мерзость», «безобразие» и т. д. И весь путь его, все «фазисы», «эпохи» его духовного развития, все бесконечные «перевороты» вели к крайнему радикализму. Для Белинского лозунгом стало «социальность или смерть». Социальность была и у Константина Аксакова, выступавшего, как и другие славянофилы, против крепостного права, которое он называл «бесчеловечным» и «делом возмутительным», против тех же «мерзостей» общественной жизни, произвола бюрократии; он отстаивал необходимость свободы слова, ратовал за распространение просвещения в народе. В этом отношении социальность Константина Аксакова, как, повторим, и других славянофилов, была столь активна, что вызывала резкое недовольство высших властей, прибегавших к их преследованию. И все-таки это была иная критика и, в сущности, иная позиция, чем у Белинского. Пропастью, разделявшей их, было отношение к пути исторического развития России. Для славянофилов это был путь, основанный на развитии исторически сложившихся начал тысячелетней русской государственности, основанный прежде всего на православии, вне которого они не мыслили себе ни судьбы, ни будущего русского народа. Белинского же при всех его «духовных переворотах», при «неоднозначности» идей даже и в последний период жизни, все более одержимым делала «идея отрицания как исторического права», говоря его словами. Письма его (о которых он говорил, что в них «вся жизнь моя») кипят и бурлят этим отрицанием. Он восклицает: «Да здравствует разум и отрицание… Проклятие и гибель думающим иначе!» «Отрицание – мой Бог». «Мне отраднее кощунство Вольтера, чем признание авторитета религии…» «Я понял и французскую революцию… понял и кровавую любовь Марата к свободе, его кровавую ненависть ко всему, что хотело отделяться от братства с человечеством».
Современники Белинского вспоминали, с каким лихорадочным возбуждением слушал он чтение статей об истории французской революции, о терроре якобинцев. Путь к решению всех проблем он видит «через социальность». «И потому нет ничего выше и благороднее, как способствовать ее развитию и ходу. Но смешно и думать, что это может сделаться само собою, временем, без насильственных переворотов, без крови. Люди так глупы, что их насильно надо вести к счастью».
Это было сказано в 1841 году, и с тех пор вплоть до смерти Белинского в 1848 году каждый из бывших друзей шел своим избранным путем.








