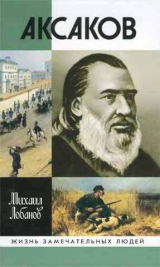
Текст книги "Аксаков"
Автор книги: Михаил Лобанов
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 21 (всего у книги 28 страниц)
Глава XI
«ЖИВАЯ ЧАСТИЦА РОССИИ»
Счастлива большая семья, дружная и крепкая привязанностями родителей и детей, но и беззащитна в самом своем счастье, таком непрочном и непостоянном. Сергей Тимофеевич со всей болью почувствовал и понял это, когда в 1841 году умер семнадцатилетний сын Миша. Зажившая, казалось, со временем рана напоминала о себе и обострялась от сознания, что то же самое может повториться с другим сыном или дочерью, и тогда все мертвело в душе. Привязанность к детям была и несчастьем, это видел свой человек в аксаковском доме Михаил Петрович Погодин, любивший эту замечательную семью, благоговевший перед Ольгой Семеновной и о ней же говоривший, что она слишком связана «прихотью материнской нежности» и ей бы надо приготовлять себя к принятию смертей, чего не миновать в жизни. Гоголь об этом же писал Погодину: «Ужасно мне жаль Аксаковых, не потому только, что у них умер сын, но потому, что безграничная привязанность до упоения к чему бы то ни было в жизни – есть уже несчастье». Но ведь сердцу не закажешь, особенно материнскому.
Девять детей в аксаковской семье – как в обычной средней крестьянской семье. Плодится Русь, растут и поднимаются, как стены пшеницы, новые поколения землепашцев, работников и воинов, только здоровый и телом и духом народ может порождать такие многодетные семьи. Человек семьистый, семьянистый – говорят крестьяне о главе большой семьи, – так и о себе Сергей Тимофеевич может сказать. Вот только того же он не может сказать о своих детях, из них обзавелся семьей только один Григорий, женившийся в 1848 году на симбирской помещице Софье Ивановне Шишковой. Женившемуся сыну отец писал: «Из глубины твоего сердца и души поднялось много нового – прекрасного, которое оставалось неизвестным и нам и тебе самому. Я верю, что у многих людей, не испытавших полного чувства любви, остается много прекрасного в одной только возможности, не преходящего в их нравственный организм и погибающего, не родясь к жизни, вместе с ними… Жизнь не идиллия, не игрушка; она серьезна и трудна. На сбивчивом и скользком пути ее ты будешь верным путеводителем столь глубоко любимой тобою жены. Ты прямо, здраво и простосмотришь на жизнь. В этих качествах, особенно в последних, я вижу залог вашего счастья».
Сын уходит из отчего дома, отныне он будет созидать свою семью, и ему надо пожелать на этом великом пути счастья. «Да, мой дражайший сын Гриша, – обращался Сергей Тимофеевич к сыну, – теперь у тебя твоя собственнаяжизнь, новое семейство, новый домашний уют, и все это будет там, где ты будешь вместе с милой своей женой, с нашей бесценной дочерью!.. Странное дело, это чувство самобытности, в семейном смысле, кого-нибудь из детей – есть самое сладостное чувство для отца и матери, а между тем я много видел, что родители, особенно матери, им оскорбляются. Вероятно, они ложно видят в этом охлаждение». Видно, Сергей Тимофеевич вспоминал свою мать, которая так резко переменилась к нему, когда он женился, ревнуя его к семье и уже перестав видеть в нем любимого сына. И как ни важен для детей пример родителей, но им самим создавать семью.
Сергей Тимофеевич тепло и торжественно приветствовал в письме обвенчавшихся сына и невестку, которая отныне становилась родным человеком в их доме. И как же радовался он, когда на свет появилась его первая внучка, Ольга Григорьевна, Оленька, третье драгоценное для него существо, после жены и дочери, носящее это дорогое для него имя. (Внучке Ольге Сергей Тимофеевич потом посвятит «Детские годы Багрова-внука».) Но грустно иногда ему оттого, что вот подходит жизнь к концу, а нет у него внуков. И не предвидится пока пополнения рода. Никто из дочерей пока не замужем, а годы идут, и как сложится жизнь каждой из них? Константин так и останется, видно, один. Так и не одарила его судьба любящей подругой, о которой он мечтал. После Машеньки Карташевской, первой юношеской привязанности, также неудачей кончилась вторая его любовь. Летом 1852 года он искал руки Софьи Петровны Бестужевой, приходившейся племянницей жене Хомякова, но та медлила с ответом. Зная, как переживал отец за своего первенца, Юрий Самарин писал Сергею Тимофеевичу: «Все устроится, и Константину за то, что в жизни он искал не утех и наслаждений, а нравственного подвига, приложится…счастливое супружество». Но вышло не так, как предполагал Самарин, Бестужева отказала, и Самарин, узнав об этом, писал Константину: «Я не стану говорить тебе, что это – ничего, что все к лучшему и другие подобные утешения… Конечно, никто искреннее, живее меня не желал бы для тебя того, что составляет верх земного счастья… Наши отношения непременно бы изменились, и я помышлял об этом с грустью. Теперь мы опять свои и, вероятно, навсегда, по крайней мере, так с моей стороны. Посмотри, как теперь закипит у тебя работа, ты сделаешь много хорошего».
Но, видимо, в этих словах друга было мало убедительного для Константина Сергеевича, видевшего в семье, в «начале семейном» «основу всего доброго на земле» [15]15
И в русском эпосе о богатырстве К. Аксаков отмечал «чувство семьи» как одно из главных условий, «без чего не может быть истинной силы». Об одном из богатырей он пишет: «Итак, Владимир дает ему у себя три места, из которых первое по отечеству, по отцовской чести, а второе по личным заслугам, и, наконец, в-третьих – право сесть где угодно». Для понимания этой исторической «отцовской чести», несомненно, много значил для Константина Сергеевича пример его отца, Сергея Тимофеевича!
[Закрыть].
«Бродяге» Ивану было, видно, не до женитьбы, мать сначала сама не хотела, в самом начале его службы, чтобы он женился, а потом если бы и захотела того, то не возымела бы успеха. По его собственным словам, он закалился против «женской красоты» – службой, строгостью своего нрава и не думал пока ни о какой женитьбе. И впоследствии, когда он не прочь был войти в брачный союз, для него было небезразлично и общественное значение этого союза, об этом он прямо и заявил своей предполагаемой невесте, дочери Хомякова, открывши ей, как важно их супружество для общего дела, чем привел ее в удивление и получил отказ. Позже, когда ему исполнится сорок три года, его женой станет тридцативосьмилетняя Анна Федоровна Тютчева, дочь поэта (о нем Иван Сергеевич напишет прекрасную книгу – и в этом, возможно, не последнюю роль сыграет тот семейный долг, которому он привык быть верным еще смолоду в родительском доме).
Мысли о семье не покидали Сергея Тимофеевича. Меняется время – меняется семья. Уходила из русской семьи былая ее крепость, основанная на авторитете старших, отцов. Об этом с элегическим чувством поведал в своих «Семейных пирах» Михаил Александрович Дмитриев, старший приятель его, Аксакова, поэтический бытописатель Москвы, «антикварий литературных наших дел».
Прежде здесь были пиры. – Я помню: сбирались родные
К старшему в роде, в день именин или в праздник. – Бывало,
Длинные ставят столы; сыновья наезжают с женами,
Дочери, внуки, зятья: и беда не приехать к обеду!
Ласковы были до нас старики, а шутить не любили!
Говор, и гам, и детей беготня: но за стол – все утихнут!
Дед сидит на переднем конце, близ внучки старушка.
Жены с мужьями рядком: а подалее – дети постарше…
Все по порядку и чинно разносятся вкусные блюда;
После жаркова обносят бокал – и все поздравляют!..
Связи семейные! Что вас крепит? – Не обычай ли дедов,
Не почет ли наследственный к горю и опыту старших,
Нам передавших и жизнь, и заботливо с ней нажитое?..
В их, аксаковской, семье не было ни такой чинности за столом, ни строгости в домашнем быту, но связи семейные крепились, в сущности, тем же – опытом родителей, передавших детям «и жизнь, и заботливо с ней нажитое». О себе, как всякий отец, Сергей Тимофеевич не мог думать лучше, чем о детях, но так выходило, что полнота семейной жизни была именно в нем, он объединял в себе, как бы гармонически обнимал интересы всех детей, и в этом отношении он был лицом универсальным. Детям уже менее была свойственна эта широта понимания. Каждый из них был одностороннее отца, уйдя преимущественно в какую-то одну область – в философию, как Константин, в политику, как Иван, в практическое служебное дело, как Григорий, в нравственный аскетизм, как Вера. И сама жизнь их была дисгармоничной, драматически складывались судьбы. Они становились уже детьми середины XIX века – предреформенной, реформенной эпохи вторжения новых, буржуазных отношений во все сферы общественной и личной жизни, времени крушения многовековых этических, культурно-бытовых ценностей. Аксаковская семья, созданная главой ее, подвергалась, как и все в то кризисное время, изменению.
…Дома, как всегда, было людно. Все жили вместе, за исключением Григория Сергеевича, служившего теперь после Владимира в Самаре, и вовсе не наездами служившего, как Иван, а вполне оседло, подолгу на одном месте. У каждого свое дело. Константин, хотя его Иван и поругивал за лень, бодрствовал в любой час дня, переходя от письменного стола, где сражался безмолвно, к собранию людей, где продолжал прерванную на бумаге борьбу. Иван погружался в свои газеты и журналы, московские и иностранные. Отправлялся к знакомым и возвращался с политическими, литературными и прочими известиями. Сергей Тимофеевич, не в силах сам писать, ибо зрение все ухудшалось, в часы спокойного расположения духа диктовал дочери Вере главы «Семейной хроники».
Из Крыма поступали все более тревожные известия, и все в доме Аксаковых жили ими. Соединенный англо-французский флот вошел в Черное море. Начались кровопролитные сражения, бомбардировка, осада Севастополя. Оттуда притекали вести о подвигах солдат, «нахимовских львов», о самом Нахимове. Сергей Тимофеевич писал Погодину: «Нахимов молодец, истинный герой русский. Я думаю, и рожа у него настоящая липовая лопата, как я называю Дмитрия Михайловича Пожарского». «Простонародность» Павла Степановича Нахимова была обманчивой. Этот адмирал при всей своей внешней «боцманской» простоте был человек великий и душой и умом. Он не просто был воин, слепо выполнявший приказы сверху и не видевший ничего, кроме своего военного дела. Он внимательно следил за европейскими событиями и видел то, что было скрыто даже и от профессиональных политиков. 18(30) ноября 1853 года русские корабли под командованием Нахимова в ожесточенном сражении в Синопской бухте наголову разгромили турецкий флот. Турция отныне не могла уже ничем помешать русскому господству на Черном море. Петербург ликовал. Только не рад был победе сам синопский победитель, прославляемый всеми. Тогда так и говорили: есть один человек в России, который не радуется победе, – Нахимов. Для него было ясно, что Англия и Франция, боявшиеся усиления России в Европе и мире, не простят Синопа. Вскоре это и подтвердилось – как в опубликованном письме французского императора Наполеона III к русскому императору Николаю I (где говорилось, что гром синопских пушек оскорбил французскую и английскую национальную честь), так и в крайней враждебности английского правительства к России.
Вчерашний синопский победитель возглавил героическую оборону Севастополя. Трагизм Нахимова был в том, что он видел обреченность Севастополя. Но следовало скрывать это. Матросы, безгранично любившие его, готовы были идти за него в огонь и воду, верили, что с Павлом Степановичем не сдадут города, и он должен был неослабно поддерживать эту веру. Как это бывает в грозный год исторических испытаний, когда сами события выбирают народных деятелей, руководителей (сметая с арены все бездарное, рутинное), так власть Нахимова в Севастополе сплачивала защитников не столько даже его официальным положением, сколько силою духа (он самолично отстраняет назначенного сверху начальником Севастопольской крепости старшего себя по чину генерала, которому должен был подчиняться).
Гибель Нахимова (считали, что он сам искал вражеской пули) потрясла севастопольцев. Э. И. Тотлебен, руководивший инженерными работами при обороне города, мучившийся сам от тяжелой раны, узнав о смертельном ранении Нахимова, писал жене, что Нахимов был патриот России подобно благородным героям Древнего Рима и Греции. «Никогда я не буду в силах передать тебе этого глубоко грустного впечатления, – писал один из очевидцев похорон адмирала. – Море с грозным и многочисленным флотом наших врагов. Горы с нашими бастионами, где Нахимов бывал беспрестанно, ободряя еще более примером, чем словом. И горы с их батареями, с которых так беспощадно они громят Севастополь и с которых они и теперь могли стрелять прямо в процессию; но они были так любезны, что во все это время не было ни одного выстрела. Представь же себе этот огромный вид, и над всем этим, а особливо над морем, мрачные, тяжелые тучи; только кой-где вверху блистало светлое облако. Заунывная музыка, грустный перезвон колоколов, печально-торжественное пение… Так хоронили моряки своего Синопского героя, так хоронил Севастополь своего неустрашимого защитника».
Смерть Нахимова вызвала скорбные чувства во всей России, Москва была в трауре. «Нахимов получил тяжкую рану! Нахимов скончался! Боже мой, какое несчастье!» – эти роковые слова не сходили с уст у московских жителей в продолжение трех последних дней. Везде только и был разговор, что о Нахимове. Глубокая, сердечная горесть слышалась в беспрерывных сетованиях. Старые и молодые, военные и невоенные, мужчины и женщины показывали одинаковое участие». Так писал Михаил Петрович Погодин. В этих всеобщих русских сетованиях слышались и голоса Аксаковых; бывая у них в доме, Погодин разделял с ними горечь тяжкой утраты. Реакцию семьи передала в своем дневнике Вера Сергеевна: «Нахимова нет!.. Каким тяжелым, безотрадным ударом была весть о его смерти!..»
События Крымской войны, неудачный ход ее для России, неопределенность будущего тяжело переживались в семье Аксаковых. Сергей Тимофеевич писал тогда в одном из своих писем: «Много великих событий совершилось на моей памяти (я помню, как возникал Наполеон); но ни одно так не волновало меня, как настоящее или, лучше сказать, грядущее событие. Я расстроен не только духом, но и телом; нервы мои напряжены и раздражены, и я захварываю от каждого известия из Крыма». В толках и разговорах много было безотрадного, а сдача Севастополя совсем сразила, «сердце болит от тоски», как сказала Вера Сергеевна.
Константину Аксакову мало уже было одних разговоров и речей, он решил от слов перейти к делу. Он должен написать письмо к государю, где скажет о необходимости сменить главнокомандующего в Крыму Горчакова, сдавшего Севастополь, и укажет на Ермолова как на единственно народное имя, столь нужное в теперешнее грозное время; и вообще выскажется о настоящем положении, о том, что Севастополь не сдан, а временно уступлен, и т. д. Он и написал это письмо.
Но помимо неприятеля, вторгшегося в Крым, был у России, по убеждению Аксаковых, еще один враг, даже более опасный, чем неприятель внешний, и находился он в Петербурге. Имя этого врага – Нессельроде, который ведал министерством иностранных дел России. Результатом его дипломатической практики стала полная политическая изоляция России в начале 50-х годов. Это была действительно зловещая фигура, роль ее в международных делах во вред России, и в частности во время Крымской войны, может быть, не до конца еще раскрыта. На поверхности лишь то, что бросалось в глаза современникам: связь Нессельроде с австрийским двором, служение его интересам. Нессельроде сумел внушить Николаю I, что Австрия является верной, преданной союзницей России, и строившаяся на этой убежденности русская дипломатическая комбинация оказалась роковой: Австрия не только отказалась от «дружественного нейтралитета», на что в крайнем случае рассчитывали в России, но открыто присоединилась к союзникам – Франции и Англии. Однако и после этого не прекращались тайные сношения Нессельроде с австрийским кабинетом. Героическая борьба Севастополя, длившаяся почти год, произвела такое сильное действие на французов, что император Наполеон III предпринял шаги для переговоров с Россией, которые и начались секретно в Париже. Тотчас же Нессельроде поставил в известность об этих переговорах венский двор, что крайне осложнило положение России: Австрия, боясь изоляции от западных держав, немедленно предъявила России унизительный для нее ультиматум, неприятие которого вело к войне; кроме того, еще более агрессивными стали намерения Англии. В семье Аксаковых Нессельроде прямо называли изменником и предателем. Еще не остывшие от возмущения Аксаковых слова так и падали в дневник Веры Сергеевны, проклинавшей Нессельроде, этого «австрийского агента», «изменника», «предателя», все действия которого были «во вред России», «клонились к гибели России»; «но я все-таки уверена, что государь не был бы так уверен в невозможности высадки, если бы его не постарался в этом убедить и поддержать предатель Нессельроде». Общее мнение семьи слышится и в следующем рассуждении Веры Сергеевны, когда она писала, ссылаясь на донесение английского дипломата: «Еще в начале войны… англичане объявили, что им нечего бояться, пока Нессельроде управляет русской политикой, потому что Нессельроде вполне разделяет взгляды Англии».
Преемник Нессельроде на посту министра иностранных дел А. М. Горчаков (лицейский друг Пушкина) рассказал как-то в частной беседе следующее: «Знаете одну из особенностей моей деятельности как дипломата? Я первый в своих депешах стал употреблять выражение: государь и Россия. До меня для Европы не существовало другого понятия по отношению к нашему отечеству, как только: император. Граф Нессельроде даже прямо говорил мне с укоризной, для чего я это так делаю? Мы знаем только одного царя, говорил мой предместник: нам нет дела до России». Они и были для Аксаковых неприятелями – все те, кому «нет дела до России».
Немаловажно и то, что в недоверии к Нессельроде они не были одиноки.
В разные десятилетия о политическом интриганстве Нессельроде, граничащем с предательством государственных интересов России, высказывались П. Вяземский и Тютчев, Ермолов и Паскевич, В. Перовский и Муравьев-Амурский.
Константин Сергеевич все это время был в состоянии необычайного внутреннего горения, практические, общественные вопросы целиком поглотили его. Крымская война, смерть Николая I и восшествие на престол Александра II вызвали в нем глубокие переживания и напряженную работу мысли. Настоящее и будущее России мучительно волновало его. Что надо делать для ее блага, для избежания опасностей, таящихся в современной общественной жизни? У него есть свое мнение, и он должен это мнение высказать, довести до самого государя. Так, вскоре же после вступления Александра II на престол, весной 1855 года, Константин Сергеевич начал составление своей записки «О внутреннем состоянии России», предназначенной для государя. Зная, можно сказать, преклонение Сергея Тимофеевича перед «святыми убеждениями» старшего сына, легко представить себе, с каким пониманием и одобрением отнесся он к его замыслу. Вскоре записка была готова и через близкого к Аксаковым графа Блудова подана государю. Тогда это было нередкое дело – сочинение записок, обращенных к царю с советами и предложениями. Но мнение самого царя об этих записках было приблизительно то же самое, как отношение его позднее к назначению писателя Салтыкова-Щедрина на должность вице-губернатора провинциального города: когда Александру II преподнесли всеподданнейший доклад об этом, то он сказал, что вот и хорошо, пусть теперь служит, как пишет. Но служить оказалось труднее, чем писать, что и доказал наш писатель, распростившись с вице-губернаторством. Так и записка Константина Аксакова осталась просто запиской, но в ней его характер, убеждения выявились со всей прямотой.
В ней повторяется прежде всего излюбленная мысль Константина Аксакова о раздельности «земли» и государства, особенно подчеркнута важность этого положения в тезисах, заключающих записку. Автор утверждает, что русский народ «государствовать не хочет» и, предоставляя правительству власть государственную, взамен того предоставляет себе «нравственную свободу, свободу жизни и духа». Не народ нарушил это начало русского гражданского устройства, а правительство. И тут автор не особенно выбирает выражения, клеймя правительство за то, что оно «вмешалось в нравственную свободу народа, стеснило свободу жизни и духа (мысли, слова) и перешло таким образом в душевный деспотизм, гнетущий духовный мир и человеческое достоинство народа»; «правительство наложило нравственный и жизненный гнет на Россию – оно должно снять этот гнет» и т. д. Отделяя правительство от государя, Константин Аксаков не особенно жалует и последнего, также прямо обличая лесть перед царем, заверяя, что «русский народ не воздает царю божеской почести, из царя не творит себе идола»… Константин Аксаков дает и практические советы, главный из которых следующий: поскольку «свобода духовная или нравственная народа есть свобода слова», то и необходимо предоставить России эту свободу слова, свободу «общественному мнению». Сергей Тимофеевич по-отцовски мог присоединиться к энтузиазму сына, хотя он и сам был в свое время цензором, налагавшим некоторым образом стеснение на эту вожделенную свободу слова. Но теперь в цензуре Сергей Тимофеевич ожидал встретить препятствие своей «Семейной хронике», и поэтому слова из записки сына: «Полная свобода слова устного, письменного и печатного» – звучали для него весьма волнующе. Правда, опасения старика Аксакова насчет «Семейной хроники» не оправдались, ее пропустили всю, без единой помарки, но это нисколько не было и в дальнейшем препятствием к тому, чтобы бывший цензор Аксаков не разделял мнения своего старшего сына о цензуре, гнетущей «свободное слово»…
В эту трудную для России эпоху Иван Сергеевич не выдержал домашнего сидения и записался «охотником» в ополчение. Он стал штабс-капитаном Серпуховской дружины московского ополчения, облачился в мундир, исполнившись при этом, по его словам, очень серьезного и строгого чувства, и снова пошел мерить бесчисленные версты. В должности казначея и квартирмейстера ведал хозяйством целой дружины: снабжением людей провиантом, лошадей фуражом, хранением амуниции, приемом и размещением ружей, патронов, пуль, пороха. «Все ополчения теперь двинулись, – писал Иван Сергеевич родителям и старшему брату, – заколыхались сотни тысяч людей, и по всем дорогам теперь топот и говор идущих масс».
Так были пройдены дружиной великороссийские большаки, малороссийские «черноземные полотна дорог с лоснящимися полосами от колес», миновали Киев, вступили в Одессу, походом прошли по Бессарабии.
В письмах к родным Иван Сергеевич делился впечатлениями обо всем том, что встречалось на пути, о своих заботах и делах казначея, квартирмейстера, о казнокрадстве, взяточничестве (уже после окончания Крымской войны Иван Аксаков был приглашен принять участие в следственной комиссии, назначенной по делу о злоупотреблениях интендантства во время войны). В глазах сослуживцев примером честности было то, что по окончании кампании Иван Аксаков сдал в казну крупную сумму сэкономленных казенных денег. Крымская война, поражение России в ней тяжело переживались Аксаковыми, заставляли их глубоко задуматься о причине этого поражения. «Для меня, – писал Иван Аксаков вскоре же после войны, – одна только новость была бы утешительна, если бы сделан был хоть бы один шаг к освобождению крестьян, со стороны ли правительства или со стороны частных лиц. Чем больше думаю, тем сильнее убеждаюсь, что это единственное средство спасения для России, и что если этого вскоре не совершится, то будем мы биты и опозорены не один раз».
В марте 1856 года при известии о мире Иван Аксаков оставил дружины и возвратился в Москву… Через год он закончил свой труд по исследованию украинских ярмарок и был награжден за него Географическим обществом Константиновскою медалью, а впоследствии получил за него же Демидовскую премию Академии наук.
«Бродяжничество», однако, еще не перебродило в Иване Сергеевиче, его тянуло в новое путешествие, но на этот раз уже по чужим краям, которые надобно было увидеть собственными глазами, чтобы глубже понять существенные для него вопросы (относящиеся к России и Европе), и только после этого можно было зажить оседлой жизнью, серьезно приняться за какое-то постоянное дело.
И вот он за границей, в Париже, на первых порах оглушенный, ошеломленный шумом, гулом, движением, блеском этого «волшебного города», но вскоре же, по прошествии первого впечатления, видящий за всем этим блестящим водоворотом некую суетность и никчемность. И что всего возмутительнее в его глазах – это «раболепство умных народов, у которых есть жизнь духовная, перед внешним блеском чисто внешней жизни». Хотелось ему отыскать и понять те «добрые стороны», которые есть же у всякого народа, но сделать это было нелегко, лучшее, видимо, было разбросано, как все редкое, и находилось где-нибудь в другом месте, недоступное за дальностью расстояния. Краткость пребывания в Париже не помешала Ивану Сергеевичу сделать суровый вывод о здешней духовной среде, где «отовсюду видны края и дно, стремлений высших нет».
Вольнее, внутренне свободнее почувствовал себя Иван Сергеевич с приездом в Италию, оказавшись сразу же под неодолимой властью красоты, изобилием которой, кажется, здесь насыщен сам воздух. В Риме он насчитывает четыре города: Рим древний (с Колизеем, соответствующим идее древнего владычества Рима), Рим католический (с храмом Святого Петра, соответствующим идее католического всемирного владычества), Рим художественный и Рим народный. И о каждом Риме у него свое мнение, свои мысли, вынесенные не из книг, а из собственных впечатлений, – так важно все это увидеть своими глазами. После Рима с его развалинами, вещающими про могучую жизнь древнего мира, с неисчислимыми сокровищами музеев, ласкающей синевой моря и упоительной природой встретил путешественника Неаполь; и совсем очаровала Венеция; с площадью Святого Марка, с сотнями мостиков и арок, возносящихся над каналами, с почерневшими от времени дворцами, опоясанными водою. Сама итальянская природа, по-юному яркая, пышная, впечатляющая, пришлась, как видно, ему по вкусу. Путешествуя по югу России, он задумывался о мироощущении современного человека, о том, как угасает, исчезает тепло, интимность быта и в сознание, в жизнь человека входит холод неких горних высот. И здесь, в Италии, его потянуло испытать высоту особого рода. Он совершил восхождение на Везувий, был в самом кратере, стоя на застывшей, отвердевшей лаве и видя, как неподалеку со страшным шумом и ревом вырываются из двух жерл, дымясь и беснуясь, изрыгая камни и серу, два огненных языка, и рядом, почти под ногами, под застывшим слоем, сквозь трещины дышит, выбиваясь дымом, раскаленная лава, кажется, из самой преисподней земли. Великолепное, ужасное, торжественное зрелище, думал он, и здесь же закурил сигару на «огне Везувия», то есть от горячего куска лавы, выброшенного на глазах.
Такие моменты бывают редко в жизни человека, они оставляют в нем особое ощущение исключительности положения: дух захватывает от сдавленной ярости и гула подспудных стихий, необычайно обостряются слух и зрение, само сознание человека, поставленного перед вулканической силой. Нечто подобное не раз испытывал впоследствии Иван Сергеевич, будучи уже знаменитым публицистом и общественным деятелем, находясь как бы в кратерах социально-общественной жизни, чутко прислушиваясь к гулу времени, стараясь уловить подспудное движение событий.
Все относящееся к итальянской природе, расписываемой с увлечением Иваном, не встречало сочувствия отца. «Мать и сестры приходят в восхищение от местностей и природы, тебя окружающей, – отвечал он сыну, – но мы с Константином, испорченные нашей русской природой, не увлекаемся восторгами, и признаюсь тебе: ни разу не мелькнула у меня мысль или желание – взглянуть на эти чудеса». Сергей Тимофеевич не любил ничего грандиозного в природе, никаких эффектов и ничего вызывающе яркого, броского. На что, казалось бы, вода, в которой он видел «красоту всей природы», которая всегда жива, всегда движется и дает жизнь и движение всему ее окружающему; но не всякая вода, не во всякой своей стихии люба Сергею Тимофеевичу. Ему по душе небольшие речки и реки, бегущие по глубокому лесному оврагу или же по ровной долине, по широкому кругу, по степи, но не любимы им реки большие, с «необъятной массой воды», с громадными, утесистыми берегами. «Волга или Кама во время бури – ужасное зрелище! Я не раз видал их в грозе и гневе. Желтые, бурые водяные бугры с белыми гребнями и потопленные, как щепки, суда – живы в моей памяти. Впрочем, я не стану спорить с любителями величественных и грозных образов и охотно соглашусь, что не способен к принятию грандиозных впечатлений». В природе Сергея Тимофеевича привлекают не «величественные и грозные образы», а все простое и повседневное, дающее не столько зрительное удовольствие, сколько душевную радость общения с ней, с природой, и самой жизни в ней. Потому-то он довольно равнодушно внимал сыновним описаниям красот итальянской природы, не переставая, впрочем, восхищаться «славными письмами» Ивана. Как всегда, Иван отправлял домой письма с подробнейшими и выразительными рассказами о тех местах, где бывал, об особенностях культурной, бытовой, общественной жизни, делясь и своим неудовольствием по поводу того, что люди живут там преимущественно «вне общих современных интересов» – и за границей не убывал в Иване Сергеевиче его общественный темперамент, обращаясь хотя бы в эту критику. Послания его, как обычно, по нескольку раз читались всей семьей, да и гостями, которые даже уносили их из дому с разрешения хозяев (чтобы дать и другим почитать).
В одном из писем Иван Сергеевич признавался родителям, что «хотел бы взглянуть на Лондон». Нетрудно догадаться, что, главным образом, побуждало его отправиться туда. Ну конечно же разве можно было, побывав за границей, не навестить Герцена? По обыкновению русских путешественников, завершавших свои хождения по Германии, Франции, Италии переправой через Ламанш, зачастую единственно только для того, чтобы встретиться в Лондоне со знаменитым эмигрантом, и наш Иван Сергеевич оказался на Альбионе. В молодости не раз видевший Герцена (с ним был ближе знаком старший брат Константин), он теперь, спустя десять лет после эмиграции его, с любопытством ожидал встречи с этим человеком, сделавшимся предметом столь разноречивых суждений в русской публике. Герцен жил не в самом Лондоне, а в окрестностях его, в Путнее, куда надо добираться минут двадцать по железной дороге.
Герцен встретил гостя с живостью и энергией в жестах и движениях. В приемной зале, обставленной с большим комфортом, со старинным камином и коврами, хозяин и гость только успели обменяться первыми фразами, как с верхнего этажа (где были спальня и детские комнаты) сбежали вниз дети Герцена, которые и были представлены им Ивану Сергеевичу: шестнадцатилетний Саша, Наташа, двумя годами моложе брата, и семилетняя Ольга. Тут же появился Огарев, живший в двух шагах от дома Герцена и большую часть времени проводивший у него. Здесь они вместе встречали эмигрантов разных национальностей, обсуждали все, что касалось издания «Колокола». Только год с небольшим, как приехали Огарев и его молодая жена Наталья Алексеевна Тучкова-Огарева в Лондон, покинув Россию, но они уже так сжились с герценовским домом, как будто не год, а все эти десять лет обитали здесь, настолько был близок и прямо-таки необходим Огареву его друг по клятве на Воробьевых горах. Впрочем, друзей настигло тяжелое испытание: вскоре же по приезде в Лондон Наталья Алексеевна, порвав с Огаревым, связала свою жизнь с Герценом, но преданность Огарева и Герцена друг другу не пострадала. И вот, видя сейчас пришедшего к Герцену Огарева, Иван Аксаков невольно подумал, насколько не сходны между собою эти два человека: из Герцена, кипучего, непоседливого, словно бил фонтан остроумия, в то время как полноватый, с круглым лицом скорее русского купца, чем поэта, Николай Платонович Огарев казался унылым, меланхолическим молчальником (хотя именно этот молчальник, как потом стало известно Ивану Сергеевичу, предложил Герцену издавать «Колокол»).








