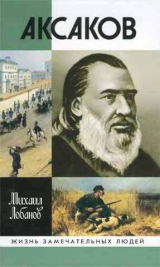
Текст книги "Аксаков"
Автор книги: Михаил Лобанов
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 28 страниц)
Иное, более глубокое связывало обоих – религиозно-духовные интересы. И как это ни могло быть досадно для Сергея Тимофеевича, благоговевшего перед Гоголем-художником и ревнивого ко всему, что могло, по его убеждению, мешать гоголевскому художественному гению, – Жуковский духовно влиял на Гоголя, причем не думая ни о каком сознательном влиянии. Это особенно скажется в последние годы их жизни, когда внутренней потребностью Гоголя будет, по его собственному признанию, исповедоваться в письмах перед Жуковским как в мыслях об искусстве, так и более сокровенных вопросах. Но в то время, когда Аксаков посетил Жуковского, для Василия Андреевича Николай Васильевич оставался все тем же Гогольком, о котором он говорил с отеческой теплотой и любовью.
Аксаков простился уже было с ласковым хозяином, как вдруг узнал от него, что Гоголь никуда не уходил, что он дома и пишет. «Но теперь пора ему уже гулять. Пойдемте», – сказал Жуковский и повел гостя за собою. Пройдя через внутренние комнаты, остановился у крайней двери, тихо отпер и отворил ее. Аксаков чуть не вскрикнул от неожиданности, увидев Гоголя в совершенно фантастическом одеянии: в длинных шерстяных русских чулках выше колен, во фланелевом камзоле, вокруг шеи большой разноцветный шарф, а на голове бухарский, малиновый, шитый золотом кокошник, смахивающий на головной убор мордовок. Гоголь писал, и его не вовремя прервали. Он долго, не зря, как выразился Жуковский, смотрел на вошедших, еще углубленный в свое дело, как бы не придя еще в себя и не обращая никакого внимания на то, как он выглядел в своем затейливом костюме. Освоившись с положением, Аксаков сказал, что из Петербурга выехать в ближайшие дни он не может, и Гоголь со вздохом принял покорно эту весть, решив дожидаться, чтобы ехать вместе.
Дела с Мишей затягивались. Поместить в лицей в Царском Селе его не удалось, оставались теперь две возможности – поступать в экстерны Пажеского корпуса или в Юнкерскую школу. Судьба как будто нарочно продлевала пребывание Сергея Тимофеевича в нелюбимом Петербурге, чтобы не разлучать его с сыном. Если бы знал Сергей Тимофеевич, что через год с небольшим не станет его мальчика!
В доме Карташевских отрадой для Сергея Тимофеевича была Машенька, его племянница, которую любил как дочь.
И это после всего того, что пережил Костя из-за этой девушки. Старший сын писал им письма из Петербурга, куда поехал для свидания с любимой Машенькой, и до сих пор эти письма болью отзывались в отцовском сердце. Сколько в них тоски, почти безнадежности, отчаянья, чего, казалось, нельзя было ожидать от него. «О Боже мой! – писал он. – Когда я вспоминаю 1836 год, переберу в уме моем все то счастливое время, и потом все горе, которое за ним последовало, а там эти ужасные полтора года… Не могу передать вам, милые дражайшие родители, всего тяжелого чувства, которое это на меня производит… Год и десять месяцев не видел я М., сказать страшно! В каких обстоятельствах расстались мы! И вот мы встретились после такой долгой разлуки. И что же? Вместо искренних, сердечных объяснений я почти боялся сказать слово, взглянуть лишний раз на М. И на долго ли это свидание? На пять дней! Сколько не договоренного, не досказанного!» И уже с дороги из Петербурга, отъехав сорок верст, Костя, по своему обыкновению не скрывать ничего от родителей, делился с ними своим намерением поехать за границу, чтобы было легче от разрыва с М. Читая тогда письма Костиньки, врезавшиеся в память его слова: «и в самой горести есть отрада, но, разумеется, иногда бывает она тяжела», Сергей Тимофеевич чувствовал, будто в нем самом засело что-то надсадно ноющее, и как перерабатывается оно в мужающее сознание выхода из личного горя, примиряющее с жизнью. Так становились для отца своими переживания сына, перед нравственной строгостью и серьезностью которого он, можно сказать, смирялся. Препятствием же к сближению Кости с Машей, его двоюродной сестрой, была главным образом непреклонность Надежды Тимофеевны Карташевской, которая воспротивилась даже переписке молодых людей. И, несмотря на все это, Сергей Тимофеевич не держал обиды на сестру, а тем более на племянницу. Он, Сергей Тимофеевич, не судья им, сестре и ее мужу, не хотевшим сближения их дочери с Константином, двоюродным ее братом. Машенька – существо прекрасное и сердцем, и умом, она и Вера неразлучные подруги, обе замечательно рисуют; пока были здесь, Машенька написала портрет Веры, а Вера – портрет своей сестры Марихен, который так понравился Гоголю, что он просил Веру написать для него портрет Сергея Тимофеевича масляными красками (о чем будет не раз напоминать ей даже когда уедет за границу). Мила и дорога была Машенька для Сергея Тимофеевича и тем, что она, как и Вера, восхищалась произведениями Гоголя, понимала и ценила его как великого художника.
Сам же Николай Васильевич так был занят своими сестрами, начиная от устроения их в доме доброй знакомой и кончая покупками всего нужного для их костюма, что не так часто уже виделся с Аксаковым. Гоголь оказался нежным братом, но ему трудно приходилось с «патриотками», привыкшими к нравам Патриотического института, где они воспитывались, и досаждавшими теперь брату капризами, ссорами, к тому же еще дикарством. Вера лаской, удивительным терпением сумела расположить их к себе, к облегчению измучившегося Гоголя. Кроме того, он страдал от петербургских морозов и был повержен в уныние.
Наконец настал день отъезда. Но исчезло уже то веселье, как тогда, когда ехали из Москвы в Петербург. Уже не слышались прежние шутки Гоголя на станциях во время завтраков и обедов, вместе с Верой он постоянно был занят только тем, как бы урезонить неунимавшихся «патриоток», угодить им. На пятые сутки притащились в Москву.
Гоголь, поселившийся с сестрами в доме Погодина, в мезонине, почти ежедневно посещал Аксакова, и Сергей Тимофеевич все ближе, как ему казалось, узнавал его как человека, во всяком случае в каких-то бытовых склонностях и странностях его характера. Но это был лишь один Гоголь, и как два «дорожных» Гоголя разнились друг от друга, так (в этом скоро убедится Аксаков) «бытовой» мало что общего имел с внутренним, духовным Гоголем, который был скрыт даже и от самых ближних к нему людей.
Вместе с Николаем Васильевичем приходили к Аксаковым другие гости.
Был Юрий Самарин, друг Константина, недавно познакомившийся с Гоголем, восторженный его поклонник, до такой степени, что в разговоре, в письмах его беспрестанно вырывались гоголевские фразы и обороты. Они будут переписываться, письма молодого человека по доверительности своей воспримутся Гоголем как исповедь, понятная ему как человеку, который «испытал сам многое», по его собственным словам.
Как-то в один из мартовских дней пришедший к Аксаковым Николай Васильевич вдруг совершенно неожиданно объявил, что он будет читать. Гости поспешно расселись в гостиной. Николай Васильевич, севший за боковой круглый стол, вынул из кармана тетрадку, икнул и сказал, что он объелся грибков. Слушатели не сразу и сообразили, в чем дело, и только потом, когда, заглядывая в тетрадку, автор стал читать, все поняли, что вовсе не Николай Васильевич объелся грибков, а его герой, которого так натурально представил писатель. Все были в восторге от комической сцены. И уж совсем в «восторге упоения», как выразился Сергей Тимофеевич, привело слушателей чтение в другой раз автором своих «Мертвых душ».
Наступило 9 мая, день именин Гоголя. В саду у Погодина он решил угостить обедом своих приятелей. Как досадовал Сергей Тимофеевич, что ему нельзя было из-за жестокого флюса, зубной боли остаться на этом обеде, проходившем на открытом воздухе, в прохладную погоду. Он приехал, закутав голову, поздравить именинника и тут же уехал. Потом он узнал, как весело и шумно прошел обед. После обеда все разбрелись по саду. Не каждому из них удалось послушать, как Лермонтов читал Гоголю и другим случившимся с ним рядом отрывок из новой своей поэмы «Мцыри», вспоминали впоследствии, как прекрасно он читал. Потом все собрались в беседку, здесь Гоголь, подшучивая над знакомыми, начал приготовлять жженку, которой любил потчевать других.
Спустя неделю с небольшим Гоголь уезжал за границу. Его провожали Сергей Тимофеевич с Константином, Погодин, Щепкин. Ольга Семеновна снабдила путешественника запасами в виде пирогов, балыков, лепешек и прочего. Николай Васильевич был весел и разговорчив в предвкушении всегда желанной, целительной для него дороги. Он снова стал уверять провожавших его, что через год воротится в Москву и привезет готовый к печати первый том «Мертвых душ». Аксаков не очень верил этому, и его огорчал отъезд Гоголя в чужие края, ему было непонятно, как можно, любя Россию, удаляться в Рим, чтобы там писать о ней. На Поклонной горе все вышли из экипажей, уезжавший на чужбину писатель простился с Москвой и низко поклонился ей. Перед самым отъездом все сели, по русскому обычаю, потом помолились. Гоголь устроился в тарантасе, и провожавшие долго стояли на улице, пока экипаж не скрылся вдали.
На обратном пути друзья Гоголя вдруг заметили, как, заволакивая небо, поползли черные, страшные тучи, и невольно мысли обратились к Гоголю, его будущему, на которое как бы пала тень этих мрачных туч. Но скоро, через каких-нибудь полчаса, все внезапно на горизонте переменилось: сильный ветер разогнал тучи, небо очистилось и солнце засияло во всем своем великолепии. Радостное чувство охватило Аксакова, для него увиденное было чем-то вроде предзнаменования. Такой же очистительной силы созданий художника, полного торжества его славы можно было ожидать в будущем. Случившееся произвело на Сергея Тимофеевича такое сильное впечатление, что, начиная с этого времени, он уже не смущался черными тучами, затемнявшими путь Гоголя, если даже они и таили в себе опасность для его существования, угрожали прервать неоконченный труд. До конца жизни Гоголя, до ее последнего часа Аксаков был убежден, что «Гоголь не может умереть, не совершив дела, свыше ему назначенного».
Отъезд Гоголя, опечалив Сергея Тимофеевича, скоро же и показал ему, что Николай Васильевич и на расстоянии был уже другим для их семьи человеком, чем в прошлое свое пребывание за границей. Первое же письмо из чужих земель, вызванное «побуждением душевным», по словам самого Гоголя, дышало чувством теплым, дружеским. «У меня не существует разлуки, и вот почему я легче расстаюсь, чем другой. И никто из моих друзей по этой же причине не может умереть, потому что он вечно живет со мною».
Началась переписка, как бы в продолжение московских встреч и разговоров. Сергея Тимофеевича радовало, что в письмах Гоголя он улавливал «то же самое настроение, с каким он уехал из Москвы». Посылались издалека «душевные объятия» «другу души моей» Сергею Тимофеевичу, всему семейству. Николай Васильевич обнимал от души Константина Сергеевича, «хотя без сомнения не так крепко, как он меня (но это не без выгоды: бокам несколько легче)». Давались всевозможные поручения, «комиссии», причем, видимо, с учетом возможностей каждого; так, Константину Сергеевичу поручается достать издание малороссийских песен, а Михаилу Семеновичу Щепкину – купить у лучшего петербургского сапожника выделанной кожи, самой мягкой, для сапог, и выслать ему, так как здесь недурно делают сапоги. Было какими известиями потчевать Сергею Тимофеевичу своего друга: у Погодина родился сын в день рождения Петра Великого и назван Петром, и он, Аксаков, крестил его; прочел он, Сергей Тимофеевич, «Героя нашего времени» Лермонтова, найдя в нем большое достоинство и живо помня его, Николая Васильевича слова, что Лермонтов-прозаик выше Лермонтова-стихотворца; высказывал «все, что теснилось в душе»… Николай Васильевич иногда шутил (хотя даже и у него на бумаге это выходило как-то неповоротливее, чем в неповторимой его, с серьезным видом, живой речи) и не шутя отделывал лечившихся на водах соотечественников, задававших вечный вопрос: «А который стакан вы пьете?!» – отчего он «улепетывал по проселочным дорогам», ибо этот вопрос напоминал ему другой непреложный вопрос: «Чем вы подарите нас новеньким?»
Но вот от Гоголя перестали приходить письма, он надолго замолчал, доходили слухи, что он отчаянно болен. Полученное наконец Аксаковым письмо подтвердило это. Гоголь писал, что он и не думал уже встать от болезни, но теперь здоров благодаря чудной силе, не только поднявшей его, но и осветившей его душу. «Много чудного совершилось в моих мыслях и жизни!» Какой-то иной, совсем другой тон, чем во всех предыдущих письмах, слышался в этом письме, как будто говорил другой человек, хотя, как писал впоследствии Аксаков, внутренняя основа всегда лежала в нем, Гоголе, все та же, начиная с молодых лет. Но, как понимал Аксаков, скрывавшийся в Гоголе за наружностью внешнего человека духовный человек в этом последнем письме, после болезни, выявился, как никогда прежде. По тону письма чувствовалось, что говорит уже не прежний Гоголь, что он изменился в нравственном существе своем.
Аксаков внимал признанию Гоголя о случившемся в нем перевороте, но ближе ему были «Мертвые души» (ничто не могло для него закрыть в Гоголе художника!), тем более что сам Николай Васильевич, живя уже иными, не литературными интересами, не только не бросил своего труда, но и, работая над ним, видел, что в нем «может быть со временем кое-что колоссальное». Отрадно было слышать Аксакову, как сердечно говорил Гоголь о своем пребывании в Москве, о его сыне Константине: «В моем приезде к вам, которого значения даже не понимал вначале, заключалось много, много для меня. Да, чувство любви к России, слышу, во мне сильно. Многое, что казалось мне прежде неприятно и невыносимо, теперь мне кажется опустившимся в свою ничтожность и незначительность, и я дивлюсь, ровный и спокойный, как я мог их когда-либо принимать близко к сердцу. И то, что я приобрел в теперешний приезд мой в Москву, вы знаете… Но уже когда я мыслю о вас и об этом юноше, так полном сил и всякой благодати, который так привязался ко мне, – чувствую в этом что-то такое сладкое». Так откровенно, в первый и последний раз, высказался в этом письме Гоголь. Сергей Тимофеевич был убежден, что сильное чувство к России в Гоголе развилось не без влияния его семейства, особенно сына Константина. «Без сомнения, пребывание в Москве, – писал Аксаков, – в ее русской атмосфере, дружба с нами и особенно влияние Константина, который постоянно объяснял Гоголю, со всею пылкостью своих глубоких святых убеждений, все значение, весь смысл русского народа, были единственно тому причины. Я сам замечал много раз, какое впечатление производил он на Гоголя, хотя последний старательно скрывал свое внутреннее движение».
И в следующем письме Гоголя были слова, встреченные с радостью Аксаковым и его друзьями: «Теперь я ваш; Москва моя родина. В начале осени я прижму вас к моей русской груди». Были здесь и фразы, которые могли бы показаться странными для тех, кто не знал Гоголя, не чувствовал его теперешнего, после перемены, состояния: он говорил о себе как бы со стороны, не скрывая своей избранности, как о сосуде, в котором заключено «сокровище». Все это могло бы показаться гордыней, если бы не слышалось здесь искреннее убеждение художника в великости своего труда, как в благом предназначении всей жизни.
В переписке случилось и то непредвиденное, что нарушило торжественный тон Гоголя и повергло его в смятение. Не знал Аксаков давней истории с «Москвитянином», того, как издатель его Погодин долго добивался от Гоголя чего-нибудь для журнала, как донимал его, жившего у него в доме, посылая наверх, в мезонин, записки и получая в ответ гоголевские краткие ответы-отказы. Не достигши цели, Погодин решил действовать через Аксакова, который, не ведая об упомянутой тяжбе, обратился в письме с просьбой к Гоголю, чтобы он прислал что-нибудь в журнал Погодина. Николай Васильевич ответил буквально стенаньем: для него, целиком погруженного в «Мертвые души», отрываться от них для журнального занятия было невыносимо. Но, жалуясь и страдая, он все же не смог отказать Аксакову и сделал из начала своей итальянской повести «Анунциата» статью «Рим», которая и была напечатана в «Москвитянине». Как раскаивался потом и обвинял себя Аксаков, узнавший, чего стоило Гоголю, чтобы оторваться от своего творения.
И настало время, когда великий труд завершился. В дорогу, в дорогу!
В Москве встретили Гоголя с объятиями в доме Аксаковых, крик Константина возвестил о приезде дорогого гостя. Даже по наружности было видно, какая сильная перемена последовала в Гоголе за эти менее чем полтора года: он стал худ, бледен, выражение осунувшегося лица казалось светлее и спокойнее прежнего. Голос его был тих, покорен, и говорил он как будто весьма мало занятый своим разговором. Внутренняя же перемена, происходившая в Гоголе, глубинная духовная жизнь гораздо менее были заметны, известны его знакомым. Сергею Тимофеевичу открылись они явственнее года через два, и особенно позднее, с выходом в 1846 году «Выбранных мест из переписки с друзьями».
Гоголь привез с собою готовый первый том «Мертвых душ», и все теперь для него в мире сосредоточилось вокруг издания этой книги. Для Сергея Тимофеевича не было, пожалуй, большей радости на свете, чем узнать об окончании первого тома «Мертвых душ». И надо ли говорить о счастье Аксакова, когда он вместе с сыном Константином и Погодиным был выбран Гоголем единственными слушателями, которым он прочитал целых пять глав своей поэмы. По окончании чтения автор потребовал критических замечаний. Погодин без всяких деликатностей со своей обычной рубкой сплеча заявил, что в первом томе содержание поэмы не двигается вперед, что Гоголь выстроил длинный коридор, по которому ведет своего читателя вместе с Чичиковым и, отворяя двери направо и налево, показывает сидящего в каждой комнате урода. Сергей Тимофеевич едва сдерживался, чтобы не перебить Погодина, и, когда тот кончил, горячо заговорил, доказывая, что никакого коридора и никаких уродов нет, что содержание поэмы идет вперед, потому что Чичиков едет по добрым людям и скупает мертвые души… Выслушав обоих, Гоголь взял сторону своего первого критика, сказав недовольно Аксакову: «Сами вы ничего заметить не хотите или не замечаете, а другому замечать мешаете», – и просил Погодина продолжать и очень внимательно слушал все, что тот стал говорить, не возражая ему ни в чем.
Рукопись поспешно была переписана (Сергей Тимофеевич предложил отличного переписчика, бывшего при нем воспитанником в Межевом институте, но Гоголь взял другого) и немедленно была отослана в цензуру в Петербург. Вскоре же пропущенная цензором рукопись вернулась в Москву, и сразу началось печатание.
Гоголь продолжал часто, почти ежедневно бывать у Аксаковых, по-прежнему все в доме дышало любовью к нему, Константин ходил как часовой кругом отцовского кабинета, охраняя покой подремывавшего там после обеда Николая Васильевича. Все было хорошо, пока не дошли до Аксаковых слухи, что Гоголь собирается скоро уехать за границу. Это было для них как удар грома среди ясного неба. Гоголь писал им такие письма из Рима, в которых признавался в сильном чувстве к России, в том, что Москва – его родина, он весь был обращен к России, вдруг опять этот отъезд на чужбину! Как же понять все это? Константин, очень огорченный, первым спросил гостя, верно ли, что он уезжает. Сначала тот отвечал неопределенным «может быть», но потом решительно сказал, что не может писать, оставаясь в Москве, что в самой его природе заключена способность тогда представлять себе живо определенный мир, когда он удалился от него. Для Константина все это было не резон, и он горячо убеждал Гоголя не уезжать, а приучать себя писать о России в Москве. Вера прямо приставала к Николаю Васильевичу с вопросами, не очень приятными для него: «С каким намерением он приезжал в Россию – с тем ли, чтобы остаться в ней навсегда, или с тем, чтобы так скоро уехать?» Знавшему об этих разговорах Сергею Тимофеевичу казалось, что Гоголь что-то скрывал, недоговаривал, и это обижало его.
Между тем печатание «Мертвых душ» подходило к концу. Первые готовые экземпляры были доставлены автору 21 мая в дом Аксаковых, это был день именин Константина, ему и подарил Гоголь первый экземпляр с надписью, а на другом подписал: «Друзьям моим, целой семье Аксаковых». На обеде, который был в то же время и прощальным обедом, Николай Васильевич обещал, что через два года будет готов второй том «Мертвых душ», но при этом уже ничего не сказал, приедет ли для напечатания книги.
И вот снова настал день прощания – это было 23 мая 1842 года. На первой станции, в Химках, заказали обед, выпили за здоровье Гоголя. Разговор был о всяких пустяках, провожавшие были в каком-то принужденном состоянии, не в силах одолеть в себе неприятного чувства при виде отъезжающего Гоголя, который обещал навсегда остаться в Москве. Подъехал дилижанс. Гоголь торопливо поднялся, стал собираться и простился с каким-то обыденным, казалось, чувством. Тут же он назвался и даже записался Гонолем, в пресечение возможного любопытства соседа по купе, какого-то военного необыкновенной толщины. Горькое чувство овладело душой Сергея Тимофеевича, смотревшего на захлопнувшиеся дверцы дилижанса: за ними уже не было видно Гоголя. Все забылось в эту минуту, все недоумения и недовольство скрытностью Гоголя, одно только чувство наполнило горестью при виде покатившегося по шоссе дилижанса: великий художник покидает отечество и их, своих друзей.
Уезжал тот, под влиянием которого совершился художественный переворот в сознании провожавшего его друга, обратив его душу и взгляд к действительности как предмету искусства. И все в действительности осветилось для него художеством. И все эти годы искусство настолько было для него неотделимо от Гоголя, что он не представлял себе их порознь, и неким откровением вошло это в самое его миросозерцание. А Гоголь увозил с собою тайну откровения, иного, чем у Аксакова, настолько далекого от него, что никакие расстояния уже не имели значения.








