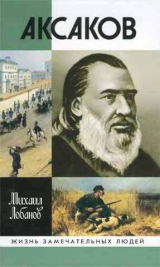
Текст книги "Аксаков"
Автор книги: Михаил Лобанов
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 20 (всего у книги 28 страниц)
Получив по заслугам от Константина Аксакова, Гиляров обратился к слушавшему спокойно этот разговор Сергею Тимофеевичу с вопросом: какое впечатление на него сделал он, Гиляров, в первый раз? И, услышав в ответ, что оно, это впечатление, было выгодно, Никита Петрович искренне удивился и повеселел духом.
Более миролюбивыми, чем с Константином, были отношения у Гилярова с Иваном Аксаковым. Иван Сергеевич только что в ноябре 1854 года вернулся в Абрамцево из своего путешествия по Малороссии и был полон теперь ярких впечатлений. Вечерами, за полночь, за большой чашкой крепчайшего чая бодрствовал он, приводя в порядок огромный привезенный материал. Как-то днем он собрал вокруг себя близких (в числе их был и Гиляров) и начал читать законченное им предисловие к своему статистическому труду. Сергей Тимофеевич, по мере чтения все более оживлявшийся, приходивший в явно взволнованное состояние, среди самого чтения подошел к Гилярову и отозвал его в другую комнату. Там с восторженным взглядом, как бы продолжая еще слушать чтение сына, он проговорил: «Вы запомните это слово, запомните! Иван будет великимписателем, великим!»
Поразительны были глубина и основательность исследования, но не менее изумляло и то мастерство, с каким автор умел осветить поэтично художественно сухой, казалось бы, предмет, деловой материал, данные, состоявшие из вроде бы скучных, даже мертвых цифр. Вспоминая эти слова старика Аксакова о своем сыне, Гиляров уточнит впоследствии, что предсказание отца сбылось, но Иван сделался не писателем только, а и деятелем, чего не предвидел, кажется, Сергей Тимофеевич.
Среди гостей Абрамцева был человек, которому мы обязаны тем, что можем видеть и теперь запечатленных рукой талантливого рисовальщика Аксаковых, отца и сыновей. Это Эммануил Александрович Дмитриев-Мамонов. О нем Вера Сергеевна Аксакова сказала: «Человек, одаренный разнообразными талантами и не способный ни одного из них обратить в дело». Знали его и как литератора, но интереснее, пожалуй, он был как художник. В своей оригинальной, несколько заостренной, преувеличенной манере он мог схватить натуру так метко, что бросалось в глаза самое характерное в ней. Каждый рисунок не окончен (как все, за что ни брался этот талантливый человек), но удивительно точен и схож с натурою. Сергей Тимофеевич изображен сидящим в кресле, нога на ногу, правая рука покоится на подлокотнике кресла, в левой – длинная трубка. Голова повернута вбок, в скошенных в сторону глазах спокойное внимание, видимо, к тем, кто участвует в разговоре. Совершенно иной характер на другом рисунке: «не усидчивый» в кресле Константин Аксаков, в волевом повороте головы, рванувшийся, кажется, в словесный бой, ничем, никакими условностями не сдерживаемый в своих движениях. Совсем другой на рисунке его младший брат, Иван Сергеевич: еще молодой, но уже солидный, строгий, в профиль, в очках, с указующим «публицистическим» жестом правой руки. Но, помимо всего прочего, был Дмитриев-Мамонов просто добрым человеком и этим больше всего нравился Аксаковым.
***
Гостем Абрамцева бывал и Иван Сергеевич Тургенев. И у него с Аксаковыми установились добрые отношения, больше с Сергеем Тимофеевичем: оба охотники, оба писали об охоте, природе – какие-никакие, а уже общие интересы. Тургенев был учтив, любезен со стариком Аксаковым, особенно в письмах, ценя его книги и в первую очередь его несравненный русский язык. Неустойчивый во мнении о собственном творчестве (душевный подъем или спад у него целиком зависел от того, что скажут о его новой книге друзья, критика и прежде всего молодежь), Иван Сергеевич был более уверенным в оценке других писателей, здесь выручало его эстетическое чувство – главное свойство его натуры. При этом в другом художнике он тонко чувствовал то, чего ему самому недоставало и что могло стать поводом для похвал, доставлявших удовольствие почитаемому таланту, как, впрочем, и ему самому. Так можно до скончания века длить эти добрые отношения с миролюбивым, снисходительным, благодарным за внимание к себе стариком.
Иное дело – отношения Тургенева с сыновьями Сергея Тимофеевича – с полным соименником Иваном Сергеевичем и особенно Константином. Для них мало чисто художественного воздуха в общении. Есть у него подозрения, что они хотели бы уловить его, как простецкую душу, в свои славянофильские сети. Он может любезничать с ними, кое в чем уступать для видимости, но когда дело дойдет до святых его убеждений – здесь уж ни на шаг назад! А святая святых его убеждений: личность, безграничный прогресс ее развития, безграничные права, самоценность ее. За право личности он сражался и будет сражаться до конца. И ему смешно слышать эти пророчества молодых Аксаковых о соборном начале в русской жизни, подчиняющем себе, поглощающем эгоизм личности. А религия – разве это не оковы для личности? Пусть как угодно думают Аксаковы, но для него, Тургенева, оковы. Прав Наполеон, который изрек на острове Святой Елены, что если бы ему нужно было иметь какую-нибудь религию, то он бы обожал солнце, потому что оно все оплодотворяет, оно настоящий бог земли. Аксаковы думают уловить его в свои сети, а пока сами попадают в ловко расставленную им художественную ловушку. Им понравились его «Записки охотника», Константин в восторге от «Хоря и Калиныча», увидел в этом рассказе прикосновение к земле и народу, давшее автору силу. Но ведь в тех же «Записках охотника» есть и рассказ «Однодворец Овсянников», где выведен не кто иной, как Константин Сергеевич под именем Любозвонов. Этот нелепый, неправдоподобный Любозвонов в кучерском кафтане, с его русской речью перед мужиками, просьбой спеть ему «народственную песню», конечно, карикатура на Константина Аксакова, поделом ему за его фанатичные убеждения. Но удивительное дело – никакой обиды, никакого раздражения не вызвал рассказ у Аксаковых, даже какое-то снисхождение к нему, хотя и с далеко идущими, как казалось Тургеневу, целями: не покидает их мысль перевоспитать его. В своем письме Иван Аксаков мягко укорял своего соименника, что он в новом издании «Записок охотника» оставил прежнюю карикатуру на Константина и тем самым поступил не совсем согласно с теперешним собственным убеждением. «Сами вы обо многом изменили свои мнения», – писал Иван Сергеевич Аксаков, но другой-то Иван Сергеевич не торопился с признанием на этот счет: ему виднее, переменились ли его взгляды… Но, право, сущий ребенок этот Константин Аксаков; сразу же по прочтении нового издания «Записок охотника» с оставшейся в них карикатурой на него он писал Тургеневу: «Кажется мне, любезнейший Иван Сергеевич, что вторичная наша встреча нас так сблизила, что мы с вами уж не разойдемся. Так я чувствую; уверен, что и вы тоже». Просто обезоруживает их незлобие, благодушие! Сам он, Тургенев, чувствовал неловкость, послав автору поэмы «Бродяга» свой отзыв, написанный свысока. «Ваши стихи имеют все качества поэзии, кроме того тонкого, неуловимого – того запаха,которым дышит, играя, счастливая и свободная жизнь. Но откуда взять этого счастья в наше сухое, трудное и горькое время? Спасибо вам и за то, что вы нам дали». И автор поэмы, Иван Аксаков, получив этот снисходительный отзыв, ответил вполне искренне: «С вашим мнением о «Бродяге» я не только согласен, но едва ли найдется человек, менее меня довольный этим произведением».
Давно вели переписку Тургенев с Аксаковым, с неизменно доброжелательным, мягким Сергеем Тимофеевичем; всегда прямым, откровенным Константином Сергеевичем, готовым по всякому поводу подавать писателю советы, наставления: не оставаться навсегда «преобразованным» (разумеется, петровской реформой), а втягиваться в постижение «русской самобытной жизни»; с более терпимым соименником своим, Иваном Сергеевичем, имевшим обыкновение говорить ему в письмах: «Послушайте!» Но могут ли заменить письма живое слово, непосредственное общение людей? Да и не все охотники до писем. Для Тургенева они были более привлекательным зеркалом, чем личная встреча, живой разговор с «адресователем», когда снимался флер отношений на расстоянии и все, что составляло обаяние его писем, исполненных ума, эстетического вкуса, метких суждений об искусстве, людях, уже теряло свою красоту перед главным: стержнем, ядром личности собеседника.
Во второй половине мая 1854 года Тургенев пять дней прогостил в Абрамцеве. Срок небольшой, но и все же достаточный, чтобы если не узнать, то хоть лучше понять, почувствовать друг друга. И в этом, кажется, преуспели обе стороны, убедившись, вероятно, в том, что не такие уж маниловские отношения между ними, не все им так уж приятно друг в друге и лучше об этом, пожалуй, не говорить. Именно так, отмолчаться, и намерен был Сергей Тимофеевич, как бы вскользь, мимоходом упомянув о посетившем их госте в письме к сыну Ивану, странствовавшему в то время по Малороссии. Почуяв что-то неладное (ведь столько семейных разговоров было о письмах Тургенева, о нем самом), Иван Аксаков настоятельно просил отца подробнее написать о Тургеневе: «Как его нашли у нас, понравился ли он и что он сам теперь, каков?.. Вы так мало о нем говорите, что как будто им не совсем довольны», – уже напрямик заключал Иван.
И Сергею Тимофеевичу пришлось ответить: «О Тургеневе писать – неуместно. Как добрый человек, он понравился нам, то есть некоторым. Но как его убеждения совершенно противоположны и как он совершенно равнодушен к тому, что всего дороже для нас, то ты сам можешь судить, какое он оставил впечатление. Впрочем, по моей веротерпимости, это не мешает мне любить его по-прежнему». Взаимные отношения действительно и после этого оставались прежними, переписка не прекращалась. В январе 1855 года Тургенев опять навестил Абрамцево. Что-то тянуло его туда. Не сама ли теплота семейной атмосферы, нравственная чистота, господствовавшая здесь и невольно влиявшая на гостей? Этого не мог не ценить Тургенев в аксаковской семье, при всех расхождениях во взглядах с Сергеем Тимофеевичем и его сыновьями.
Возможно, и по другой причине потянуло Тургенева к Аксаковым. Это было тяжелое время для него, переходное в его творчестве, полное неудовлетворенности и осознания еще не найденного своего художественного пути, «старая манера» (которую он относил к «Запискам охотника» с их фрагментарно-очерковым описанием людей и событий) исчерпала себя. Для выражения тех современных общественных проблем, картин русской жизни, которые входили в его замыслы, требовалась форма более эпическая, форма романа. Но «новая манера» (его же слова) не давалась писателю, так и не доведенный до конца роман «Два поколения» был уничтожен как неудавшийся. Мнительный Тургенев, с сильно надорванной верой в себя как писателя, готов был бросить навсегда перо, но предварительно ждал все-таки разубеждения и поддержки друзей-приятелей, видимо, в том числе и Аксаковых. Кроме того, он «вертел» (его же выражение) в голове роман (будущий «Рудин»), в котором намеревался вывести Н. Станкевича и его кружок. Константин же Аксаков хорошо знал Станкевича, был членом этого кружка, мог бы рассказать кое о чем, да и недурно самого его понаблюдать, живого идеалиста тех тридцатых годов. Так или иначе, Тургенев снова прибыл в Абрамцево. Он видел себя здесь уже как бы старожилом после недавнего, летнего приезда и рад был отвести душу в разговорах и, конечно, спорах с Константином Сергеевичем. Но прежде «охотник старый» и «охотник молодой», как называл себя и Тургенева Сергей Тимофеевич, поведали один другому (хотя об этом уже и знали из недавних писем друг к другу) об осенней стрельбе птиц. «В октябре самая лучшая стрельба тетеревов с подъезда, – говорил Аксаков, – когда-то я так любил эту охоту… но теперь у меня осталась только удочка».
Тема эта была всегда новой для обоих охотников, поощрявших друг друга и на литературные рассказы об охоте.
Много говорили гость и хозяева дома о литературе. Слушая знакомые еще по письмам бережные замечания Сергея Тимофеевича о его первом, неоконченном романе (который так и не выйдет в свет), похвалы, уверения в «больших достоинствах» этой рукописи, Тургенев испытывал удовольствие, оценивал бодрее и свои силы, былая мнительность, сомнения в своем даровании самому уже казались неосновательными, вздорными, и снова можно было, как когда-то, говорить себе: вперед! Так вот он и докажет это своим новым романом.
Константин Сергеевич тотчас же заговорил о последнем, неоконченном романе Тургенева, где много дано воли Амуру. «Амур – мальчишка, и больше ничего. Я уже писал Вам, что мало говорят у нас об общественных страстях человека, об общих задачах, а вместо того, кажут нам разнородных влюбленных – то на французский, то на английский, то на испанский манер. Не уважаю, признаюсь, я и самого этого личного чувства любви или влюбленности, коль скоро переходит оно за пределы юности… Мужественная сила мысли, деятельность ученая, художественная в истинном смысле слова, с достойным содержанием, всегда может быть подвигом мужа. Смешон был бы человек, захотевший идти по следам Дон-Жуана, чувственно или душевно… Недостаток мужественности меня постоянно огорчает».
Тургенев, чуть жалея «гонителя любви» (как он шутливо назвал мысленно Константина Аксакова), подчеркнуто обратился весь во внимание. Константин же Сергеевич как ни в чем не бывало продолжал свое, по обыкновению, полный желания помочь Тургеневу выйти на правильную «дорогу», тем более что сам писатель в прошлом уже доказал свою способность идти дальше, написав «Хоря и Калиныча»: пока он толковал о своих скучных любвях да разных апатиях, о своем эгоизме – все выходило вяло и бесталанно; но он прикоснулся к народу, прикоснулся с участием и сочувствием – и как хорош его рассказ! И вот теперь, когда писатель на распутье, еще не нашел свою манеру, – не самое ли время указывать ему, что со своими амурами он недалеко пойдет.
Воспользовавшись передышкой в речи Константина Сергеевича, Тургенев завел разговор о Станкевиче. Но там, где был его любимый Станкевич, рядом же появлялся для Тургенева и не менее его любимый Белинский. И здесь он не преминул восторженно заговорить о нем. Константин Сергеевич стоял, о чем-то задумавшись; Тургенев, поглядывая по сторонам, на других слушателей, вспоминал то счастливое для себя время, когда он встречался с Виссарионом Белинским. Благотворны были для него, Тургенева, эти встречи. Белинский был его командиром и руководителем, крестным духовным отцом. «Белинский и его письмо к Гоголю – это вся моя религия!» – воскликнул Тургенев. При этих словах Константина Аксакова как бы сорвало с места, негодованием сверкнули его до того задумчивые глаза, успели вырваться у него только несколько возмущенных слов, когда подошедшая к ним Ольга Семеновна объявила, что обед готов и пора за стол. Тургенев знал, что так возмутило Константина Аксакова: его, верующего, возмутило конечно же то, что он, Тургенев, назвал Белинского и его письмо к Гоголю – всей, единственной своей религией. Странный человек этот Константин Сергеевич: такой умница и такие предрассудки…
В столовой Тургенев поспешил завладеть стулом возле Сергея Тимофеевича. Желая несколько сгладить не совсем приятное впечатление от спора со старшим сыном старика, Тургенев начал делиться своими наблюдениями о заграничной жизни, о Париже, о французах: все там мелко, узко, негде развернуться! Если бы не серьезные причины, личные в том числе, заставляющие его уезжать в Париж, удерживающие там, – он непременно предпочел бы жить здесь, в России.
После обеда все пошли в гостиную. Был здесь и Хомяков; закурив трубку, он расположился в кресле и приготовился, кажется, долго сидеть, по своему обыкновению, как это делал у Аксаковых, особенно вечерами. В последние годы он неузнаваемо изменился. Смерть жены, последовавшая в январе 1852 года, перевернула его жизнь. И хотя он мужественно переносил горе, слишком велико оно было, даже и для его сил. Мало кто и раньше мог догадываться о душевных ранах этого человека, которые он скрывал даже от близких людей. Еще тогда, в первые же годы семейной жизни, казавшейся ему такой счастливой, его поразило горе: младенцами умерли первые два сына. Тоску свою по ним излил он в стихотворении «К детям», где вспоминал, как он любил
Стеречь умиленно ваш детский покой,
Подумать о том, как вы чисты душой,
Надеяться долгих и счастливых дней
Для вас, беззаботных и милых детей, —
Как сладко, как радостно было!
Теперь прихожу я: везде темнота.
Нет в комнатке жизни, кроватка пуста,
В лампаде погас пред иконою свет…
Мне грустно: малюток моих уже нет.
И сердце так больно сожмется!
И вот не стало Катеньки, все померкло в доме, хотя умом он понимал, что теперь должен быть для детей своих столько же матерью (как будто это возможно!), сколько отцом. Он старался не выдать своего состояния, на людях принуждал себя быть таким же, как и прежде. Однажды гость, оставшийся ночевать в доме Хомякова, случайно стал свидетелем потрясающей сцены: Хомяков глубокой ночью стоял на коленях и глухо рыдал, а утром, как обычно, вышел к гостям добродушно улыбающийся и спокойный.
С тех пор, как скончалась Катерина Михайловна, он неотступно о ней думал. Для своих детей (а их было пять) он рисовал на память ее портреты, воскрешая черты любимого облика. Не было уже прежнего Хомякова, веселого, остроумного, любящего жизнъ. Смерть жены была испытанием его, казалось бы незыблемой, веры. Ведь это он писал в своем сочинении «Церковь одна»: «Живущий на земле, совершивший земной путь, не созданные для земного пути (как ангелы), не начинавшие еще земного пути (будущие поколения), все соединены в одной Церкви – в одной благодати Божией». Оба они – и она, и он всегда жили в Церкви, и в ней, в вечном ее благодатном лоне продолжают жить вместе с Катей и с уходом ее из этой жизни. Он верил в это, но такая тоска по умершей жене точила его, что временами падал духом. И однажды во сне услышал ее голос: «Не отчаивайся!» И ему стало легче. Она не перестает быть с ним, с детьми, укрепляет его силы для жизненного подвига. Ранее беззаботный относительно «слова письменного», предпочитавший ему «изустное» слово, он теперь стал больше писать, как бы зная отпущенный ему недолгий земной срок, спешил передать на бумагу в глубине души зревшие долгие годы дорогие ему мысли и чувства [14]14
В пятидесятые годы, после смерти жены, Хомяков ушел в глубины богословия, познания сущности Церкви. В своих статьях и письмах, написанных по некоторым причинам по-французски и по-английски Хомяков развивает идею соборности. Сила Церкви – не во внешнем устроении, не в иерархичности ее, а в соборности, в единении любви всего церковного народа, в неодолимости ее как Тела Христова. Единство Церкви созидается непрекращающимся в ней действием Духа Божия. Каждое действие Церкви направляется Духом Святым, духом жизни и истины. Дух Божий в Церкви недоступен рационалистическому сознанию, а только целостному духу. В отличие от восточной православной Церкви с ее соборностью в любви Запад, католичество утверждает себя на гордыне индивидуального разума.
Соборностью глубоко проникнута великая русская литература. Осуществилось в XX веке то, что православный мыслитель, верный сын русской Церкви Хомяков, называл выходом своих богословских идей «на мировое поприще».
[Закрыть]. В доме Аксаковых он отдыхал душевно, сам, как хороший, теперь уже неполный семьянин, глубоко чувствовал благо семейного круга. Как и во всем другом в жизни, в семье он оставался цельным человеком. И в философии своей он находил для семьи не отвлеченные, логистически-мертвые формулы, а слова живые, проникновенные, говоря, что семья есть тот круг, в котором любовь «переходит из отвлеченного понятия и бессильного стремления в живое и действительное проявление».
Глубоко любя Сергея Тимофеевича, Хомяков и произведения его ценил прежде всего за то, что писатель «живет» в них, действует на читателя всеми своими прекрасными душевными качествами, как он говорил – «тайна его художества в тайне души, исполненной любви».
Тон в разговоре задавал Тургенев. Но в присутствии Константина Аксакова невозможно было особенно развернуться в светском красноречии: пусть здесь, в их доме и людей много, как на рауте в Москве, но для него-то, Константина Аксакова, это сходка, собственно, и все сходка – и эта гостиная, и любое собрание, и любой салон, где светские условности для него все равно что легкая паутина для его кулака, которым он потрясает пред собою, задетый за живое в споре. Есть в жизни русский крестьянин, Москва, Россия, есть народ и публика, соответственно – «золото в грязи» и «грязь в золоте», есть святыни у народа, которые чужды публике, интеллигенции. Когда ко всему этому у человека серьезное отношение, то может ли он переливать из пустого в порожнее в салонной болтовне? И он, Константин Аксаков, так и смотрел на дело, просто не обращая внимания на светский тон в разговоре и выходя прямо к барьеру идейной схватки. Тургенев понимал, с кем имеет дело, и хотя предпочел бы в послеобеденном обществе беседу легкую, художественную, шел навстречу бойцу вопреки своей небойцовской натуре.
– Я не согласен с вами, Константин Сергеевич, и, боюсь, мы никогда не сойдемся с вами ни во мнении о русском человеке, то есть крестьянине, по-вашему, ни во взгляде на право личности, которую вы, что ни говори, унижаете, а для меня это право превыше всего на свете…
– Вы молчите, Алексей Степанович, выходит, вы одного мнения с Иваном Сергеевичем? – спросил вдруг Константин Аксаков, как будто сделав для себя неожиданное открытие.
Хомяков, отрываясь от трубочки и переводя взгляд с Аксакова на Тургенева, спокойно сказал:
– Нет, я не одного мнения с Иваном Сергеевичем, если бы мы разговорились с ним далее, то разошлись бы совершенно во взглядах.
– Константин Сергеевич в самом деле хитер, он знал, что его слова помогут ему! – вскричал Тургенев и, подойдя к Константину Аксакову, дружески обнял его.
Сидевшая рядом с Хомяковым Вера Сергеевна с некоторым недоумением посмотрела на Тургенева, обнимающего ее брата, и грустно улыбнулась.
Учтивый же Иван Сергеевич Тургенев вступил в беседу с Ольгой Семеновной о Хотькове, о Хотьковском женском монастыре, где она вчера была, о недалеком же отсюда Радонежье, куда ему хотелось бы совершить прогулку, не теперь, конечно, в такую снежную зимнюю пору, а как-нибудь в другой раз, весною или осенью.
Перед ужином пошли погулять, но дул такой сильный ветер и такие дымились сугробы сразу же за домом, что чуть не завязли в снегу и, озябшие, шумные, вскоре воротились домой. Выдался самый подходящий случай – вспомнить давний рассказ Сергея Тимофеевича «Буран» и в домашней уютной обстановке прочитать вслух его, что незамедлительно и сделал Константин Сергеевич.
Вполне довольный проведенным временем в интересной семье, уезжал Тургенев из Абрамцева, клянясь, что скоро же приедет опять сюда, чтобы наслаждаться и приятными беседами с хозяином, и спором с Константином Сергеевичем, и прелестной природой. Но в Абрамцево он больше уже не приезжал; весной 1856 года, остановившись на несколько дней в Москве, по дороге из Петербурга в свою деревню, он навестил Аксаковых в их московском нанятом доме, и это была его последняя встреча со стариком. Но переписка между ними продолжалась вплоть до смерти Сергея Тимофеевича. Во время готовившейся крестьянской реформы, когда «корабль тронулся» в России, старик Аксаков написал Тургеневу за границу письмо, призывая его вернуться на Родину и принять участие в великом деле. Последней вестью для него о Сергее Тимофеевиче было полученное им письмо от Ивана Аксакова, в котором говорилось о смерти отца.
Как ни отвлекала заграничная жизнь Тургенева от старых воспоминаний, но где-то в глубине художественного сознания остался след от близкого знакомства с семьей Аксаковых. Вскоре после зимнего, январского пребывания писателя в Абрамцеве он задумывает в самом начале 1856 года роман «Дворянское гнездо». И что замечательно, в замысле его резко меняется отношение к личности, занимавшей писателя. Если незадолго до этого в повестях «Яков Пасынков», «Фауст» личность героя была важной только сама по себе, как «отдельная личность», то герой задуманного романа уже не мыслит себя вне жизни народа. Не под влиянием ли семьи Аксаковых идея народности вошла в роман Тургенева как главная сила, определяющая и судьбу человека? Потребовалось почти три года, пока возникший замысел, созревая, вылился в роман. Написан он был в Спасском. И, пожалуй, нет у Тургенева проникновеннее места, чем описание того, как возвратившийся из-за границы домой Лаврецкий погружается в целительный мир деревенской глуши с ее редкими, за окном, звуками и всепоглощающей тишиной; как будто он «попал на самое дно реки», где жизнь неспешна и полна силы, здоровья, заставляя забывать о «других местах на земле», в которых «кипела, торопилась, грохотала жизнь», «и – странное дело! – никогда не было в нем так глубоко и сильно чувство Родины».
В письмах к Сергею Тимофеевичу Тургенев все напоминал о своих спорах с Константином Аксаковым, явно эстетизируя их: «Я очень люблю спорить с ним, потому что, несмотря на наш крик и жар, дружелюбная улыбка не сходит у нас с души и чувствуется в каждом слове». Видимо, этот «крик и жар» помнился писателю, когда он описывал спор Лаврецкого и его университетского товарища Михалевича, «вопящих» всю ночь напролет. Но больше аксаковской существенности в споре Лаврецкого с молодым чиновником, «петербургским парижанином» Пащиным, когда Лаврецкий отстаивает «самостоятельность России», доказывает «невозможность скачков и надменных переделок с высоты чиновничьего самосознания – переделок, не оправданных ни знанием родной земли, ни действительной верой в идеал», «требует прежде всего признания народной правды». Как бы Константин Аксаков проглядывает порой в Лаврецком, в «странности» его (по словам Лизы, думающей так о нем после первого разговора с ним), в его облике, от которого «так и веяло здоровьем, крепкой, долговечной силой», в таких чертах его характера, как простодушие, целомудренность, честность, доверие к людям. Хотя Тургенев передал герою и кое-что свое – например отношение к религии, – Лаврецкий по желанию Лизы приходит в церковь, наблюдает за молением крестьян, оставаясь при этом совершенно равнодушным к таинству службы, занятый лишь одною мыслью – увидеть Лизу (так и вспоминаются слова Тургенева, сказанные в Абрамцеве и обращенные к Ольге Семеновне: «Даю вам слово, что в будущее воскресенье пойду в церковь», о чем рассказывает в своем «Дневнике» Вера Сергеевна).
Тургенев не вызвал симпатии у Веры Сергеевны, не увидевшей в нем того, чем она жила сама и что ей было близко в людях, – духовного идеала, но Иван Сергеевич благосклонно и сочувственно отнесся к ней как художник. Сам духовный облик ее, отношение ее к жизни, как к «трудному подвигу», не могли пройти мимо внимания художника, и образ Веры Аксаковой стоял перед ним, когда он изображал свою Лизу, с ее способностью к самопожертвованию.
Так впечатления, почерпнутые писателем из общения с семьей Аксаковых, вошли, художественно преобразясь, в «Дворянское гнездо». Как «неисправимый западник», каким он себя назвал однажды, Тургенев не мог принять славянофильские идеи Константина Аксакова, многое из того, что он слышал в семье Аксаковых. Но с ним могло случиться то же самое, что произошло с Лаврецким после отъезда университетского товарища, многие из слов которого «неотразимо вошли ему в душу, хоть он и спорил и не соглашался с ним. Будь только человек добр – его никто отразить не может».
Но было и еще одно обстоятельство, имевшее не последнее значение во взаимоотношениях Тургенева с Сергеем Тимофеевичем Аксаковым, его семьей. Тургенев мог в полемическом запале отрицать за Россией какую-либо роль в мире. Но автору «Записок охотника», конечно, было чуждо такое западничество, которому поклонялся, например, его друг Василий Боткин, говоривший с презрением о русском народе. У Тургенева не могло быть такого отношения к народу, уже как художник он видел то в крестьянах, что не способны были увидеть такие, как Боткин. И еще замечалось читателями-современниками, что знающий западный быт Тургенев тонко подмечает такие черты в иностранцах, которые делают их менее интересными по душевному складу. Да и сам Тургенев при всех его симпатиях к Западу, где он прожил десятки лет, при всей «податливости» своей натуры так и не растворился в западной жизни, не свыкся с типично европейскими цивилизованными нравами. С удивлением будет он рассказывать своим соотечественникам (оставившим о нем свои воспоминания) об этической глухоте французов, в том числе и своих друзей – французских писателей, поражаясь безразличию их к нравственной стороне человеческих поступков. Говорил в нем русский человек и тогда, когда, опровергая досужие вымыслы биографа, приписывавшего ему сочинения на французском языке, он с достоинством заявлял, что ни одной художественной строчки не написано им иначе как только на русском языке.
Значит, кроме расхождения с Аксаковыми (о чем писал Сергей Тимофеевич в известном нам письме к сыну Ивану), было и другое, что связывало обоих писателей. И не случайно, что так высоко ценили С. Т. Аксакова и Некрасов, и Щедрин, и Толстой, и Достоевский: было в его книгах, в самой теплоте народного мироощущения то, что оказалось сродни их нравственному взгляду на русский народ. Не случайно и Тургенев уже в конце своей жизни намеревался написать воспоминания об Аксакове – желание хотя и не осуществившееся, к сожалению, но весьма красноречивое по самой своей памяти о людях, оставивших неизгладимый след в его жизни.








