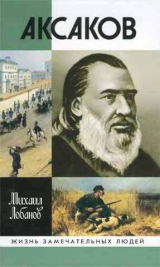
Текст книги "Аксаков"
Автор книги: Михаил Лобанов
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 28 страниц)
Но зато от отца в детстве воспринял Костя любовь к русской литературе.
Маленький Костя принимал живое участие в жизни отца, как, впрочем, и все другие дети; по экспансивности, открытости своего характера Сергей Тимофеевич не мог скрывать того, что его захватывало и волновало, и все в семье знали, кто написал такую-то пьесу, когда она будет поставлена на театре, как она была встречена публикой, кто из актеров играл замечательно и кто дурно. Дети знали, кто друг, а кто противник «отесеньки». На вопрос: кто главный противник? – могли бы крикнуть хором: «Полевой!» Действительно Николая Полевого, критика, издателя журнала «Московский телеграф», Сергей Тимофеевич считал своим неприятелем, не прощая ему «дерзких», «наглых» нападок на своих друзей – драматурга и театрала А. Шаховского, водевилиста А. Писарева (увы, надо признать, чаще всего справедливо подвергавшегося за свою легковесность резкой оценке со стороны Полевого). Не один год продолжалась полемическая тяжба Аксакова и его друзей с энергичным Полевым, и все это время имя Полевого не переставало склоняться в аксаковском доме.
Такие доверительные отношения, чуждые дидактических поучений и наставлений, больше всего, может быть, влияли на детские души, были благоприятны для их нормального, плодотворного развития и в то же время укореняли прочную любовь к родителям. Ибо всякая нравственная прочность покоится на нераздельности слова и дела, а здесь все на виду, скрывать нечего: чем жили неложно сами, то передавалось им, детям.
Наступило время, когда пора было определять первенца, закончившего гимназию. Друг Аксакова Погодин хотел взять его старшего сына в свой домашний пансион, но Сергей Тимофеевич воспротивился и отвечал: «Мне казалось странно, что мой старший сын (это важно для братьев) в то время, когда должен был поступить в друзья мне, будет жить не под одною кровлею со мною».
Пятнадцатилетним отроком поступил Константин Аксаков в Московский университет на словесное отделение. Из домашнего гнезда попал он как бы на торжище молодых умов, на умственный сквозняк, где какие только идеи не проносились. Разнилась эта разношерстная толпа по своему социальному положению: дети дворян, чиновников, духовенства, купцов, мещан, крестьян. Были здесь и разночинцы и аристократы, ярые атеисты и те, кто сторонился их; дети своих консервативных отцов и ниспровергатели всего существующего в России.
Иные напоминали того студента Сашку из одноименной поэмы А. Полежаева, «чертами характера» которого были «жажда вольности строптивой и необузданность страстей» и к кому не скрывал своей симпатии поэт:
Конечно, многим не по вкусу
Такой безбожный сорванец,
Хоть и не верит он Исусу,
А право, добрый молодец.
Но этот «добрый молодец» был не по вкусу Константину Аксакову, и он сторонился подобных ему.
Одно время Константин сошелся и даже стал приятелем своего сверстника Александра Сухово-Кобылина. Это был худой длиннолицый юноша, почти еще подросток, но уже с манерами самоуверенными и властными, вспыхивающим темным огоньком в глазах в минуту раздражения, надменный в обращении с товарищами. Всегда одетый в модный изящный сюртук или полуфрак, он как бы инстинктивно отстранялся от усевшейся с ним рядом в аудитории фризовой шинели, выцветшего демикотонового сюртука или казакина.
Однажды произошел случай, заставивший студентов много говорить о Сухово-Кобылине. Его младшая сестра влюбилась в своего домашнего учителя, профессора Московского университета Н. И. Надеждина. Узнав о романе своей сестры с «поповичем», Александр был взбешен. Он сказал тогда Константину Аксакову, с которым был в приятельских отношениях: «Если бы у меня дочь вздумала выйти за неровного себе человека, я бы ее убил или заставил умереть взаперти». Он властно вмешался в семейную историю, при полном бездействии мягкого, безвольного отца, с одобрения обожавшей сына матери потребовал выезда Надеждина из их дома. Бедный Надеждин страшился самой мысли, что он должен будет принимать после всего происшедшего экзамен у Александра, для него это была пытка, но самого Сухово-Кобылина это нисколько не смущало, и он пришел на экзамен к незадачливому жениху своей сестры как ни в чем не бывало. Прямодушному Константину Аксакову было не по душе «бездушное приличие своей сферы», которое внесли в университетскую жизнь молодые люди из аристократических домов, такие, как Сухово-Кобылин, даже и то, что они предпочитали говорить не на русском, а на французском языке. Эта наружная благовидность «принесла свои гнилые плоды». В конце концов он должен был разорвать свои товарищеские отношения с Сухово-Кобылиным, «напитанным лютейшей аристократией», по словам Сергея Тимофеевича Аксакова, который принял искреннее участие в несчастье Надеждина. Действительно, более разных людей, чем Константин Аксаков и Сухово-Кобылин, и нельзя было представить: один – весь дитя искренности и душевных порывов, готовый броситься в объятия каждому, в ком ему виделось добро; другой – не по возрасту как бы заледенелый в своем высокомерии. Собственно, это были два типа сознания, еще складывавшегося, но уже с видимыми задатками будущего развития обеих натур: сознания нравственно-цельного, не отчужденного от других, и сознания индивидуалистического.
С поступлением в университет роль Константина, и без того заметная в доме, сделалась почти главенствующей. Братья Гриша и Иван, старшая сестра Вера обращались теперь к нему чуть ли не как к профессору с вопросами по изучаемым в гимназии предметам, прочитанным книгам, за литературными, филологическими и прочими разъяснениями. Для матери он по-прежнему оставался большим ребенком, который нуждался в неусыпном родительском попечении. Но Сергей Тимофеевич с отцовской восприимчивостью чувствовал нечто важное, происходившее в первенце, что вносило в дом новые интересы и в чем-то меняло его самого, отца, ведь любовь к детям тоже знает разные духовные фазисы.
Вскоре слова «Шеллинг», «философия тождества», а затем «Гегель», «гегелизм» на все лады зазвучали в доме, погромче тех звучных стихов, которые декламировал глава семьи. И поскольку никто не таил секретов, всем в доме стало известно, что у Кости завелись университетские товарищи, с которыми он упоенно читает немецких философов. То был кружок Станкевича – названный так по имени его вдохновителя Николая Станкевича (которому предстояла недолгая жизнь – он скончался в 1840 году двадцати семи лет с небольшим от роду). В этом кружке сойдутся такие разных впоследствии идейных путей люди, как Белинский, Бакунин, Грановский, К. Аксаков. Гегель вызвал к себе такое поклонение, даже обожествление со стороны «русских мальчиков» (ведь никому из них, за исключением Белинского, не было еще тогда и двадцати лет, а самому младшему, Константину Аксакову, – всего шестнадцать), что сами же они со временем будут иронически вспоминать крайности своего увлечения. Но тогда весь живой мир, живые люди, все в русской действительности сводилось для них к завершенным категориям: «перехватывающему духу», «абсолютной личности и ее по себе бытию», «субстанции в ее непосредственном и случайном явлении» и т. д. И хотя «гегелизм» оставит свой след в той или иной степени в сознании каждого из них, в том числе и Константина Аксакова, крайнее увлечение гегелевской философией уже вскоре уступит место глубоким разногласиям между ними.
Друзья собирались у Станкевича в его доме в Большом Афанасьевском переулке, у Аксаковых, – сначала в Красноворотском проезде, а потом на Смоленской площади, в доме Боткиных в Петроверигском переулке. И когда уже вышли из университета, по-прежнему встречались, делились мыслями, спорили вплоть до отъезда Станкевича за границу в 1837 году, до перехода в конце 1839 года Белинского в петербургские «Отечественные записки». Вина почти не пили, только не было пощады чаю и булкам, не успевавшим остывать и залеживаться на столе. Но если раньше, во времена «студентской молодости» они могли принять за личную обиду и не говорить друг с другом по неделям из-за разного понимания, толкования какого-нибудь гегелевского определения вроде «перехватывающего духа», то теперь непримиримым пунктом расхождения стал вопрос об отношении России к Европе: должна ли она, Россия, следовать по пути Европы или у нее свой, самобытный исторический путь?
Кроме Станкевича, Белинского, Бакунина, К.Аксакова, Грановского участвовали в собраниях кружка и В. Боткин, Кетчер, Катков, Самарин. Начинали весело, с шуток, но вскоре закипали споры, переходившие нередко в крик. Белинский, забыв про булку и чай, мог вдруг вскочить со стула и зашагать по комнате, вскрикивая на ходу:
– Да, у нас нет литературы, это я писал в своих «Литературных мечтаниях», и каждый волен подумать о причинах такой пустоты…
– Висяша, зачем думать? – нежным, вкрадчивым голосом перебивал Боткин, подходя к Белинскому и гладя его по голове; был Боткин в какой-то цветной шапочке, прикрывавшей лысеющую голову; в глазах его мелькала то осторожная, то добродушная, с каким-то чувственным огоньком улыбка. – Никакой пустоты русской литературы нет, есть же у нас Кирша Данилов, – иронически продолжал Боткин, глядя со значением на Аксакова, как бы намекая на его восторженное отношение к песням Кирши Данилова.
– Оставьте в покое Киршу Данилова, не вам с вашей иронией судить об этой жемчужине народной поэзии! – Константин Аксаков, произнесший эти слова громким, суровым голосом, стоял против осторожно улыбавшегося Боткина, глядя на него с нескрываемым гневом.
Бакунин, с кудрявой львиной головой, с дымящимся чубуком у рта, переводил свой тяжелый, пытливый, беспокойный взгляд с одного приятеля на другого. Совсем недавно, всего год назад он, служивший в армейской части в глухой провинции, тайком от отца вышел в отставку и поселился в Москве. Здесь он познакомился со Станкевичем и его друзьями и вошел в их кружок, никакой философией он раньше не занимался и не интересовался, Станкевич угадал в новобранце сильные диалектические способности и засадил его за немецкую философию. После Канта и Фихте наступил черед Гегеля, и он-то стал любимым коньком бывшего артиллерийского прапорщика. Усвоив крепко гегелевскую методу и логику, он начал проповедовать ее со всей яростью новообращенного фанатика.
Здесь, в кружке, двадцатитрехлетний, но не по возрасту атлетически мощный Мишель (как называли Бакунина его приятели), весь был поглощен своим гегелизмом, безразличный, кажется, к спорам о России и Европе. От него, поглядывающего тяжелым, налитым взглядом на спорящих, можно ожидать каждую минуту, как он «срежет» заговорившегося, подойдет к нему и, загребая нелепо длинной, свободною от чубука правою рукою, сложивши два длиннейших перста, покажет, что в нем, в разгорячившемся спорщике, спекулятивности нет «вот на эстолько».
Совсем юный, но уже с властным выражением как бы застекленевших зеленых глаз, с готовностью «тяжело навалиться на человека», как заметил о нем бывавший в кружке, чуткий к людям поэт Кольцов, стоял в стороне Катков, по-наполеоновски сложив руки на груди. Вопил, хохотал громко по всякому поводу Нелепый, как называли приятели Кетчера, являвшегося обычно на собрание с бутылкой рейнвейна или шампанского, им же самим большей частью и осушавшейся. Переводчик Шекспира, он «жарил» с чудовищным маханием рук шекспировскими цитатами, хохоча гомерически.
«Шепелявый профессор», как называли Грановского за его пришепетывание, выразительно менявшейся складкой полных, припухлых губ как бы высказывал свое отношение к тому, что слышал. Скромно сидел, внимательно слушая, Самарин, самый юный, державшийся поближе к Константину Аксакову.
В кружке, как говорил впоследствии Белинский, люди сошлись «со всех четырех сторон света», в нем царило разномыслие. Спор кипел, голоса перебивали, заглушали друг друга, мешались, в общем шуме не все можно было разобрать…
– Господа, не пора ли вам грянуть «За туманною горою»?
Споры иногда так и пресекались – вмешательством Станкевича, считавшего задачей кружка не разжигание политических страстей, а чисто философское нравственное развитие каждого из его членов. Но берега не удерживали, споры перехлестывали их, и Станкевичу, натуре живой, одаренной, приходилось для успокоения, примирения расходившихся спорщиков прибегать к шутке, к передразниванию, большим мастером коего он был (передразнивая, например, стучанье Белинским по столу кулаком), и часто к запеву какой-нибудь «студентской» песни. Доставалось обычно за «буйные хулы» Белинскому, прозванному в кружке «неистовым Виссарионом», а столь же «неистовый» Константин Аксаков вызывал шутки Станкевича, он иронически горячо «по-славянски жал руки Константину и по-русски низко кланялся ему в пояс». А самому Константину Аксакову по природной суровости, серьезности отношения к своему верованию было не до шуток. Впоследствии он в «Воспоминаниях студентства» скажет о кружке, о своем положении в нем: «В этом кружке выработалось уже общее воззрение на Россию, на жизнь, на литературу, на мир – воззрение большею частию отрицательное… я был поражен таким направлением, и мне оно было больно; в особенности больны были мне нападения на Россию, которую я любил, которую люблю с самых малых лет».
***
Неожиданным для друзей Константина Аксакова явился его отъезд осенью 1838 года за границу, и только в семье знали о причине этого, о разрыве с Машенькой Карташевской, боль которого он думал утолить вдали, на чужбине. Но и там не удавалось ему избавиться от мучительного любимого образа, он писал родным: «С нами (только не в одном экипаже со мною) ехала одна девушка, которая, особливо при свечах, была очень похожа на М., так что я с изумлением смотрел на нее. На другой день утром очарование исчезло, но не совсем». Тосковал он и по семье, по родителям, братьям и сестрам, чужеземные лица напоминали ему свои, родные. «В тот же день, на пароходе, на котором я приехал в Линдау, была одна англичанка, очень похожая на Верочку».
И за границей Константин Аксаков оставался самим собою. Читая его письмо, Сергей Тимофеевич хохотал, восклицая: «Узнаю Костю!» И в самом деле, как было не узнать, читая такое: «Когда я воротился в гостиницу, то мой пруссак вместе с пруссаком из Кенигсберга обедали в столовой зале. До сих пор, благодаря Бога, не было у меня такого неприятного разговора, как от Кенигсберга до Берлина, тот, кенигсбергец, спросил меня: „Что, видели вы здесь русский монумент?“ – „Какой русский монумент?“ – „Монумент, воздвигнутый 30 тысячам баварцев, погибшим в России, но больше от холеры, чем от меча русских…“ Тогда я сказал: „Я, господа, видел другой монумент, недалеко от Москвы, в селе Кунцеве, на этом монументе написано: 'Король Фридрих Вильгельм Первый благодарил отсюда Москву за спасение своего Отечества…' Так написано по крайней мере, господа“. – „Что ж! Это правда“, – сказал мне пруссак. Трактирщик, старый, добрый человек с удовольствием, казалось, слушал мой спор с пруссаками, и потом ласково заговорил со мною, уверяя, что он знал много моих земляков».
И тут, на чужбине, мыслями он был с Москвой, с родными, друзьями. «Хотелось бы мне заехать в Эмс, если Станкевич там». И разве только на время была загнана внутрь тоска по Машеньке. Он возвращался домой с обновленным чувством родины – всего того родного, необходимого ему, как воздух, чем и жил до этой поездки.
…Каждый из «неистовых» – и Белинский и Константин Аксаков – проповедовал свое, был готов положить душу «за други своя», за свои убеждения. Каждая встреча с новым человеком была как бы вербовкой в свои ряды. Упоминавшийся Панаев в тех же литературных воспоминаниях рассказывает, как Константин водил его, петербуржца, приехавшего в Москву, по улицам первопрестольной, показывал достопримечательности. «Константин Аксаков был такого же атлетического сложения, как его отец, только пониже ростом. Его открытое, широкое, некрасивое, несколько татарское лицо имело между тем что-то привлекательное; в его несколько неуклюжих движениях, в его манере говорить (он говорил о любимых своих предметах нараспев), во всей его фигуре выражались честность, прямота, твердость и благородство; в его маленьких глазках сверкало то бесконечное добродушие, то ничем не преодолимое упорство… Он останавливал меня перед Иваном Великим, перед Васильем Блаженным, перед Царь-пушкою, перед колоколом – и глазки его сверкали, он сжимал мою руку своей толстой и широкой рукой… „Вот Русь-то, вот она, настоящая Русь-то!“ – вскрикивал он певучим голосом. Он возил меня в Симонов и Донской монастыри и, когда я обнаруживал мой восторг от Москвы, восхищался ее живописностью и ее старинными церквами, К. Аксаков схватывал мою руку, жал мне ее так, что я только из деликатности не вскрикивал, даже обнимал меня и воскликнул: „Да, вы наш, москвич по сердцу!“»
Глубоко уважал К. Аксакова за честность, благородство, глубину, силу характера и Белинский. В его письмах к приятелям то и дело повторяется: «Константина Аксакова я, чем более узнаю, тем более люблю: это один из малолюдной семьи сынов божиих». «Рад, что вам понравился Аксаков. Это душа чистая, девственная, и человек с дарованием»; «из старых друзей, только добрый, благоугодный, любящий Аксаков все так же хорош со мною, как и прежде». Но, расхваливая Константина Аксакова, Белинский видел в нем и существенный, в его глазах, недостаток: он «еще не искушен внешнею жизнью, внешнею борьбою, которые потому необходимы человеку, что, как толчки, пробуждают в нем жизнь и борьбу внутреннюю». «Да, славное дитя Константин: жаль только, что движения в нем маловато. Я и теперь почти каждый день рассчитываюсь с каким-нибудь своим прежним убеждением и постукиваю его, а прежде так у меня что ни день, то новое убеждение. Вот уж не в моей натуре засесть в какое-нибудь узенькое определеньице и блаженствовать в нем».
С одной стороны, у Белинского – восхищение незаурядной личностью Аксакова, с другой стороны – неприятие в нем того, что сам Белинский называет «неподвижностью». «С Аксаковым мои отношения хороши. Я вижусь с ним с удовольствием и, когда увижу его, то люблю, а когда не вижу, то чувствую к нему род какой-то враждебности. Чудный, прекрасный человек, богатая и сильная натура, но я не знаю, когда он выйдет из китайской стены ощущений и чувств, своей детскости, в которых с таким упорством и с такою неподвижностью так мандарински пребывает», – писал Белинский Станкевичу в начале октября 1839 года незадолго до своего переезда в Петербург, положившего конец его дружеским отношениям с Аксаковым.
Осень 1839 года как бы заметала их молодую, семилетнюю дружбу. Они еще встречались, Белинский по обыкновению навещал Константина, подойдя к дому, он как-то беспокойно оглядывался, опасаясь увидеть неблаговолившую к нему, смотревшую косо на его дружбу с сыном Ольгу Семеновну, и спешил по лестнице наверх, в мезонин, в комнату Константина. Здесь ему было свободно и вольно, усевшись на диван, ссутулившись, он усмехался чему-то своему, покачивая головою и поглядывая большими серыми глазами на хозяина.
– И воротился бы назад, да ноги сами идут к тебе, любезный Константин, несмотря ни на что! – Белинский на миг полуприкрыл глаза, как всегда в редкие спокойные минуты, и о чем-то задумался. – Вот скоро уезжаю в Питер, в «Отечественные записки», содействовать предприятию Краевского и успехам отечественной литературы, – заговорил он с иронией, которая обычно не удавалась ему, и выходило как-то простодушно, в лоб.
– Наконец-то я перебираюсь в Питер! – и замолк, увидев перемену в лице Аксакова, не любившего Петербург, считавшего его городом бюрократии и космополитизма. – Для тебя все Москва, Москва! Я и сам, брат, москвич: могу ли я забыть, как впервые я въехал в Москву десять лет назад, как сильно билось у меня ретивое, когда за несколько верст до заставы завиднелась, как в тумане, колокольня Ивана Великого, а потом увиденный Кремль, монумент Минина и Пожарского на Красной площади. Но ведь всему свое время! Нельзя же вечно заниматься «москводушием».
– Ты чаще говоришь «москвобесие», – тихо вставил Константин.
– Зарезал, брат, зарезал! – захохотал Белинский, откидываясь головой на диване и тут же закашлявшись; кашлял он долго и громко, с выражением досады на худощавом лице: этого еще не хватало, эдакий, право, глупый ремиз. И, справившись с приступом кашля, продолжал, переводя дух:
– Нелегко мне, Костя, оставить Москву, где совершилось столько важных переворотов и процессов моего духа, где завязался и кипел наш кружок, где много прекрасного узнал я в друзьях. Но наш удел – не постоянный дом с филистерским халатом, а ряд бивуаков, судьбе угодно, чтобы я переехал в Питер. Это великое детище Петра, божества, вызвавшего нас к жизни, разбудившего от смертной дремоты древнюю Россию… – и как бы вспомнив, чего можно ждать от Аксакова в ответ на этот дифирамб, какой бури, Белинский закончил: – Да и тебе стоило бы пожить в этой отрицательно-полезной сфере петербургской жизни, чтобы избавиться от прекраснодушия.
– Оставь ты меня в покое со своей отрицательно-полезной сферой! – отвечал Аксаков, нахмурившись.
Прежде разговор между ними тек легко, Константин был смешлив; закрывая глаза, в восторге кричал «каково зрелище!», когда Виссарион со своей прямотой и наклонностью к сильным выражениям припечатывал кого-либо из своих друзей. И острые углы (которые, конечно, тогда были же!) как-то сглаживались, забывались перед взаимной симпатией и любовью. Но теперь уже не было этой гладкости отношений, то и дело находила коса на камень, оба были не из уступчивых.
– Всем ты, Костя, взял – и благородством, и умом, и глубиной духа, но сколько тебя знаю – никакого движения…
– А твои движения?
– Ты знаешь их сам, но могу и напомнить, мне нечего стыдиться своего развития. У меня было и «к черту политика, да здравствует наука», и рефлектирование, которое я побил органическою духовной жизнью, был фихтиянский взгляд на жизнь, – я уцепился за него с фанатизмом, фихтионизм я понял, как робеспьеризм, и в новой теории чуял запах крови, пока по возвращении с Кавказа я не оказался в переходном состоянии: дух утомился отвлеченностью и жаждал сближения с действительностью. Вот тут-то и явился Мишель с гегелизмом: это был новый момент, потрясший меня до основания! Действительность! Действительность! – твержу я, вставая и ложась спать, днем и ночью! Напрасно ты умаляешь во мне движение, хотел бы я, чтобы каждый так подвигался, как я двигался от масленицы прошлого года до вчерашнего дня, когда я окончил письмо Станкевичу.
Белинский, как это с ним бывало при возбуждении и волнении, уже ходил большими шагами из угла в угол комнаты, как бы приседая при каждом шаге. Аксаков слушал, не вставая со стула, опираясь ребрами огромных ладоней на стол.
– Сейчас я готовлю яростный залп по тем, кто отвергает разумную необходимость в истории. Не аплодисмена я жду, а крика негодования вчерашних друзей. Но что нужды? Истина для меня превыше всего.
– Желаю тебе подольше задержаться на этом моменте, – вставил Аксаков, внимательно слушавший Белинского, – мы ведь и повиты оба одной веревочкой – Гегелем, он связал нас с тобой…
– Посмотрим, время покажет, – отвечал Белинский, плюхаясь на диван и растягиваясь на нем во весь рост с заложенными за голову руками. – Откуда мне знать, что может выкинуть действительность? Это ты непробиваемый мандарин, ты еще и не нюхал действительности…
Аксаков казался спокойным, но в глазах его, отражавших так красноречиво всю смену его душевных состояний, уже сверкало то волевое, ничем не преодолимое упорство, которое было так хорошо известно Виссариону, хорошо знавшему, что предвещало это упорство. Вдруг Константин поднялся со стула и, рубя ладонью воздух, высокий, отчужденный, суровым голосом заговорил:
– Ты все нападаешь на русскую народность и тех, кто предан ей, обвиняешь в застое, в неподвижности. Ты кичишься своим развитием, без которого у тебя дня не проходит, но ведь развиваться – значит предыдущее полагать в себе моментом развития и идти далее, а не то, чтоб целый век прыгать с ноги на ногу и качаться из стороны в сторону на одном месте. Вот тебе мой ответ на твое так называемое развитие.
«Отрицательно-полезная сфера» петербургской жизни способствовала еще большим радикальным переворотам в сознании Белинского. Разрыв между прежними друзьями становился неизбежным, он и наступил летом 1841 года. А после выхода в мае 1842 года гоголевских «Мертвых душ» между Белинским и Константином Аксаковым произошла яростная идейная схватка. Суть спора касалась отношения не только к искусству, но и к самой действительности: есть ли в ней силы положительные, созидательные (достойные утверждения) или же она заслуживает только отрицания. Белинский, разделавшийся со своей вчерашней «разумной действительностью», весь был теперь поглощен отрицанием «гнусной действительности», и в литературе главным для него сделалось это отрицание, социальное обличение. А знаменем этого обличения стал Гоголь, его «Мертвые души».
***
После переезда Сергея Тимофеевича с семьей из Оренбургского края на житье в Москву он стал всерьез думать о службе. В это время прошел слух о создании в Москве нового цензурного комитета, который должен был находиться в ведении министра народного просвещения. А поскольку этим министром был старый знакомый Аксакова – Александр Семенович Шишков, то с ним следовало и вести разговор.
За эти десять лет, протекших со времени их последней встречи в 1816 году, в жизни Шишкова произошло много перемен: уже не было на свете Дарьи Алексеевны, первой его жены, оставшейся в памяти Аксакова «истинно доброй и достойной уважения»; Александр Семенович второй раз женился, «имея нужду в няньке», как он сказал при встрече Сергею Тимофеевичу. Но могло казаться, что все в его жизни ровно и спокойно, как в гавани, после того невиданного шторма, каким была для него, как и для всех русских людей, Отечественная война 1812 года. Уже становились историей и его деятельность на посту государственного секретаря (вместо M. M. Сперанского), и писанные им от царского имени во время войны манифесты, обращения к народу, которые, по словам Аксакова, «действовали электрически на целую Россию». В своей деятельности Шишков видел служение благу Отечества, как он это понимал: чтил власть, но никогда не раболепствовал пред нею, оставался всегда верным своим убеждениям, не боясь опалы. Прямота и честность не изменяли ему и в отношениях с Александром I. Шишков отказывался от писания манифестов в тех случаях, когда они не отвечали истинному положению дел. Надо было обладать недюжинной нравственной силой, смелостью, чтобы настаивать, как это сделал Шишков, на отъезде из армии императора, присутствие которого неблагоприятно отражалось на руководстве русскими войсками.
Исполнив свой общественный долг в суровую годину для России, чуждый какому бы то ни было карьеризму, Шишков после изгнания Наполеона из России по собственной воле избрал служебное место более скромное и близкое ему, став президентом Российской академии. Но не только излюбленная этимология занимала его в это время. Никто, пожалуй, не знал, что в 1818 году Шишков начал писать воспоминания, или, по его словам, «Домашние мои записки», и закончил их в 1828 году. Стало быть, в том 1826 году, когда Сергей Тимофеевич, спустя десять лет, снова встретился с Шишковым, уже министром народного просвещения, он даже не догадывался, какие грандиозные события проходят через душу этого рассеянного старика. Начиная с восьмидесятых годов XVIII века, когда он при Екатерине II начал свое служебное поприще с Морского кадетского корпуса, Шишков был свидетелем и участником многих событий, и малых и великих, и внутренних и международных. И в своих «Домашних записках» он подробно повествовал об этих событиях, зачастую оставшихся тайной для современников, развертывал картины государственной, общественной жизни, военных столкновений, со свойственной ему прямотой рассказывал о закулисных сторонах происходившего.
Писал свои «Записки» Шишков не для печати, а как он сам укажет через два года, в 1828 году, в предисловии к ним – «собственно для себя или для весьма немногого числа моих приятелей», и даже завещал сжечь их после своей смерти. Однако сам же Александр Семенович и нарушит свою авторскую волю, когда впоследствии, в 1831 году, выпустит свои «Краткие записки» (основанные на тексте «Домашних записок»).
Приехавший в том, 1826 году, на короткий срок из Петербурга в Москву Шишков не мог, конечно, не вспомнить о своем давнем плане, касавшемся первопрестольной. Еще в конце 1812 года он замыслил, получив одобрение императора, описать пребывание наполеоновской армии в Москве и тогда же поручил этот труд литератору и переводчику религиозной литературы Я. И. Бардовскому. Для Шишкова варварство завоевателей, руины Москвы, оскверненные ее святыни были обличением ненавистного ему западного «безверия». Он внимательно следил за работой Бардовского, в переписке с ним наставлял, как лучше собирать известия, что смотреть, куда поехать, каких отыскивать людей, которые уведомляли бы его о собранных подробностях «в Москве и, сколько можно, во всех окрестностях, по которым шатался неприятель». Затеянное дело получило широкую известность, о нем много говорили, ему сочувствовали, но, по непонятным причинам, труд Бардовского так и не появился в свет. Теперь, спустя четырнадцать лет после московских бедствий, Шишков мог только радоваться, видя вновь выстроенную, прекрасную Москву, но и досадовать, что уходит время, следы пребывания французов в Москве уже исчезли, а задуманного описания все еще нет.
Сергей Тимофеевич дивился этому человеку, простодушному, житейски нетребовательному, скромному в быту, и в то же время твердому, непреклонному в своих консервативных убеждениях. Пушкин приветствовал назначение Шишкова министром народного просвещения («Шишков уже наук правленье восприял»), славил его как «честного министра», видя в нем друга русского просвещения, русской науки (и другие отмечали заслуги Шишкова – в утверждении национальных начал в народном образовании после космополитической ориентации его предшественника на посту министра; в открытии славянских кафедр в русских университетах, в посылке русских ученых за границу и т. д.). А память о нем запечатлена в известном двустишии Пушкина, которое любил повторять при имени Шишкова Сергей Тимофеевич Аксаков.
Сей старец дорог нам он блещет средь народа
Священной памятью двенадцатого года
Прежний министр народного просвещения князь А. Н. Голицын был связан с масонами, хотел «европеизировать», «обновить» православие. Против Голицына с его «смесью веры» яростно восстал знаменитый архимандрит Фотий, который при поддержке Аракчеева добился у Александра I отставки Голицына, длительное время бывшего главным советником императора по вероисповедным вопросам. Свою министерскую задачу Шишков видел в искоренении ереси, в восстановлении чистоты православия и не боялся говорить правду императору, который мечтал о «соединении всех вер» в одном христианстве. Шишков писал Александру I, призывал его осознать свою «прежнюю ошибку», тем более, что «все и без объявления Твоего знают сию ошибку, а потому упорное пребывание Твое в оной не закроет ее от глаз людских, но только покажет, что Ты любишь себя больше, нежели общее благо».








