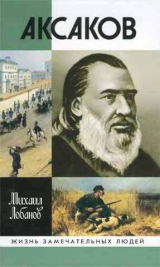
Текст книги "Аксаков"
Автор книги: Михаил Лобанов
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 28 страниц)
***
Раз под вечер он зашел в крестьянскую избу, стоявшую на краю деревни. Жить с краю незавидное дело в глазах крестьян, выходит, где-то на отшибе, в стороне от добрых людей, да и городьбы сколько. Но здесь и не казалось, что на отшибе, так было людно и столько людей торили сюда дорожку. Старик хозяин с женой жили вместе с тремя женатыми сыновьями, невестками, внуками в просторной, на две больших половины, избе, с комнатками по углам. Замужние дочери часто наведывались в родной дом. Да и каких только сродников тут не бывало: зятья, свояки, свояченицы, тещи, шурины, кумы, кумовья – негоже русскому человеку не родниться.
Любой разговор с крестьянином был интересен для Сергея Тимофеевича, а здесь заговорили о любезной его сердцу охоте. Мужику не до охоты, разве лишь к ней нужда понудит. Матвей (так звали хозяина) рассказывал, как прошлой осенью его сын Митрий подстерегал серого гостя, который зарезал у них двух овец. Вот и устроили приваду – разбросали на коноплянике падаль, сын сел в баньке и стал выжидать. Долго так сидел, уж темнота наступила, видит – идет. Волк ли, собака – не разглядеть, у волка-то торчком уши, прижатый хвост, да поди угляди их! Подошел, остановился – задом к полю, мордой к деревне, так и застыл. Волк! Собака-то глядит все в поле, в лес, чуя оттуда, с той стороны опасность, а волк чутье держит на селенье, жилое место, ожидая оттуда врага. Как признал Митрий в ночном госте волка, так скорее вон из баньки, приладился ружьем да и уложил его на месте.
Вспоминал хозяин и другие слышанные им истории о волках, о загнанной ими в овраг лошади и там растерзанной, как они промышляют голодной стаей – видно было, что в понимании старика одна только и есть путевая охота – на этих разбойников, режущих домашний скот. Сергей Тимофеевич уж помалкивал, не выдавая своего охотничьего азарта до более миролюбивой живности. Но и старик, словно забыв о своих волках, поведал, что доселе скворцы не отлетают – значит, быть осени протяжной и сухой. Был день Симеона Летопроводца. Сергей Тимофеевич подумал, что наступил и первый праздник псарных охотников, пора выезда в отъезжее поле, старик же начал говорить о скором Воздвиженье, – хлеб с поля двинется, свезут последнюю копну, и если в эту пору журавли полетят, то на Покров будет мороз, а если нет, то зима припозднеет. Да вот хомяк ноне начал рано таскать большие запасы – чай, к долгой, холодной зиме. Сергей Тимофеевич поделился и своими охотничьими приметами: беляк-заяц уже белеет, набрал жиру – готовится долго зимовать, косой.
Было начало сентября, до Покрова у крестьян много дел и забот. На Симеона Столпника солить огурцы, потом – собирать лук; стричь овец, бить гусей; на Сергия – капусту рубить; на Савватия – убирать улья в омшаники, много других мужицких и бабьих работ, но у старика на уме был недавно законченный последний посев озимой ржи, все другое меркло перед ржицей. Он повеселевшим голосом вещал: «Коли рожь убрана к Ильину, кончай посев к Фролу, а поспеет поздней – кончай к Семену».
Долго еще говорили хозяин и гость, и выходило, что в этом разговоре ничего не было пустого: все было по делу, толково в речи старика. Когда гость спросил, не балуются ли мужики вином, хозяин отвечал: «Отродясь не знали этого сраму. Завелся один мокрый (так он называл пьяницу), да скоро и за ум взялся. Душа дороже ковша».
Из другой половины избы через приоткрытую дверь давно слышались мужской и детский голоса, а теперь явственно доносилось оттуда:
– Придет Маслена – будет и блин: одиножды один – один. Ну-ка, повтори!
Ребячий голос без запинки отчеканил хитроумный стишок.
– Молодец. Ну-ка: хлеб жнем, а сено косим: дважды четыре – восемь. Отлежал бока – оттого и болят: пятью десять… сколько? – спрашивал мужской голос, а детский выкрикивал:
– Пятьдесят!
– Чего не знаешь – того не ври: семью девять шестьдесят…
– Три! – торопился досказать мальчик.
– Живи, поколь на плечах голова: восемью девять… – Наступило затишье, видно, не по плечу пришлась без подсказки задача дотоле бойкому юному математику.
– Митрий сказывает долбицу свому Петруше, – молвил старик, прислушиваясь к голосам сына и внука за дверью. – Без муки нет и науки. Митрий мой дошлый. Намедни картинку привез с ярманки, говорит, на ней атаман написан, казаков водил на французов.
Сергей Тимофеевич и до этого видел висевшую на стене картину и теперь еще раз полюбовался графом Платовым, изображенным верхом на коне.
Хозяин стал потчевать гостя чем бог послал, и Сергей Тимофеевич, чтобы не обидеть старика (от хлеба-соли не отказываются), выпил парного молока.
– Поколе был в поре, никакой работы не боялся, – пожаловался хозяин, – а с годами-то уж и никуды. Рази лапотки сплесть да лучину вон нащепать.
И он, встав с лавки, подновил в светце лучину, которая, загоревшись, тут же затрещала, метнула искры над корытцем с водой.
– К ненастью, – сказал он и, вслушиваясь во что-то, продолжал: – Корова даве тяжко мычала – быть дождю аль буре. То-то меня всего ломит.
Лучина-то, видно, не зря трещит, воздух сырой, отсырела, вот и выдает ненастье, думал Сергей Тимофеевич, следя за ее неровным горением, любуясь невольно кованой узорной рогулькой-светцом, видно, изделием местного кузнеца. Все так и должно быть. Корова перед бурей глухо мычит; человек предчувствует непогоду, когда у него начинают болеть суставы. И это уже верные приметы. Немало и суеверия в поверьях, обычаях, но и нередко то, что с первого взгляда кажется необъяснимым, имеет свой глубокий смысл. На пороге не здороваются – это значит: милости просим, входи в избу, чувствуй себя как дома, а не как чужой на пороге. Если вы пришли в гости и ушли домой сразу же после еды, то от этого пострадают хозяйские невесты: от них женихи откажутся. Сколько деликатности в намеке на невежливость таких гостей: не по-людски это, а надо посидеть, поблагодарить хозяйку, поговорить, а не показывать, что вы пришли затем только, чтобы поесть и попить, и больше вас ничто не интересует. Не роняй ни крохи хлеба, иначе будет неурожай, голод. Если ты, не доев кусок хлеба, взялся за другой, то кто-нибудь из близких голодает или будет голодать. Ясно, что это означает: надо уважать, ценить, беречь хлеб, который нелегко достается и который всему голова.
Вот заглянул в крестьянскую избу, посидел, поговорил с хозяином, и сколько останется памятного от этого осеннего вечера! Слышно было, как за окном завывал ветер, бился порывами в стекла. Не зря потрескивала горящая лучина, разыгралась непогода. Хозяин вышел проводить гостя, но Сергей Тимофеевич не пустил его дальше калитки, попрощался и пошел. Здесь, на краю деревни, было как в поле, темно и тревожно, носился на просторе пронизывающий мокрый ветер, рвал неразличимые в свисте не то лаянье, не то вой. На улице не было ни души, в избах тускло светились окна, кое-где уже гасли огни. Дышало бурей, когда он подходил к своему дому. Далекие сполохи прорезывали небо, тут же поглощаемое тьмой, прибоем шумел парк. Наступала воробьиная ночь, падавшая на осеннее равноденствие, с непроглядной темнотой, бурей, частыми молниями.
***
Холоден сентябрь, да сыт – знали проходившие деревнями странники, которым всегда подавали по совести. И эти странники – слепые певцы, и отношение к ним народа, неизменно сочувственное, – все это было для Аксакова явлением и обыденно бытовым, и глубоко поэтическим. У завалинки избы, в окружении группы людей (среди них был и Сергей Тимофеевич) стояли слепой старик с палкой в руке и мальчик с холщовой сумой через плечо. Старик, уставясь невидящим взглядом перед собою, поверх голов слушателей, тянул забирающий за душу стих о том, как и отчего зачался белый большой свет, солнце красное, звезды частые, ночи темные, зори утренние; пел о Егории Храбром, который пошел «по святой Руси, по сырой земле», сокрушался, что люди правду не творят, доброго не делают и мрачен конец неправедных дел.
Слепец жалобился и предавался веселию, тон его становился то суровым, то умиленным, безмятежно-отрешенное лицо вдруг оживлялось какой-то пристальной улыбкой, делаясь на миг как будто зрячим – так вживался он в свои никому не ведомые видения. И представлялось, что в напеве его изливалось то, что он сам испытал, пробираясь с вожаком по полям и непроезжим в дождь дорогам, укрываясь в непогоду ветхим зипуном, слыша от таких же, как он, странников сказы о напастях и страданиях, копя в памяти все услышанное в крестьянских избах, где находил приют и ночлег, гам и крик на ярмарках, плачи на похоронах, краем уха схваченное свадебное веселье, – кажется, носил он в своей душе всю слышанную им Русь.
***
В пятнадцати верстах от села Аксакова находилось Бахметьево (или, как его называли по имени помещиков, – Осаргино), где дважды в год устраивалась ярмарка. Летняя ярмарка, длившаяся с конца мая до конца июня, закончилась накануне приезда Сергея Тимофеевича в деревню, поэтому он решил поехать в более отдаленное место, уездный городок Бугульму, где только что, в середине сентября, открылась осенняя ярмарка, знаменитая Воздвиженская. Площадь кипела от многолюдия, гудела от хаоса голосов, звуков. Ржание, пофыркивание лошадей, привязанных к коновязи, мычание коров, блеяние овец, гоготание гусей, крики торгующихся, спорящих, пронзительно-вонзающее «ути-ути-ути» свистулек, веселый визг гармоник, вопли, шум, в котором все тонет и ничего не разобрать, – все это охватило его, втянуло в свой круговорот, в сплошной гул. Местный Оренбургский край славился торговлей ржаной мукой, гречихой, гречневой крупой, сотни телег были набиты мешками с этим добром, тысячи пудов ждали покупателей. Но и в этом шумном таборе были какие-то свои обжитые уголки, замечавшиеся Сергеем Тимофеевичем. Стоявшие около своих телег с мешками ржи два мужика из разных деревень, не видавшие друг друга с прошлогодней ярмарки, рассказывали о нынешнем урожае, о последнем посеве ржи, называли цену, по какой продавали хлеб. Рядом двое с размаху били друг друга по рукам – сторговались. Другие щупали мешки, стучали по ним кулаками. Сидевшая на телеге с детьми баба обняла мешки да так и застыла. За телегами, на другой стороне площади, шла торговля скотом, всякой живностью. В глазах мелькали то разгоряченные чернобородые лица около лошади, то баба, нагнувшаяся и разглядывавшая вымя коровы, как будто собиралась доить; то гогочущие гуси, высунувшие длинные шеи из корзины; то рвавшийся в завязанном мешке, визжавший поросенок… Длинные столы, уставленные маленькими бочонками, туесами меда, вырезанными сотами, над которыми бесшумно и лениво вились пчелы, и ребятишки липли, как пчелы, к меду. Бочки с капустой, с огурцами, с клюквой… Чего только здесь не было – хомуты, седла, сырые кожи, овчины, шерсть, козий пух, верблюжье сукно, ковры…
Смесь лиц и одежд разных народностей: рядом с русской женщиной в плисовом сарафане – мордовка в понаре, то есть в холщовой белой рубахе с красной вышивкой по подолу, в набойчатых портах, на голове – белая баранья шапка. Группа калмыков – кто в ситцевой рубахе, похожей на женскую кофту, кто в бешмете, стянутом поясом с железными пластинами, – предавались наивысшему в их глазах удовольствию – все дружно курили трубки, около них лежали на земле седла, сбруи. Только один из них не курил, он держал в руках сапоги с длинными голенищами и разглядывал высокие подковки каблуков. Предстоял яростный торг с рядом стоявшим владельцем сапог – известно, что за сапоги калмык был готов отдать все, они ценились как знак достоинства, недаром все курившие с такой важностью стояли, обутые в сапоги с длинными голенищами.
Сергей Тимофеевич миновал эту живописную группу, взял вправо, и вдруг взгляд его обдало такой жизнерадостной многокрасочностью, как будто он попал на цветущую ягодную поляну. Повсюду – на лавках, на столах, на земле лежали, стояли, казалось, плыли, летали расписанные изделия деревянной посуды, утвари: ковши в виде птицы или с конскими головами, скопкари-братины для питья пива, меда, браги – в форме водяной птицы, с двумя ручками из длинною клюва и плоского хвоста, солоницы-уточки, ложки, чашки, пряничные доски с затейливым дробно узорным изображением фантастического коня с туловищем и лапами льва, прялки со сказочными узорами, светцы разного вида, фигурные дверные и воротные замки, туески, рубанки в виде льва, вальки с чудесными ручками. Тут же были плетеные корзины, сумочки, кресла, диваны. Завораживал взгляд цветной хоровод деревянных и глиняных игрушек – домашние животные, лесные зверьки, птицы. Человеческие фигуры, целый поэтический мир детства. Сколько художественного чутья, жизненности сквозь сказочность, фантастичность. Какое обилие талантов в народе, какое тяготение к красоте. Глаза разбегались от этого живого, вспыхивавшего то там, то тут многоцветья, узорочья, каждая вещь манила к себе. Вот уж действительно «виноградье», которое украшало почти каждый крестьянский рисунок и которое в народе связывалось с пышностью, праздничностью бытия. Какие богатые, выразительные рисунки, узоры и вместе с тем какая лаконичность, ничего лишнего, ни одной подробности, ни одной линии. Так должно быть и в художественном слове. И сколько здесь духовного здоровья, жизненной устойчивости, которые могут быть предметом литературы, искусства. Каждая вещь необходима в быту и в то же время это произведение искусства. Целесообразность и красота. Взгляд присмотрелся, и вроде бы все обычно, а ведь это удивительно, как встречает человека крестьянская изба – приветливой нарядностью наличников, узорами створок ворот, резным крылечком, росписью стен, красочностью посуды, бытовой утвари, выразительной простотой мебели. Быт связан с народным искусством. От детской колыбельки до могильного креста сопровождает оно человека, соединяя житейское с вечным…
Ярмарка как будто поутихла немного, глуше стал гул, поредела вроде бы толпа, но нисколько не ослабевало ощущение чего-то огромного, единого, небудничного, что по-особенному действовало на Сергея Тимофеевича, возбуждало его мысли и чувства.
***
Был конец сентября 1839 года, трехмесячное пребывание Сергея Тимофеевича в родных местах заканчивалось. Оставалось несколько дней до Покрова, который приходится на 1 октября. Где листом, где снежком Покров землю покроет. Конец хороводам, начало посиделкам. И свадьбы после завершения земледельческих работ. Он воочию представлял, как красочно оживится деревня, как будет развертываться живописная, драматическая свадебная «игра» – так называли в народе свадьбу. Давно ждавшие Покрова девушки, повторяя тайком: «Батюшка Покров, покрой сырую землю и меня молоду», будут ждать часа, который определит их судьбу – прихода сватов. И вот заявятся они, сваты, и громко стуча в ворота, заходят с хлебом и солью в дом невесты, где их примут с честью, и спросят, кто они, откуда, из какой земли, и пришедшие заведут ладные и хитросплетенные речи о том, что они охотники, увидели на пороше свежий след куницы, и он привел их в этот двор. Отец в ответ будет уверять, что они не сюда зашли, след, видно, обманул их, но если они пришли – надо посоветоваться с родными, дайте подумать и, поднеся им по стакану вина, скажет, чтобы они привели своего охотника, показали его. И если дело сладится, то тут же и сговор: у вас товар, у нас купец, и начнут «торговаться», пока не выскажут своих условий брака и не ударят «по рукам» отец невесты и сват.
И все пойдет своим порядком, как было в прошлом году, как извечно шло в крестьянской жизни. Накануне свадьбы в доме невесты будет справляться «девичник», на котором подруги грустными песнями проводят ее в новую, неведомую жизнь. А на другой день, утром, она от души поплачет, «повопит», прощаясь с косой (отсюда и «батюшка Покров, покрой меня молоду»), со своей девичьей волей. К воротам подъедут дружки и в ответ на вопрос брата невесты, что они за люди, ответят: «Мы – дружки, верные служки от князя молодого, приехали узнать, готова ли молодая княгиня-невеста». И затем приедет весь шумный свадебный поезд. Жениха, посаженного за стол рядом с невестой в переднем углу, во время еды будут величать девушки, а он благодарить за честь. Невеста обратится к родителям: «Родимый мой батюшка, прошу ни злата, ни серебра, а прошу твоего родительского благословения». «Не прошу ни тканого, ни браного, а материнского благословения». И, благословляя дочь, отец произнесет: «Не в рабы, а в помощницы, – и, обращаясь к родителям жениха, добавит: – Просим поберечь детище наше, а чего не знает, поучить». Дружки будут просить всех гостей благословить князя с княгиней. И свадебный поезд отправится на венчанье молодых, впереди – дружки, потом жених с «тысяцким» (посаженым отцом), «бояре», невеста со свахой. После венчанья в доме жениха начнется свадебный пир. Милости просим, люд честной, к нашим молодым на сыр-каравай! Здравствуйте, князь с княгиней, бояре, сваты, дружки и все поезжане. Дай бог молодым любовь да совет.
Так хорошо знакомый ему в подробностях свадебный обряд трогал его и своей поэтичностью, и нравственной значительностью [4]4
Женившегося в 1843 году сына Григория и молодую невестку Софью Сергей Тимофеевич приветствовал такими словами: «Здравствуй, мой князь новобрачный с молодой княгиней! Здравствуй, моя новобрачная княгиня с молодым князем! Здравствуйте на многие лета!..»
[Закрыть].
Прощайте, последние сентябрьские дни, прощайте, дни наступившей поздней осени, которую он так любил. Кажется, улеглись в природе страсти, отбуйствовали летние грозы, отцвела, отшумела плоть листьев и травы, отполыхали зори, и как не бывало знойной сини бездонного неба. Низкие, тяжелые облака влачились по серому небу, сея временами мелкий дождь. Падали на землю побуревшие листья дуба, открытыми великанами стояли уже облетевшие старые липы, в просвечивающей насквозь роще виднелись еще желтеющие березки, ярко-красные рябины, освежающе зеленели ели и сосны. В тихом лесу чуткий охотничий слух его улавливал на большом расстоянии осторожные прыжки зайца и белки; уже не слышно было птичьего хора, лишь отдельные крики птиц разносились в парке – звонкий свист синицы-беска, взвизгивание дроздов, скрипучие звуки снегирей. Речка в чем-то изменилась, прибрежные голые кусты, завядшие травы уже не закрывали воду, и оттого Бугуруслан казался светлее, шире, свободнее в своем задумчивом течении.
Он уезжал утром в тихий серенький денек, небо было сумрачным, накрапывал теплый дождик – самая любимая его пора, самая приятная погода, когда он любил удить, укрывшись под ветвями дерева. Карета тронулась от крыльца, толпа крестьян провожала его. Проезжая мимо церкви и часовни, под которой был склеп с могилами отца и материной мысленно помянул их и подумал: когда-то еще придется ему прийти к ним? Сдерживаемые кучером кони шли шагом; медленно проезжая по деревенской улице, Сергей Тимофеевич вглядывался в крестьянские избы, вспыхивали в памяти разговоры, встречи с мужиками. За околицей открывалась дорога, по лощине на гору, в заволжскую степную даль с ее холмами, оврагами, лощинами, косогорами. Фыркая и горячась, кони резво побежали. Он высунулся из окна кареты и глядел на удаляющееся Аксаково, пока оно, в последний раз видимое как на ладони с горы, не скрылось, оставив налет грусти в душе. Впереди была долгая дорога, действовавшая на него с непреодолимым могуществом, успокоительно и целительно, дорога, которая, отрывая человека от текущей среды, пестроты предметов, погружает его в самого себя, в свои мысли, чувства, мечты, в воспоминания прошедшего, настраивает на ясность и спокойствие. Он возвращался в Москву с мыслью о своей семье, своей Оллине и детях, и вез с собою все то увиденное, перечувствованное в родных местах, что было необходимо всем им, отпрыскам аксаковского рода, и что неотвратимо входило в его раздумья о «Семейной хронике»,не отпускавшей его.
Глава IV
В СЕМЬЕ И НА СЛУЖБЕ
И в Москве семья Аксаковых не расставалась с привычным укладом деревенского житья. В своих воспоминаниях Иван Панаев, бывавший в доме Аксаковых, оставил живое свидетельство о той обстановке и тех нравах, которые сложились в их семье. «С. Т. Аксаков был большой хлебосол и гордился этою московскою добродетелью. Аксаковы жили тогда (то есть в 1839 году. – М. Л.) в большом отдельном деревянном доме на Смоленском рынке. Для многочисленного семейства требовалась многочисленная прислуга. Дом был битком набит дворнею. Это была уже не городская жизнь в том смысле, как мы ее понимаем теперь, а патриархальная, широкая, помещичья жизнь, перенесенная в город… Дом Аксаковых и снаружи, и внутри, по устройству и расположению совершенно походил на деревенские барские дома; при нем были: обширный двор, людские, сад и даже баня в саду».
В своей семье Сергей Тимофеевич был уже Приамом, пусть не таким древним, но столь же чадолюбивым и основательным, отцом взрослеющих детей. Михаил Петрович Погодин, находившийся в дружеских отношениях с Аксаковым, любивший навещать их дом, умилялся, видя, как дети «облепили» Сергея Тимофеевича и за столом собирается девять детей. Давно минуло то время, когда дети лепились к нему, как котята, кучей, мал мала меньше, и он мог с ними беспечно играть, иногда забавляясь в угоду своей актерской прихоти (никак не забывалось, что он имел решительно сценический талант!), впрочем, когда знаешь, что дети в надежных материнских руках, да и все в доме под моральной защитою его жены, Ольги Семеновны, то можно и самому порезвиться. Но в свое время шестилетний Гриша, когда они только что переехали в Москву, отучил его от забав. Одной из увеселительных сцен тридцатипятилетнего отца было, меняясь в лице и в голосе, уверять ребенка, что с ним говорит булочник Дромер, немец. Мальчик начинал смехом: «Нет, вы не немец, вы отесенька». Но фарс продолжался, доводя в конце концов ребенка до слез. Однажды, преследуемый опять «немцем» Дромером, Гриша вышел из себя, голубые глаза его потемнели, помутились, и он дал изо всех силенок затрещину «немцу», примолвя: «Когда вы не отесенька, то как смеете лежать на его постели?» Вот тогда и отрезвел от своих шуток «отесенька», пораженный вспыхнувшим гневом в шестилетнем сыне, напомнившем ему деда, Степана Михайловича, вспышек бешеного гнева которого он так боялся в детстве. Действительно, Гриша «укинулся», как говорили крестьяне, в своего прадедушку Степана Михайловича и обличьем и обычьем – горячностью, вспыльчивостью. Полученная затрещина испугала отца возможными для будущего молодого человека последствиями такой горячности, хотя он не сомневался в смягчающем влиянии на пылкость души семейной любви, которою были окружены дети и в атмосфере которой закладывалась основа характера каждого из них.
После Гришиного урока он уже не «играл» перед детьми, зато по-прежнему был большой охотник до декламации, дети во все глаза глядели на него, декламирующего, даже с испугом, когда голос его звучно раздавался на весь дом, но потом привыкли, и когда гости просили их «отесеньку» что-нибудь почитать, то дружно присоединялись к просьбе.
Все в этом доме дышало приветом и любовью. Дети кидались к появлявшемуся любимому гостю, выражая свою радость, приобщая его к общему настроению семьи, так хорошо действовавшему на душу. Сергей Тимофеевич был искренне рад каждому своему гостю, приходившему и просто посидеть, отвести душу в разговорах, поделиться новостями, общественными, литературными, театральными и прочими; а то и попросить совета в каком-нибудь важном, даже личном деле, и всегда находя сердечное участие в хозяине дома, принимавшем чужие радости и невзгоды как свои собственные. Иные приходили поиграть в карты, в излюбленный «бостон», и этому не чужд был Аксаков, до страсти поддаваясь игре, как при всяких своих увлечениях.
Рядом с хозяином, находившимся постоянно в окружении гостей и детей, малозаметна, казалось, была роль хозяйки дома Ольги Семеновны. Она не то чтобы держалась в тени мужа, а просто и скромно исполняла свой долг жены, матери, хозяйки, как она его понимала, без всяких притязаний на какое бы то ни было преобладание, нравственное ли, умственное, не демонстрируя своего всезнайства, своего просветительского первенства, как это нередко бывало с хозяйками литературных салонов. Но это не значило, что Ольга Семеновна была далека от интересов мужа, всего того, что говорилось и обсуждалось на их вечерах. С мнением ее очень считались, в том числе и авторы литературных произведений. Как близко к сердцу могла принимать она происходившее в стране, в той же литературе, говорит следующий факт: по свидетельству современника, гибель Пушкина особенно горестно была воспринята в семье Аксаковых именно ею, Ольгой Семеновной.
Высокая, спокойная, она производила впечатление строгой, даже суровой женщины, но стоило только, впервые увидев ее, разговориться с нею, просто посмотреть в ее глаза, добрые, глубокие, на ее лицо, осветленное задушевной улыбкой, – как тотчас же менялось мнение и человек невольно проникался симпатией к ней. И все же она была действительно строгой – с серьезным взглядом на жизнь, на свои обязанности, с твердыми моральными правилами. Нравственный авторитет ее не только в семье, но и среди знакомых, был так высок, что Гоголь делился с нею духовными своими нуждами и в письмах из-за границы благодарил ее «за все», а Погодин, например, почитавший Ольгу Семеновну беззаветно, не иначе ее называл, как своей «первой начальницей», и говорил обычно так: «Ольга Семеновна велела». Но вовсе не начальствуя, не командирствуя в доме, не беря верх над мужем (так же, как сам он не выставлял себя главой, повелителем в семье, а влиял на нее как добрый гений своей мудрой сердечностью), Ольга Семеновна была тем началом, на котором держался не только внешний порядок, но и внутренний лад семейной жизни, как бы освещенный изнутри ее теплым, ровным светом.
Наступало двадцать пятое сентября – именины Сергея Тимофеевича (месяц домашних праздников – именины четырех дочерей, день рождения сыновей Миши и Ивана), поутру, когда отец, случалось, еще был в постели, все они, братья и сестры, приходили его поздравлять, по обыкновению сев вокруг него и разговаривая с ним.
Приветливость с гостями не мешала детям быть и довольно критическими наблюдателями. Приходил, например, к ним в дом сослуживец Сергея Тимофеевича по цензурному комитету Сергей Николаевич Глинка, не мудрствовал особенно, как держаться и вести себя за столом, ему и в голову не могло прийти, что кто-то не упускает из виду ни одного его движения, ни одной промашки. А в это время семилетняя Верочка делала свое дело, о чем она расскажет в письме к старшему, девятилетнему братцу Косте: «У нас сегодня обедало довольно много гостей… Как ты думаешь, кто у нас сегодня обедал? Но я назову тебе их, потому что ты бы никогда не отгадал. Это С. Н. Глинка и брат его Ф. Н. Я тебе скажу только, как он, то есть С. Н., сидел за столом. Он так гадко себя держал, так пил, так провожал глазами каждое блюдо, которое еще не доходило до него, так превозносил себя похвалами, что меня беспрестанно мороз по коже подирал». Кто, вероятно, мог бы подумать, что Верунок, Верунчик (как называл старшую дочь Сергей Тимофеевич) так беспощадно может подсматривать за гостем и рассказывать об увиденном.
Благоговея перед «отесенькой», дети и от него не скрывали своих приговоров, хотя бы они касались и его самого. Сам Сергей Тимофеевич писал жене, Ольге Семеновне, о восьмилетней дочери: «Марихен проснулась, когда я ложился, и сказала: „Не стыдно ли всю ночь играть в карты у Васькова?“» (приятель Аксакова. – М. Л.). Впрочем, мог послышаться Сергею Тимофеевичу в этом детском упреке и голос самой Ольги Семеновны, находившейся в отъезде, но продолжавшей неизменно быть в сознании домашних вместе с ними. Эти случавшиеся вынужденно отъезды по делам явно расстраивали жизнь в оставшейся семье. Правда, скучавшие по матери дети старались даже и в отдалении сделать ей что-то приятное, выводили в конце писем «отесеньки» каракули: «Я умна» (то есть послушна), передавая, чем они занимаются и где бывают, справляясь, весело ли ей, маменьке, и т. д. Письма же самого Сергея Тимофеевича к жене с обстоятельными рассказами о домашних делах, о детях дышали и чувством любви к «милой, бесценной Оллине». Если даже жена с кем-нибудь из детей уезжала и недалеко, все равно Сергею Тимофеевичу было тревожно: «Благодарю Бога, если вы все здоровы, – писал он Ольге Семеновне, – но и за шестьдесят верст также не видишь, как и за тысячу; на меня находило большое беспокойство об вас и большое раскаяние в этом добровольном разделении на две половины семейства, без крайней необходимости».
И было, пожалуй, еще неуютнее на душе Сергея Тимофеевича, когда он сам уезжал из дому, тяготясь всегда тяжелым, почти невыносимым для него «разделением» семейства. Из Петербурга, куда приехал с сыном Григорием, поступавшим в Училище правоведения, он писал жене: «Если бы ты могла понять – до какой степени мне нестерпима суета и разъединенная жизнь». Особенно длительна для него была последняя, совсем недавняя разлука, когда он в течение трех месяцев, от конца июня до конца сентября 1839 года, пробыл по хозяйственным делам в Новом Аксакове и Надеждине. Оттуда, за тысячу верст, беспрестанно переносился он воображением в Подмосковье, где жила в это время его семья, представлял себе воочию «в разных положениях» милых своих детей, разговаривал с каждым из них, начиная с первенца Кости: «Возишь ли братьев на Клязьму? Впрочем, это Миша должен делать: он там бывал. Гуляет ли мой Веренок? Что читает? Оля чтоб не слишком много ходила. Удишь ли и стреляешь ли ты, мой юрист Гриша?.. Что мой Ваня? Поет ли, сидя с удочкой на пруду?» «Здравствуйте мои душеньки-дочери. Мой подорешничек, моя хозяюшка – Надя, моя француженка – Люба, моя кошурка-Машурка и моя актриса Соня. Гуляете ли вы, весело ли вам, ходите ли за грибами, которых здесь вовсе нет? Умны ли вы? Утешаете ли маменьку? Бережете ли ее здоровье? всех вас целую и благословляю. Отец и друг ваш С. А.». А жене Сергей Тимофеевич признавался: «Утро прелестное, но без тебя, моя Оллина, и без моего семейства не существует для меня даже и прелести природы».
…Да, время летит быстро, уже на исходе 1839 год. Их и теперь столько же, когда они садятся за стол – десять детей, но уже не мал мала меньше, а наоборот, один больше, старше другого. Константину – двадцать два года, Вере – двадцать, Грише – девятнадцать, Ольге – восемнадцать, Ивану – шестнадцать, Мише – пятнадцать, Наденьке – десять, Любочке – девять, Машеньке – восемь лет и актрисе Сонечке – шесть. И были, бы еще у них братья и сестрицы, если бы те не скончались во младенчестве. Старший сын, первенец Константин, или, как его называли в семье, Конста – любимец родителей, непререкаемый авторитет для всех братьев и сестер. Еще мальчиком он затевал с ними разные игры – сражения с финальной победой русских князей над врагами. В комнате его, наверху, висели старинные палаши из солингенской стали, когда-то валявшиеся в амбарах в Аксакове и привезенные оттуда в Москву. Как будто о дедушке, отце маменьки, боевом суворовском генерале, напоминали эти прямые и широкие сабли. Конста зачитывался книгами о прошлом России. Он собирал братьев и сестер в своей комнатке и рассказывал им о давних событиях, вслух читал историю Карамзина, объяснял прочитанное, заставляя всех слушать себя. Насколько сам Сергей Тимофеевич не имел никаких наклонностей к пропаганде, настолько они рано проявились в его старшем сыне, готовом при всяком удобном случае горячо развивать свои излюбленные мысли о великом прошлом русского народа, о его славной столице – белокаменной Москве.








