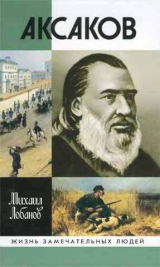
Текст книги "Аксаков"
Автор книги: Михаил Лобанов
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 19 (всего у книги 28 страниц)
И конечно же сам дух времени определяет, насколько уместно, не стилизованно, не абсурдно выглядит издревле национальная народная одежда. Вот, к примеру, начало XX века, в России – наэлектризованная атмосфера, революционные разряды, страна на краю пропасти, а мы видим императора Николая I в одежде царя Алексея Михайловича; императрицу Александру Федоровну в одежде царицы Марии Ильиничны: генерала-адъюнкта графа Иллариона Ивановича Воронцова-Дашкова в наряде конного стрельца Московского приказа Авраама Лопухина; гофмейстера князя Г. Д. Шервашиадзе в праздничном кафтане боярина XVI века; гофмаршала графа П. Н. Бенкендорфа в наряде стольника князя Репнина; фрейлину княжну С. И. Орбелиани в наряде боярышни XVII века; камер-юнкера В. И. Звегинцева в «чуче» – наряде татарского покроя времен Бориса Годунова; группу офицеров кавалергардского полка в нарядах стрельцов времен царя Алексея Михайловича; группу офицеров лейб-гвардии Преображенского полка в нарядах начальных людей из жильцов времен Алексея Михайловича и т. д.
И хотя это был всего лишь костюмированный бал в 1903 году с участием в старинных нарядах государя и государыни, а также придворных лиц (запечатленных на фотографиях), – в каком трагическом отсвете встает перед крушением России это блестящее представление с идеалом «Святой Руси»!
Ивану пришлось посочувствовать отесеньке и старшему брату, но служба оставляла ему меньше, чем им, досуга для философствования на этот счет. Молодого чиновника уже ждал Ярославль, куда он был командирован в апреле 1849 года для ревизии городского управления в губернии, описания торговли в городах и т. д. Ярославль ему очень понравился как город со своей «физиономией», а о самой губернии он писал родным: «Что это за удивительная местность – Ярославская губерния! Сколько исторических воспоминаний на каждом шагу, сколько собственных своих святых, сколько жизни и деятельности в торговле и в промышленности, сколько предприимчивости в крестьянах…» В домах крестьян и мещан он отмечает «необыкновенную чистоту», «необыкновенную опрятность». Знакомясь со старинными русскими городами – Борисоглебском, Угличем, Ростовом и другими, с купеческим и крестьянским бытом, с материальными силами края, Иван Сергеевич в то же время был во власти тревожных общественно-нравственных раздумий, ими полны его письма отцу и старшему брату.
С Константином у него и единомыслие, и всегдашний спор. Сколько раз говорил он себе мысленно, вспоминая в душе старшего брата: как было бы хорошо, если бы Константин потрясся вместе с ним в телеге, пронесся через эти роскошные, зеленые поля, побывал бы с ним в этом городе, вместе посмотрели бы, как живет и чем занимается здешний народ, поделились бы впечатлениями об увиденном. А главное – он, Иван, помог бы Константину лучше узнать действительность, которую тот все же мало знает, даже и отесенька признает это, несмотря на свое преклонение перед «святыми убеждениями» первенца. И вот наступил день, когда они наконец встретились на дальней сторонушке. Константин приехал в Ростов, где в это время находился и его младший брат. Вместе ходили по улицам, осматривали его древности, вспоминали Димитрия Ростовского, слушали нарочно для них заказанный звон на соборной колокольне. Впервые братья оказались вместе вдали от родительского дома, и в первый раз в своей жизни Сергею Тимофеевичу случилось писать к ним общее письмо. И он писал им, как будто сам, а с ним и вся семья были с ними рядом. «Все это время всякий день, и не один раз, воображаем мы, как вы вместе ходите на ярмарке, разговариваете с купцами, мещанами и народом; как вы сидите друг против друга, перестреливаясь облаками дыма и мало-помалу начинаете спорить, как горячо развивает Константин свои неизменные убеждения…»
Иван остался доволен приездом брата, познакомил его с некоторыми служебными учреждениями, с оригинальными лицами, и Константин признал даже определенную важность практических вопросов. С тем и уехал Константин Сергеевич, снова ждал его родительский кров, полная свобода от житейских забот и условностей общества, где он, размахивая руками, готов был до ночи доказывать свое и где принимался теми, кого он сам называл «публикой», за что-то вроде индейского перца для приправы надоевших ежедневных блюд. А Ивана ждала чиновничья лямка, все та же «бивачная жизнь», пока не случилась одна история, положившая конец двухлетнему пребыванию его в Ярославской губернии. Третьему отделению собственной Его Императорского Величества канцелярии стало известно, что Иван Аксаков читает в обществе какую-то поэму «предосудительного содержания» под названием «Бродяга». Об этом было сообщено министру внутренних дел графу Л. А. Перовскому, в ведомстве которого служил Иван Аксаков. По официальному предписанию графа автор представил ему «Бродягу». Хотя министр и не обнаружил ничего предосудительного в содержании поэмы, но нашел неуместным заниматься сочинительством человеку, посвятившему себя службе и облеченному доверием начальства. Иван Сергеевич оценил замечание министра как оскорбительное для своего достоинства, в письме к нему он с некоторым вызовом разъяснил: «Не только правом, но и обязанностью своей считаю объяснить Вашему сиятельству, что не служба терпит от моих литературных занятий, а литературные занятия, нравственное и умственное образование мое принесено в жертву службе». Молодой чиновник объявил министру, что он не может оставить авторских занятий, которые если и не имеют особенного литературного достоинства, зато важны для него как единственный способ освежения его утомленных службой нравственных сил, и представил просьбу об отставке. Впрочем, вскоре же Иван Сергеевич раскаялся в своей горячности, написал письмо Л. А. Перовскому, где признался в «неуместной запальчивости» и выразил готовность служить под началом графа, но дело так и кончилось отставкой.
После отставки поначалу выходило, что все складывается как будто к лучшему: ведь и служил он, и странствовал, и бивачничал не из одной только охоты к этому, все это было приготовлением к главной цели, которая всегда, даже подспудно жила в нем и указывала ему будущее – к его литературно-общественной деятельности. И вот после девятилетней службы в разных городах России выдалось дело, касавшееся, кажется, его истинного призвания. В 1852 году он начал издание «Московского сборника», но вышел только первый том, второй том и дальнейшее издание сборника были запрещены за участие в нем славянофилов, взгляды которых по крестьянскому вопросу были восприняты цензурой как оппозиционные. Так неудачей окончились первые шаги Ивана Сергеевича на поприще издателя. Видно, не пришел еще его час, его срок, еще впереди была пора издательской и публицистической деятельности, которая поставит имя Ивана Аксакова в первый ряд деятелей русской общественной мысли и вызовет такой резонанс в России и в Европе.
Испытывая в себе зов глубоко засевшего в душу «бродяжнического элемента», Иван Сергеевич решил было отправиться на три года в кругосветное плавание на военном фрегате, что привело в ужас семью. Сергей Тимофеевич, не менее всех других обеспокоенный затеей Ивана, издалека, пользуясь своим отцовским чутьем к интересам и психологии сына, апеллировал к его разуму, как будто и не отговаривая прямо, а на самом деле заклиная оставить мысль о кругосветном путешествии: конечно, понятна заманчивая сторона этой затеи, но ведь его же ждет корабельная тюрьма, которая тем невыносимее будет для Ивана, что он не может жить без дела постоянного, животрепещущего; он, отец, уже не говорит о том, какому беспрерывному беспокойству подвергнет Иван все семейство.
Вместо кругосветного плавания пустился Иван опять кочевать по степным дорогам. По поручению Географического общества отправился он в Малороссию для обозрения и описания украинских ярмарок. Кроме практической цели, была и художественная сторона этого путешествия: Иван Сергеевич чувствовал себя пленником той прелести и обаяния, которыми уже в прежние поездки обдавала его Малороссия, и теперь совсем должна была покорить его – и самим видом «сел с белыми хатами, живописно разбросанными по холмам и долинам, с плетнями, сдерживающими густую зелень; и тянущимися по дороге возами с волами, рядом с которыми тяжелой, медленно ленивой поступью бредут чумаки; и южными ночами, в особенности безлунными, когда не спится и не знаешь, как бы полнее вместить в себя эту волнующую красоту, эту роскошь темного неба с ярко горящими звездами; и живыми, милыми лицами хохлушек; и очаровательными песнями, которые показывают высокое душевное образование в народе». Не раз, весь во власти малороссийской природы, думал он, как сильно будет тосковать по ней в Москве, особенно по южному лету.
Да еще потому, может быть, ему так дороги эти края, что здесь «везде так и торчит Гоголь со своими „Вечерами на хуторе близ Диканьки“». И как не заехать, не побывать в гоголевской Васильевке, что недалеко вроде бы от Полтавы, но куда и не так легко, по криводорожью, добраться (и не шутя можно повторить ошибку Чичикова, ехавшего к Собакевичу, а попавшего к Коробочке). За два с лишком года, прошедших после смерти Гоголя, пришли в запустение и заросли травою вычищенные в свое время по его указанию дорожки через рощицы. Марья Ивановна, мать Гоголя, показала Ивану Сергеевичу все места, также, впрочем, запущенные, которые любил ее сын; была она очень грустна и все твердила о нем. Возвращался в Полтаву Иван Сергеевич с глубокими впечатлениями: картины природы, клонившейся к вечернему отдохновению, смешивались с высокой печалью при воспоминании о Гоголе.
***
В ноябре 1854 года Иван Сергеевич приехал в Абрамцево, где собиралась проводить зиму семья Аксаковых. Опять все в сборе; опять старший и младший брат часами сердечно беседовали и спорили. Каждое очередное «кочеванье» Ивана отзывалось приращиваньем его жизненного капитала, обогащало его запасом сведений, это же давало ему право и на взыскательный тон в разговоре с Константином, когда заходила речь о практических вопросах. Старший брат, такой немногословный в письмах, теперь, в разговоре с Иваном лицом к лицу, был на своем коньке, разгоряченный, неудержимый, шумел – все о том же, о своем, – с таким самозабвением, словно перед ним новичок, впервые слышавший его, а не брат, достаточно наслушавшийся смолоду этих проповедей; нетерпеливо попыхивая сигарой, Иван выжидал удобного момента, чтобы, вклинившись в образовавшуюся паузу, остановить оратора и сказать свое:
– Деспотизм теории над жизнью есть самый худший из всех видов деспотизма. Особенно же страшны последствия, когда извне насильно пытаются подчинить народ чуждой ему теории. Тогда происходит такое расстройство, извращение пути народного развития, бесплодною жертвой которого становятся целые поколения. И сколько же времени потребуется для того, чтобы народная жизнь могла оправиться от этого извращения, если она вообще может оправиться! Вот что значит, дорогой брат, не считаться с действительностью, а этим ты грешен!
Константин расхохотался, обнимая крепко брата и крича: «Наповал убил!»
Так оканчивались обычно их споры, в которых разногласия пересиливались братской любовью и взаимным пониманием друг друга.
Глава X
В АБРАМЦЕВЕ
И после смерти Гоголя все в Абрамцеве продолжало Аксаковым напоминать о нем, от комнаты наверху, в мезонине, где он обычно поселялся во время своего приезда, до гоголевской сосны и гоголевской аллеи в парке, по которой он любил прогуливаться. Как это бывает после смерти человека, когда образ его очищается в памяти близких от всего мелкого, житейского и остается, высветляется главное, так Гоголь теперь уже иным виделся семье Сергея Тимофеевича. То, что прежде казалось странным, непонятным, теперь находило новое объяснение, в воспоминании Гоголь поднимался на такую духовную высоту, которая делала его в глазах Аксаковых святым. Его так и называли теперь в этом доме, состоялась как бы канонизация Николая Васильевича. Мнение на этот счет выразила в своем дневнике Вера Сергеевна: «Гоголь – святой человек по своему стремленью… Какой святой подвиг вся его жизнь. Теперь только, при чтении стольких писем к стольким разным лицам, начинаем мы постигать всю задачу его жизни и все его духовные внутренние труды. Какая искренность в каждом слове! И этого человека подозревали в неискренности!»
Между тем жизнь в Абрамцеве продолжалась своим чередом, по-прежнему приезжали сюда гости, привлекаемые гостеприимством хозяев дома. Приезжал малоросс Кулиш, Пантелеймон Александрович. Он называл Сергея Тимофеевича «министерством общественной нравственности» и весьма почтительно относился к нему. Незаменимым авторитетом являлся Аксаков для гостя в предпринятом им деле: Кулиш писал биографию Гоголя, и ему очень важно было мнение Сергея Тимофеевича о своем труде. Аксаков ознакомился с присланной ему в конце 1853 года рукописью Кулиша «Опыт биографии Гоголя», исписал целую тетрадь своих замечаний и «дополнительных сведений». Вскоре после этого Кулиш приехал в Абрамцево, проведя в нем около двух недель. С собою он привез материалы к будущим двухтомным «Запискам о жизни Н. В. Гоголя», над которыми тогда работал. И здесь, в Абрамцеве, он не оставлял разысканий, перебирал черновые бумаги Гоголя, находившиеся у Аксаковых, делая из них выписки. По вечерам и даже по утрам читали найденные Кулишом драгоценные отрывки, письма юного Гоголя. Кулиш привез с собой уцелевшие главы второго тома «Мертвых душ». Константин Сергеевич прочитал первую главу, столь памятную ему и отцу по чтению самого Гоголя: хотя эта черновая глава отличалась от того, что читал Николай Васильевич, все же она была прекрасна и живо напомнила автора; казалось, он находился тут же, рядом и вот-вот послышится его голос. Аксаковы, слушавшие записки Кулиша, делали свои замечания, высказывали советы, особенно было что сказать Сергею Тимофеевичу, в котором это занятие подняло со дна души воспоминание о друге (совестно, что он до сих пор не исполнил священного долга перед его памятью, не написал еще историю знакомства с ним); Кулиш охотно принимал советы, вносил поправки, добавления. Многое из того, что услышал, узнал Кулиш от Аксакова, что почерпнул из бесед с ним, что списал из его переписки с Николаем Васильевичем, он использовал впоследствии в своей книге о Гоголе. Сергей Тимофеевич ценил Кулиша за «точность и знание дела».
Кулиш, при всей своей щепетильности, не мог не видеть искреннего радушия хозяина дома и его семьи. Надежда Сергеевна, или попросту Наденька, рада была гостю, учившему ее по вечерам петь малороссийские песни, этим преимущественно интересовал ее Кулиш. Для всевидящей же старшей сестры ее, Веры Сергеевны, Кулиш представлялся умным и наблюдательным, методичным даже в мыслях и страстной натурой, умеющей понимать искусство, и вместе с тем человеком с «путаницей в голове разнородных понятий, а в душе разнородных стремлений». Веру Сергеевну удивляло, и тут она выражала мнение всей семьи, начиная с отесеньки, – как это можно, подобно Кулишу, в одно и то же время благоговеть перед Гоголем, «чисто духовным человеком», как она его называла, и восхищаться Жорж Занд, с модной «свободой чувств» ее героинь. Жорж Занд была в глазах Аксаковой духовным отпрыском Руссо, которого Вера считала «соблазнителем душ», видела в нем «безнравственность». С восхищением рассказывал Кулиш, как Руссо стал для него лучшим учителем в заточении. Под «заточением» имелось в виду то, что за участие в Кирилло-Мефодиевском обществе (выступавшем за федерацию славянских народов и проповедовавшем идею украинского мессианизма) Кулиш был сослан в Тулу, где служил чиновником в канцелярии губернатора. В 1850 году трехлетнее «заточение» кончилось, и он переехал в Петербург, заведя там собственную типографию, оттуда, из Петербурга, наведывался к Аксаковым. Если даже и оставить в стороне Руссо, сама разнородность «понятий» и «стремлений», отмеченная в Кулише Верой Сергеевной, была действительно характерна для него. Украинский националист и вместе с тем приверженец создания монархической федерации славянских народов под эгидой царской России, Кулиш восхвалял «культурную миссию» польской шляхты на Украине и одновременно показал себя проводником руссификаторства в Варшаве, где он служил чиновником, и т. д. В доме Аксаковых увидели еще в молодом Кулише ту его «разнородность», по слову Веры Сергеевны, разноидеяную податливость, которая станет спутницей его долголетней жизни.
Дни, проведенные в семействе Аксаковых, оставили теплое воспоминание у Кулиша. Он обращался в письме к Сергею Тимофеевичу: «Прошу Вас уверить всех ваших, что каждый из них произвел на меня такое впечатление, какое только может желать добрая душа оставить в душе далекого странника, с которым, бог знает, встретится ли она еще когда-нибудь в жизни, но который унесет ее милый образ далеко в свой путь и будет глядеть на него в свои светлые, святые минуты». Кулиш не знал лично Гоголя, вносил в свою книгу о нем разрозненные сведения, взятые у других, у него «многие анекдоты совершенно лишние и плохо объяснены» (как писал Иван Аксаков своему отцу, с чем Сергей Тимофеевич соглашался). Это давало повод для предубеждения против личности Гоголя и его произведений. Само отношение Кулиша к великому писателю менялось до прямо противоположных оценок. Сначала он восторженно отзывался о его первых повестях, говорил, что надобно быть жителем Малороссии, чтобы постигнуть, до какой степени общий тон гоголевских картин верен действительности. Впоследствии же утверждал совершенно обратное, что малороссийские повести Гоголя мало заключают в себе этнографической и исторической истины, что в них «разит на каждом шагу» незнание нравов и обычаев крестьянских, неуважение к человеческой личности украинского простолюдина. То же самое – о «Тарасе Бульбе». Сначала дифирамб о том, что «размашистая фигура» героя яснее всяких томов показывает, какова была старинная жизнь Малороссии. А позже – тот же Кулиш обличает автора «Тараса Бульбы» в «исторической недостоверности» изображаемой им борьбы православного казачества на Украине против ляхов, местечковых арендаторов церквей во времена Богдана Хмельницкого. И здесь, говоря словами самого Кулиша, «разит на каждом шагу» влияние на него его кумира-поляка, «знаменитого польского критика» Грабовского, который, играя на тщеславии Кулиша, восхваляя его, успешно взращивал в нем украинский национализм.
В его спор с Кулишом вступил его земляк, историк, этнограф A. M Максимович, который опроверг «кулишовы брехни» (слова из его письма) о якобы незнании Гоголем малороссийской жизни. Все пять статей Максимовича под общим заглавием «Оборона украинских повестей Гоголя» были помещены в газете И. С. Аксакова «День». В ответ Кулиш с его «хуторянским романтизмом», повторяя ранее сказанное, называя Гоголя писателем со «словом неукраинским», объявил, что он «решительно отрекается от „гоголевских украинцев“», будто бы изуродованных писателем.
Вслед за тем, в 1862 году в журнале М. М.Достоевского «Время» по поводу этой полемики была опубликована статья «Критики-этнографы», принадлежащая, как полагают исследователи, Ф. М. Достоевскому. В ней речь шла о несостоятельности дотошной «этнографической перемывки» литературных героев перед «тайной художественной правды». Автор статьи не мог пройти мимо «особого тона, слышимого в статьях Кулиша». «К чему упоминание о «великороссийских писателях» и «великороссийской критике», как о чем-то чужом, чуть не враждебном?.. Господин Кулиш косится на «великороссийскую» литературу – за что это и почему?.. Разве великорусская литература давит и гонит украинское слово, мешает его развитию, не сочувствует его успехам?.. Но упрямые фанатики… не хотят понять, что два не чуждые друг другу мира, два больших семейства, живя под одной кровлей на равных правах, могут не мешать, а помогать и быть взаимно полезными друг другу… Не хотят понять этого фанатики, и, читая на своем языке, косятся на соседа, как будто боясь, чтоб голос его не заглушил их речи…»
Впоследствии пришлось и Ивану Сергеевичу Аксакову дать отповедь этому двуликому Кулишу. То самое украинофильство, за которое демонстративно тот ратовал, оказалось им же попранным, оплеванным. В своей статье «Где и что болит у нас» (напечатанной в 1882 году) Аксаков писал: «Кулиш – тот прямо-таки оплевал все, что для «украинофильства» было когда-то точкою отправления и оправданием. Он насмеялся, наругался над казаком, над всем мученическим житием Украины, над ее геройскою защитою своей православной веры и независимости, над всем ее историческим подвигом. Мало того: он призывает ее, Украину… принести покаяние, не только задним числом пред польскими панами-мучителями и отцами-иезуитами – гонителями прошлых веков, но теперь, сейчас же, пред таковыми же панами и иезуитами современной поры, – пред теми самыми, что в настоящий, текущий миг так нахально угнетают русский народ в Галиции…» По словам Ивана Аксакова, «украинофилы» вроде Кулиша – «жалкие пешки в руках поляков».
Часто наведывался в Абрамцево Щепкин, приезжая туда как на свою дачу, отдыхая там с удовольствием, не чувствуя ни в чем стеснения.
Михаил Семенович любил в доме Аксаковых рассказывать о своих земляках-украинцах, зная, как неравнодушны к ним хозяин и его семья, особенно после писем и живых рассказов Ивана Сергеевича, много поездившего по милой Украине и полюбившего ее, тосковавшего по ней, по собственному признанию.
Осенью 1853 года Михаил Семенович побывал в Париже и вернулся оттуда с приятными впечатлениями, особенно от встречи с актрисой Рашель. Правда, игры ее он не видел, встреча свелась к «болтовне», как выразился сам Михаил Семенович в письме к сыну («Было много болтовни об искусстве, но писать об этом скучно, потому что это болтовня»).
А вскоре знаменитая актриса прибыла в Петербург, и первые же ее выступления привели в восхищение Щепкина. Он только и говорил, что о Рашели. И в Абрамцеве у Аксаковых не переставал восторгаться ею. Из Петербурга поступали самые различные толки о гастролерше. Игра ее многих насторожила, вызвала удивление – басовитым, гремящим голосом, дробящим фразы, хриплыми вскриками, воплями, внешними эффектами. Зрители замечали, что приемы актрисы грубы, что она довела до крайности риторическое, броское, что игра ее бездушна, сводится к механическим приемам.
Но гипноз европейской славы действовал безотказно, знатоки искусства, как всегда, были в меньшинстве, а падкой до всего модного, сенсационного публике было не до «тонкостей искусства»: довольно было одного уже имени Рашель. Русское гостеприимство не знало, казалось, удержу. Не знали, как и чем угодить приехавшей гастролерше.
В Москве Рашель играла в обычной своей манере, вызывая, как и в Петербурге, недоумение одних и восхищение других. И в Абрамцеве не обошлось без спора о Рашели. Свой человек в доме Аксаковых, Михаил Петрович Погодин не соглашался с таким же своим человеком в том же доме – Михаилом Семеновичем Щепкиным. В свое время, более десяти лет тому назад, Погодин, будучи в Париже, привез оттуда кое-какие наблюдения для Михаила Семеновича. Он решил, что актеру-художнику необходимо заграничное путешествие, ему полезно не только посетить знаменитые театры и посмотреть хороших актеров, но даже потолкаться в простом народе других наций. По его словам, всякий народ имеет свои жесты, особые приемы при слушании, при рассказах, при возражениях и т. д., всем этим наблюдательный актер может воспользоваться и употребить это в дело, на сцене. Французы по природе своей комические актеры. А какая богатая мимика у итальянцев – достаточно посмотреть на уличные народные сцены, чему с удовольствием предавался Погодин, бывая за границей. Обо всем этом он и говаривал Щепкину, на правах друга и наставника. Но Михаил Семенович сам кого угодно мог поучить этому искусству. Тогда же в Париже Погодин увидел впервые «мамзель Рашель» и не очаровался ею. Более того, по возвращении из Парижа он писал в своем «Москвитянине», что Рашель «обязана славою только моде, своей фигуре и статьям Жюля Жанена или, как называют его… Юлия Янина». И теперь с начавшимися в Москве гастролями актрисы он не менял этого своего мнения о ней, приводя тем самым в горячительное состояние Щепкина. С приездом Рашели в Москву Михаил Семенович только и говорил о ней. Без конца умилялся, казался без ума от Рашели, ее игры, но одно его все-таки огорчало, удивляло и возмущало: очень уж она гонится за количеством спектаклей, за выручкой, и откуда такая энергия берется? – в день несколько раз на сцене. Старик даже осмелился отчитать гостью: сыграть двадцать шесть спектаклей кряду – такая поденщина унижает искусство, топчет его в грязь. Но в кругу своих друзей Михаил Семенович защищал актрису от малейшей критики.
– Шумом о себе мамзель Рашель обязана Юлию Янину, – поддразнивал Погодин Щепкина. Но Михаил Семенович не терялся и парировал своего критика сокрушительной притчей о некоем мужичке, вернувшемся после заработков в сапогах в свою деревню, где все носили лапти. Вся деревня в один голос закричала: «Как это, дескать, можно! Не станем, братцы, носить сапогов; наши отцы и деды ходили в лаптях, а были не глупее нас; ведь сапоги мотовство, разврат…» – «А кончилось тем, – заключил Михаил Семенович, многозначительно поглядывая на слушателей, – что через год вся деревня стала ходить в сапогах!»
Сергей Тимофеевич также мог попасть в «противники сапог». Что касается драматургии французского классицизма и французского театра, то еще около тридцати лет тому назад, в двадцатых годах, Аксаков высказал о них некоторые свои суждения. Он написал статью о переводе на русский язык трагедии Расина «Федра», где сделал множество замечаний о неточности перевода, о несоблюдении переводчиком присущих французскому драматургу «постепенности и приличия» в выражении чувства, о словесном излишестве, растянутости стиха вместо «силы и необходимой краткости» Расина, о слабости многих стихов в сравнении с подлинником и т. д. В то время Аксаков еще отдавал дань классицистическому искусству, хотя в главном уже отошел от него, требуя реалистической правды на сцене. Это и видно в его отзыве в те же двадцатые годы о французском спектакле в Москве, когда он как главный недостаток игры актеров отмечал отсутствие жизненности, правдивости. «Старые, обветшалые формы, безжизненные характеры, пустая декламация, условная неестественность, кажется, уже никому не могут нравиться, – писал Аксаков. И уточнял, обращаясь к игре актеров: – Когда дело дошло до чувств и до огня, то, скажу скромно, явилась одна холодная, поддельная, несносная декламация; выговор прекрасный, и некоторые отдельные мысли автора выражены ею довольно удачно, но чувствительности души было очень мало», актер, «игравший комедианта, имеет талант и искусство, но холоден: эта роль много бы выиграла от живости исполнения»; «чтоб лучше дать понятие о французском спектакле, скажу лишь, что его можно было сравнить с каким-то экзаменом взрослых воспитанников и воспитанниц в декламации на французском языке или в сказывании уроков». А еще раньше, в 1808 году, юный Аксаков смотрел игру гастролировавшей в Петербурге знаменитой французской актрисы Жорж (Вейснер М.-Ж.). Впоследствии в своих воспоминаниях о Шушерине Сергей Тимофеевич писал, как неприятно поразила его искусственность игры Жорж, отсутствие всякого внутреннего чувства. «Характеры ролей, истинность их всегда приносились в жертву эффекту… ее игра была бессмысленна относительно к характеру представляемого лица». Жорж так «механически играла свои роли», что «все мельчайшие интонации голоса, малейшие движения лица, рук и всего тела, всякая складка на ее платье, долженствующая образоваться при таком-то движении, – все было изучено и никогда не изменялось». Французская актриса «не обращала ни малейшего внимания на мысль автора, на общий лад пиесы и на тон реплики лица, ведущего с него сцену: одним словом, она была одна на сцене, другие лица для нее не существовали. После этого можно ли назвать ее игру художественным воспроизведением личности представляемого лица».
Но вернемся к иным гостям Аксаковых, приезжавшим в Амбрамцево. Бывал здесь Никита Петрович Гиляров, почти ровесник (на год моложе) Ивана Аксакова, будущий ближайший сотрудник его изданий. Двадцатитрехлетним, в 1848 году он с блестящим успехом окончил курс в Московской духовной академии и за философское исследование в виде особого отличия получил к своей фамилии прибавление «Платонов». В той же академии он был оставлен для чтения лекций, но в 1854 году вышел из духовного звания, некоторое время служил цензором, а потом посвятил свои незаурядные способности философским, литературно-критическим занятиям, публицистической деятельности, издавая с 1867 года в продолжение двадцати лет ежедневную газету «Современные известия». Он разделял во многом славянофильские взгляды, сходясь более всего с Хомяковым, что не мешало ему с ним же и горячо спорить, как, впрочем, и с Константином Аксаковым. В семье Аксаковых Никита Петрович был как у родных, да он в известном смысле и породнился с ними: Сергей Тимофеевич был крестным отцом двух его сыновей. Очень любил Гиляров Сергея Тимофеевича и как писателя: в своей большой статье «Семейная хроника и воспоминания», написанной еще при жизни старика Аксакова, он высказал интересные мысли о его книге, в частности, сравнив «Семейную хронику» с историческим романом: «…если хотите, она есть тот же исторический роман по внутреннему смыслу жизни, который сквозит через эти, незначащие для истории лица и события. И какой роман! Огромный роман… который обнимает собою время целого столетия, характеризует две великие эпохи…» Любопытны и его замечания об изображаемой художником красоте природы, которые он выводит из душевного строя, «воззрения на жизнь» автора, его прекрасных человеческих качеств. Нетрудно догадаться, что именно общение с Сергеем Тимофеевичем, покоряющие свойства его натуры помогли Гилярову лучше почувствовать достоинства аксаковских произведений.
Даже и в этой всеобще радушной, приветливой семье сам хозяин был все-таки самым располагающим, Гиляров мог почувствовать это на себе. С уходом из духовного звания, с началом новой для него жизни, из-за неустройства домашнего, отчасти по характеру своему Гиляров нередко бывал в унылом, расстроенном состоянии и таким являлся к Аксаковым.
Вере Сергеевне, считавшей Гилярова человеком замечательно умным, ученым и даровитым, не нравилось видеть его расстроенным, унылым, что она и считала нужным записывать в своем дневнике. Согласен был с нею и брат, Константин Сергеевич, с простодушием своим не скрывавший этого от уважаемого гостя. Как-то пришедший к ним Никита Петрович завел разговор о своих исследованиях памятников древнего церковного пения. Затем стал вспоминать детство, юные годы, через какие трудные стороны жизни ему пришлось пройти. У него, Гилярова, есть записки его жизни, которые он давно уже хотел прочитать им. Разговор перебросился на другие темы, заговорили о самолюбии, в чем оно выражается у людей, у каждого из присутствующих. Начался вполне откровенный обмен мнениями на этот счет. Константин Сергеевич, как всегда, ничего не скрывал, что он думает о человеке, и со всей откровенностью и добродушием начал говорить Гилярову, что он, Никита Петрович, слишком возится с самим собою, погружен в себя, это мешает ему обращать внимание на других и не располагает их к нему. В ответ Гиляров сознался, что сам он не раз замечал, как люди действительно не были расположены к нему, чувствовали стеснение в его присутствии, видимо, потому, что предполагали пренебрежительное отношение к ним с его стороны. Константин Сергеевич говорил, что важна сердечная прямота во всем, что часто брань менее оскорбительна, нежели бездушие деликатного замечания. Никита Петрович соглашался и с этим, но как бы в смягчение своей вины ссылался на рассеянность, погруженность в занятия; как бы так сделать, чтобы уметь быть более приветливым? Тут же Константин Сергеевич поправил: не уметь быть приветливым, но надобно в душе быть таким.








