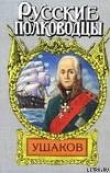Текст книги "Адмирал Ушаков"
Автор книги: Михаил Петров
Жанр:
История
сообщить о нарушении
Текущая страница: 16 (всего у книги 26 страниц)
Ушаков отвечал, что он, конечно, слышал его имя, но должен с сожалением признать, что почти не посвящен в его военные заслуги, которых не может не иметь такой славный генерал, каким является его превосходительство. Архаров, не уловив его иронии, рассмеялся:
– Это потому, милостивый государь, что не имели должного интереса к инфантерии.
Сказав это, Архаров вернулся к прерванному рассказу, которым до прихода Ушакова и Никифорова были увлечены окружавшие его помещики:
– Так вот, господа, этот самый Сперанский, пользуясь тем, что у любимого нами государя доброе сердце и государь во имя счастья подданных готов лишиться личного благополучия, осмелился представить сенату и его императорскому величеству проект государственного преобразования. И как вы думаете, что изобразил в сем проекте сей господин? – Архаров интригующе посмотрел вокруг себя, как бы отыскивая охотника ответить на поставленный им вопрос. – Ни за что не догадаетесь, господа. Сперанский предложил государю республику!
Вокруг сразу задвигались, раздались возгласы удивления.
– Да, да, господа, республику, – повторил Архаров, довольный произведенным им впечатлением, – именно республику, хотя господин Сперанский и не употребляет сие вредное слово.
– А как же он эту самую... республику учинять желает? – спросил кто-то.
– Весьма хитро, – оживился Архаров. – Господин Сперанский имеет предложение разделить власти на законодательную, исполнительную и судебную, учредить Государственную думу и Государственный совет, приравнять к дворянам людей среднего состояния, иными словами, торговцев разных, промышленников. И что самое возмутительное – сей господин замышляет меры к лишению нас, дворян, права иметь крепостных крестьян, он желает дать крестьянам полную волю.
Теперь уже возмущались все:
– Не может быть! А как же тогда мы?
– Ну и времена!.. Страх!
– Не вижу ничего страшного, – достаточно громко промолвил Ушаков.
Архарову это замечание пришлось не по нраву.
– Вам, милостивый государь, хорошо так говорить, потому что у вас нет своих крестьян, разве что несколько человек дворовых...
При этих словах раздался хохот. Ушаков оглянулся и увидел Титова. Оказывается, аксельский помещик тоже был здесь, тоже пришел на званый обед. Это он хохотал с таким усердием, хохотал не потому, что было смешно, а потому, что имел случай причинить Ушакову боль за его заступничество за крестьян.
– Прошу, господа, в зал, – желая разрядить обстановку, прокричал Никифоров. – Столы накрыты. – Пойдемте, Федор Федорович, – дотронулся он до Ушакова. – Пора начинать.
Ушаков отвел его руку.
– Не могу. Дозвольте откланяться. Я должен ехать домой.
Он все еще чувствовал себя униженным, оскорбленным.
– Не обращайте на него внимания, – сказал Никифоров. – Архарова я знаю давно. Этот человек не терпит соперников, желает, чтобы в компаниях светился только он. Пойдемте, Федор Федорович!
– Покорнейше благодарю. Не могу. Дозвольте откланяться. – И, уже не слушая более уговоров, Ушаков направился к выходу.
Лошадь стояла у коновязи. Кучер камнем вправлял обод колеса. Увидев своего хозяина, бросил камень, выпрямился:
– Домой прикажешь, батюшка?
– Едем.
Ушаков взобрался на тележку, застланную мокрым сеном, и накинул на себя епанчу. Было холодно, ветер носил в воздухе мокрые снежинки.
– Подождали бы малость, батюшка, – сказал кучер, – я бы сено перевернул, а то мокро.
– Ничего, и так доедем.
Еще не успели отъехать от города, как епанча промокла насквозь, за ворот покатились холодные капли. Ушаков хотел было приказать кучеру остановиться, чтобы поправить на себе епанчу и что-нибудь накинуть на голову, но раздумал: ехать-то недалеко...
Не давала покоя мысль об Архарове, Титове. Сколько ненависти всколыхнулось в них, когда он попытался заступиться за Сперанского! Крепостники! Они не представляют для себя иного бытия, кроме как упиваться властью над рабами.
Слуга Федор, увидев, в каком состоянии приехал барин, набросился на кучера:
– Что ж ты батюшку от дождя не уберег? Разве не видишь, мокрый весь.
– Я говорил...
– Вот вырву из рук кнут да твоим же кнутом, чтоб знал!..
– Не ругайся, Федор, – попросил Ушаков, – я не озяб. Помоги лучше сойти с тележки.
Беспокойство Федора оказалось не напрасным. Хотя Ушаков, придя в свою комнату, сразу же сменил мокрое белье на сухое и напился после этого горячего чая с сухой малиной, простуда взяла свое. К вечеру появился жар, а к утру он ослаб до того, что уже не мог подняться. Федор, боясь как бы не стало еще хуже, вынужден был послать того же кучера в Темников за доктором.
12
Болезнь у Ушакова оказалась вроде бы и не мучительной, сильных болей не было, но слишком затянулась. На десять с лишним недель. Перед самым Рождеством наступило облегчение, он даже самостоятельно выходил во двор, но потом снова слег.
Все эти долгие дни Ушаков не имел иного развлечения, кроме как книги и газеты. От чтения голова быстро уставала, в висках начинало стучать, и все же он не мог без чтения.
В газетах печаталось всякое. Интересного было мало, но одно сообщение его обрадовало настолько, что он пожелал поделиться своей радостью с Федором.
– Помнишь ли, старина, адмирала Пустошкина?
– Как не помнить? – отозвался Федор. – В Севастополе хлеб-соль его ели.
– В газете о нем написано: эскадрой своей турок потрепал крепко.
– Ну и хорошо, – без видимого восторга заключил Федор, – авось теперь бусурман на мир с нами пойдет.
Федор ушел заниматься своими делами, а Ушаков отдался размышлениям. Пути к заключению мира с турками представлялись Ушакову не такими простыми, как Федору. Нет, одной победой Пустошкинской эскадры мира не сделаешь. Флот в сей войне не играет решающей роли. По слабости своей он не может даже создать большую угрозу Константинополю – столице Оттоманской империи. В этой войне, как и в прежних, последнее слово остается за инфантерией. А у сухопутных войск дела пока идут не очень гладко. Топчутся на месте. Правда, русской армии удалось овладеть несколькими неприятельскими крепостями, но решающего успеха она достигнуть не смогла. И винить, кроме Петербурга, тут было некого. Желая поправить положение, Александр I и его окружение не находили ничего другого, как менять командующих армией. Что ни год, то новый командующий. Добро бы хоть способных генералов назначали, а то так себе: совершенно одряхлевший и оглохший князь Прозоровский, потерявший способность отличить на карте речку от озера; генерал Михельсон, военное дарование которого в том только и проявилось, что заключил в клетку пойманного Пугачева; французский эмигрант Ланжерон, друг маркиза де Траверсе, так же, как и маркиз, восполнявший недостаток военного таланта интриганством и жестокостью к низшим чинам... Вот на каких деятелей делал ставку "всевидящий" русский император. "Кутузова бы командующим!" – мечтал Ушаков. Но Кутузов оставался в Вильно: император не желал посылать его в армию, удерживая в должности литовского военного губернатора.
Ушакову не с кем было поделиться своими мыслями, кроме как с Федором. Темниковская знать не наведывалась. Один раз приезжал только игумен монастыря. Он привез с десяток лимонов и несколько просвирок.
– Это от всей нашей братии, – говорил отец Филарет, выкладывая из сумки гостинец. – Все мы молимся за скорейшее ваше выздоровление.
Игумен приехал в тот момент, когда Ушакову было особенно худо: несколько дней кряду не спадал жар, и он совсем пал духом, угнетаемый мыслью, что ему теперь, видимо, уже не подняться.
– У меня к вам просьба, – сказал Ушаков. – Когда наступит конец, схороните в вашей обители рядом с могилой дяди.
– Эк о чем разговор завели!.. – запротестовал игумен. – Мы с вами, Бог даст, еще походим. О том и думы заводить грех.
Больше к этому разговору они не возвращались. Поговорили о том о сем и расстались.
Перед самым Крещением из Петербурга неожиданно пожаловал племянник Федор Иванович. Вот уж радости-то было! Ушаков даже поднялся на ноги, потребовал себе мундир и только после настойчивых уговоров слуги согласился вернуться в постель с тем, однако, условием, чтобы стол для потчевания гостя накрыли рядом с его кроватью и чтобы племянник все время оставался при нем.
Федор Иванович чем-то напомнил Ушакову родителя, Федора Игнатьевича, выражением глаз, что ли... У батюшки, Федора Игнатьевича, был такой же загадочно-задумчивый взгляд. Его считали человеком со странностями. Он никогда не бывал в море, видел море только с берега, когда служил в Петербурге в гвардейском полку, но мог рассказывать о нем бесконечно. Он любил море. Мало того, сумел связать с морем судьбы своих сыновей. И когда те стали мореходами, тихо, без видимой болезни, скончался: вечером ужинал вместе со всеми, а утром его уже не стало...
Четверо сыновей было у Федора Игнатьевича – Иван, Степан, Гаврила и Федор, а остался в живых только он один, бездетный Федор Федорович... Впрочем, у него, Федора Федоровича, племянник Федор Иванович, у племянника же здравствовал сын, а это значило, что род Ушаковых не пресечется.
– А я, признаться, уже якорь собирался бросать, – сказал Ушаков племяннику, виновато улыбаясь.
– Бог милостив, не допустит этого, – сказал в ответ Федор Иванович.
Ушаков не стал больше отвлекать его разговорами, подождал, когда кончит есть, затем приказал убрать стол с остатками еды.
– А теперь, – потребовал он от племянника, – рассказывай, что знаешь нового. Первый вопрос: что слышно о Сенявине?
– А я разве о нем не писал? – живо включился в разговор Федор Иванович. – Вернулся Сенявин, еще осенью вернулся и людей своих вывез. На английских транспортах. Эскадренные корабли его в Портсмуте до окончания войны задержаны.
– Это хорошо, что людей вывез, – заключил Ушаков. – Главное все-таки люди.
– Другие иначе думают. Из-за того, что случилось с его эскадрой, Сенявин в опалу попал, лишился настоящего дела.
– Дурачье!.. – с гневом процедил сквозь зубы Ушаков. Он долго поправлял под головой подушку, желая успокоиться. – Что еще нового?
– Новый министр у нас.
– Кто?
– Маркиз де Траверсе.
Боже, что делается! Неужели это правда? Ушаков вспомнил, как в Севастополе маркиз бил по лицу матроса, вспомнил рассказы о его нечестных сделках с купцами, которым перевозил на военных кораблях грузы, вспомнил все и опять ужаснулся. Все эти годы в Севастополе маркиз тем только и занимался, что разорял тамошние эскадры, а теперь получал возможность разорять весь Российский флот. И слеп же в людях император Александр!
– А Мордвинов? – после паузы спросил Ушаков.
– Остался председателем Вольного экономического общества.
– Его ли, адмирала, это дело? А впрочем, – усмехнулся Ушаков, – на другое он и не способен...
При этих словах он сильно закашлялся. Федор Иванович, встревожившись, кинулся помочь поднять под головой подушку.
– Здорово же вас прихватило, дядюшка!
Ушаков нахмурился. Вспомнилась церковная служба в Темникове по случаю заключения мира со Швецией, вспомнилась стычка с Архаровым и Титовым в дворянском собрании. Очень не повезло ему в тот день.
Не ответив племяннику, спросил:
– Что за человек Сперанский?
– А что?
– Шибко напугал планами своими дворян наших.
– Да ваших ли только? В Петербурге не меньше напуганы.
Федор Иванович рассказал, что в Петербурге многие считают Сперанского другом царя и что преобразовательные планы свои он сочиняет по высочайшему повелению. По предложению Сперанского его величеством уже издан манифест об образовании Государственного совета, и дворяне опасаются, как бы государь не принял и другие его предложения.
– А что сам Сперанский?
– Он почти не показывается на людях, целыми днями сидит в своем кабинете, на который даже придворные смотрят как на Пандорин ящик*.
_______________
* По греческой мифологии, Пандора, первая женщина, созданная
Зевсом, получила для хранения от своего творца жизни ящик, в котором
были заперты все человеческие несчастья. Пандора не смогла сладить с
охватившим ее любопытством, открыла ящик и нечаянно выпустила
содержавшиеся там несчастья на белый свет.
– Сдается мне, для Сперанского это кончится плохо, – в раздумье сказал Ушаков. – Рано или поздно государь оттолкнет его. В первые годы своего царствования Екатерина II, которой подражает нынешний император, тоже поощряла свободолюбивые мысли, выдавала себя чуть ли не республиканкой. Царствование же свое она закончила виселицами да ссылками.
Ушаков закрыл глаза и долго лежал не двигаясь.
– Наверное, устал с дороги, – проговорил он после молчания, – поди отдохни. Да и я притомился. Потом поговорим.
– Слушаюсь, дядюшка.
Федор Иванович поправил на нем одеяло и на цыпочках вышел из комнаты.
* * *
Пока Федор Иванович жил в Алексеевке, он почти не оставлял дядю одного, развлекая рассказами. Порою их беседы затягивались до глубокой ночи.
Однажды Федор Иванович пришел к дяде со свертком бумаг и с таким видом, словно имел сообщить ему что-то важное. Ушакову в этот день было намного лучше, он мог даже позволить себе сесть на кровать, подложив под спину подушки.
– Присядь, – пригласил он племянника. – Что это у тебя?
– Да так... старая газета.
– Интересное что-нибудь?
– Лично вас может заинтересовать. Желаете послушать, что здесь написано?
– Почему бы не послушать, если интересно?
Федор Иванович стал читать:
– "Продолжение известий о действиях флота и первой ее императорского величества армии против Оттоманской Порты. В Санк-Петербурге ноября 28 дня 1771 года". Это приложение к "Петербургским ведомостям", – пояснил Федор Иванович.
– Читай дальше, я слушаю.
Чтение возобновилось:
– "С пребыванием на сих днях ко двору курьерами получены обстоятельные известия о действиях флота ее императорского величества в Архипелаге. Главнокомандующий тем флотом генерал-аншеф граф Алексей Орлов доносит с корабля "Трех Иерархов", под островом Тассо, от 19 сентября..." Тут много всяких известий, – прервал чтение Федор Иванович. – Дозвольте, дядюшка, на одном только известии остановиться.
– Я слушаю.
Федор Иванович пошелестел газетой, нашел отмеченное место и продолжал:
– "...12 сентября последовало между островом Лемносом и Афонскою горою происшествие, которое не инако служит как приращению славы победоносного ее императорского величества оружия.
Небольшое греческое судно, называемое "Трекатара", на котором молодой человек мичман Ушаков был главным командиром, с одною ротою солдат Шлиссельбургского полка под командою капитана их Костина и с небольшим числом албанцев, переходя от острова Скопело к Тассо, в виду крепости Лемноса, при совершенном безветрии остановилось на месте неподвижно. Неприятель, усмотря оное в таком состоянии и зная при том вооружение греческих судов, считали уже оное своею добычей; чего ради вышел из порта на одной галерее и четырех полугалерах в великом числе вооруженных дульциниотов, главных в тамошних морях разбойников, спешил на гребле к овладению судном, уповая взять оное без всякого сражения. Командиры капитан Костин и мичман Ушаков, узнав по флагам неприятеля, несмотря на худое вооружение "Трекатары", изготовились к обороне, распорядя таким образом, чтоб судно при тихой погоде яликом и баркасом во все стороны поворачиваемо было; потом, вынув пустые водяные бочки, употребили оные к тому, дабы солдатам и албанцам служили вместо туров, а навешанное платье и постели укрывали их по бортам и на шканцах, на которых приказано было лежать, не показываясь неприятелю до приближения его к судну; на корме, прорубив вскорости борт, поставили небольшую пушку и, распределя по всем нужным местам людей, коих не более 229 человек было, считая всех обер– и унтер-офицеров, солдат, албанцев и матросов, ожидали бодро неприятельского нападения.
В четыре часа пополудни началась пушечная пальба с галеры, потом и прочие суда, подойдя ближе, стреляли из пушек и ружей; а как и из "Трекатары" при поднятии российского флага. Ответствовано было, что неприятель, надеясь на свою превосходную силу, стремился пристать к судну и с оружием взять оное, но весьма храбро отбит был и прогнан".
Закончив чтение, Федор Иванович бережно свернул газету и спросил дядю, про него ли сие написано?
– Откуда это у тебя? – обратил на него взгляд Ушаков.
– Нашел в бумагах покойного батюшки.
Ушаков откинулся на подушки, помолчал, раздумывая. Потом заговорил:
– В тысяча семьсот семьдесят первом году я был уже лейтенантом, а не мичманом. Да и в кампании той, коей предводительствовал граф Алексей Орлов, не участвовал. В то время я в Азовской флотилии служил.
– А как же это? – показал на газету Федор Иванович.
– Сие про батюшку твоего Ивана Федоровича...
Ушаков свесил с кровати ноги и попросил халат. Он не мог больше лежать: воспоминания сильно взволновали его.
– Славный был мореходец твой батюшка, царство ему небесное!
– Батюшка никогда не рассказывал мне о своих походах.
– А было ли у него время рассказывать? – Ушаков взял в руки газету, посмотрел, нет ли там еще чего, и тотчас вернул. – Береги. И пусть сия газета будет тебе вроде родительского завещания. Мы с батюшкой твоим свое прошли, теперь твой черед идти. Дальше идти. Россия на вас, молодых, взгляд свой должна держать. А что до Траверсов да Мордвиновых, то они вроде морской пены – хоть и наверху, да не на них флот держится.
Ушаков закашлялся и стал тащить на себя одеяло. Федор Иванович бросился ему помогать.
– Ничего, ничего, я один, сам управлюсь, – остановил его Ушаков. Полежать надо. А ты иди гуляй, – легонько оттолкнул он от себя племянника. – Не велико удовольствие у больного торчать. Иди.
Федор Иванович прожил у дяди до середины Великого поста. Он уехал в мартовскую оттепель, когда Ушаков был уже совсем здоров.
13
В народе неспроста говорят: время за нами, время перед нами, а при нас его нет. Мы его не замечаем. Не замечаем, как оно летит. И только когда мысленно оглядываемся, с удивлением обнаруживаем: то, что было впереди нас, маня наше воображение, оказалось уже позади... И так всю жизнь. Не замечаем, как остается позади молодость, в хлопотах проходят зрелые годы. Все проходит, и вот ты уже старик... Ты обнаруживаешь это и вначале не веришь себе: неужели это правда? Не веришь, удивляешься и со смутным страхом смотришь вперед: много ли там еще осталось? И вот что странно, чем меньше времени остается там, впереди, тем быстрее переливается оно из дали будущего в даль минувшего, тем быстрее течение дней. Да, время не понимает шуток. Время делает свое дело бесповоротно, неумолимо.
В 1812 году исполнилось пять лет, как Ушаков ушел в отставку. Когда Федор напомнил ему об этом, испекши по сему случаю праздничный пирог, он даже расстроился. Пять лет! Времени-то сколько!.. А в нем даже не успело улечься то, что обижало, мучило его в последние годы службы. Сердце ныло таким же смутным беспокойством, как и прежде. Боже, когда же наконец придет настоящий покой?..
А вроде бы и причин особых для расстройства не было. После проводов племянника он не болел более. Правда, недуги кое-когда сказывались, особенно перед непогодой – то ноги начнет мозжить, то вдруг в голове шум объявится, но ведь в старые годы все подобное испытывают.
На настроение давило совсем не это, давило что-то другое... И это "что-то" исходило от самой обстановки, в которой жил, в которой варился, варились другие люди, варилась вся великая Русь. Позабыть бы обо всем на свете, уйти бы от всех печалей... Но разве забудешь, разве уйдешь, когда все это у тебя в крови и когда ты привык начинать свой день с книг или газет: что там нового?
В газетах ничего такого расстраивающего в последнее время не появлялось. В войне с Турцией произошел наконец коренной перелом. Весной 1811 года император догадался-таки назначить в армию командующим Кутузова, и тот уже осенью того же года сумел окружить и поставить в безвыходное положение турецкую армию, заманив ее на левый берег Дуная против Рущука. Турки вынуждены были согласиться на мирные переговоры.
Однажды после обеда Ушаков собрался отдохнуть немного в постели, как вдруг заявился Федор.
– Там, батюшка, мужики к тебе.
– Какие мужики, наши, что ли?
– Да нет, аксельские.
Опять аксельские! Неужели не могут понять, что он не в силах им помочь? Уж если жаловаться, то шли бы в Темников к уездному начальству,
– Скажи им, что принять их не могу. Мое новое заступничество только умножит их беды.
– Да они не за этим, батюшка, не с жалобой. Спросить о чем-то хотят.
Ушаков согласился выйти к ним:
– Ладно, пойдем.
У подъезда его ждали те же самые мужики, которые приходили к нему раньше и надежды которых он так и не смог оправдать.
– О чем желаете спросить?
Крестьяне, отдав поклоны, загалдели:
– Общество знать желает, есть ли царев указ о вольности крестьянам аль нет?
– Сказывают, указ сей дан, да дворяне от народа его упрятали.
– О какой вольности говорите? – спросил Ушаков.
– О той, что государю министр его расписал, который Саранским прозывается. Чтобы крестьяне сами по себе жили, а помещики сами по себе. По справедливости.
– Не знаю я, чтобы о такой вольности указ был. Я слышал о планах государственного преобразования, что государю Сперанским поданы, но чтобы государь апробацию дал сим планам – этого нет. Во всяком случае, я ничего такого не слышал.
– Может, и не слыхал, – согласились с Ушаковым мужики. – Откуда тебе слыхать? В Петербург ты, батюшка, не ездишь, округ нас живешь. А ты, кормилец наш, разузнай, должен быть такой указ. Окромя тебя разузнать некому.
Трудно разрушить то, что в голову вобьют себе мужики. Нелегко расстаются со своими надеждами, если даже эти надежды и взлелеяны на одних только слухах.
– Я, разумеется, наведу нужные справки, – сказал Ушаков, – все, что узнаю, постараюсь сообщить вам, хотя я, повторяю, и не верю в существование такого указа. – Он подождал, не будут ли еще какие вопросы и добавил: – На этом кончим, дети мои. Сейчас пройдите в столовую, угоститесь, чем Бог послал, да домой. Федор, – обратился он к слуге, накорми гостей.
Ушаков оделся и пешком направился в монастырь к игумену. В последнее время его почему-то стало тянуть к этому человеку. Филарет многие вещи понимал не так, как темниковские дворяне. После разговора с ним обычно становилось легче. Умел вносить в душу успокоение старый иеромонах.
Отец Филарет был в добром настроении. Его братия, ездившая на подводах по деревням собирать пожертвования на монастырь, привезла бочонок синей масляной краски, а краска такая была очень нужна: он намеревался расписать ею стены новой кладбищенской церкви.
– А у тебя, видно, опять неприятности, – сказал он Ушакову, пытливо посмотрев ему в лицо. – Усмири душу свою, положись во всем на волю Всевышнего, и тогда наступит для тебя истинный покой.
Таких советов игумен уже давал много раз, Ушаков привык к ним и не обращал на них внимания.
– Ко мне снова приходили из Аксела крестьяне, – сообщил он.
– С жалобой?
– Нет, на этот раз было другое.
Он подробно рассказал о содержании своей беседы с крестьянами. Игумен, выслушав его, покачал головой:
– Указа, на который они надеются, конечно, не будет.
– И вы считаете сие справедливым?
– Мы служим Богу, а Бог творит на земле справедливость.
– А если точнее?
Игумен отошел к окну, стал смотреть во двор, потом, не оборачиваясь, изрек;
– Ценою крови куплены есте, не будьте рабы человекам... Так говорил апостол Павел. Но, – чуть громче добавил игумен, – может быть, еще не наступило то время, когда между людьми должно воцариться истинное равенство.
Ушаков вернулся из монастыря с таким чувством, словно не сказал игумену самого главного, ради чего ходил к нему. Заметив его озабоченность, Федор принялся за внушение, что с некоторых пор стал позволять себе слишком часто:
– Печали крушат, заботы сушат... Плюнь ты, батюшка, на все. Я сказал мужикам, чтобы больше тебя не донимали. Ну их! У них свое, у тебя свое. Сходил бы на охоту, что ли... Люди к Пасхе готовятся, а ты будто похорон ждешь.
Ушаков ничего не сказал ему, пошел к себе, почитал немного, поужинал, а после ужина сразу лег спать... Ну вот, прошел еще один день, потом пройдет еще такой же день, потом... Неужели все так вот и будет тянуться без конца?
Утром он поднялся невыспавшимся. Вспомнив совет Федора, подумал: "А что, может быть, и в самом деле податься куда-нибудь? Охота, конечно, отпадает. Какая может быть охота, когда вешняя вода скоро? В такую пору бить дичь великий грех. Но пройти на гору, к дальним перелескам – это можно, воздух там благодать".
За завтраком он сказал Федору, чтобы тот приготовил ему сапоги погуляет до обеда по лесочкам, а потом к Мокше спустится, посмотрит, пошла ли по ней вода.
– Один пойдешь?
– А с кем же еще? Собаку возьму.
– Одного не пущу. Либо меня бери, либо Митрофана.
Спорить с Федором в таких случаях было бесполезно, и Ушаков согласился: ладно, с Митрофаном так с Митрофаном, пусть только Митрофан ничего не берет с собой из еды, потому что долго на прогулке они не будут, к обеду вернутся.
Федор пошел предупредить Митрофана. Тот на конюшне убирал навоз.
– Пойдешь барина в лес сопроводить, – приказал ему Федор. – Только смотри, чтобы барин простуду не схватил, не то я!..
В этот момент со стороны Темникова донесся колокольный звон. Оборвав свою речь, Федор стал прислушиваться.
– Никак, соборный, – передалась его обеспокоенность Митрофану. Вроде бы службы не должно быть, а звонит. Уж не случилось ли что?
Федор, подумав, решил:
– Вот что, запрягай лошадку, а я пойду барину доложу. Может статься, в Темников поедешь, узнаешь, что там?
Колокольный звон удивил Ушакова не меньше, чем дворовых, однако на предложение послать в Темников одного Митрофана ответил отказом. Он решил ехать туда сам.
В Темникове со звонницами было несколько церквей. Самая большая звонница – соборная. Кроме обрядных служб и праздников, в колокола звонили только в связи с какими-нибудь очень важными событиями. В последний раз колокольный звон устраивался по случаю заключения мира со Швецией. А что могло обрадовать темниковцев сегодня? Мир с Турцией?.. Впрочем, колокола могут звонить не только по радостным событиям.
Митрофан, подергивая за вожжи, время от времени оглядывался с передка на Ушакова, блестя белками глаз. Причина звона в колокола его не занимала. Он радовался хорошей, по-настоящему весенней погоде, яркому солнцу.
– Денек-то, батюшка! А? – говорил он, захлебываясь от радостного возбуждения. – Недельку так простоит, и Мокша непременно тронется. А с ледоходом забьют и щуки. Вот уж ушицы-то поедим!
Митрофан был не только конюхом, но и главным в поместье рыболовом. В его обязанность входило снабжение барского дома свежей речной рыбой.
Половина настила моста оказалась очищенной от снега: мост готовили к разбору на время весеннего паводка. С трудом проехав по нему, Митрофан погнал лошадь рысью и, въехав в город, по приказу Ушакова остановился у деревянной церквушки, звонница которой была так низка, что звонарь звонил в колокол прямо с земли, дергая длинной веревкой.
– По ком звон? – крикнул Ушаков звонарю.
Тот перестал дергать веревку, ответил:
– Не ведаю, батюшка, сказали звонить, я и звоню. – И, поплевав на руки, он снова принялся за свое дело.
Уже в самом городе Ушакову неожиданно повстречался городничий – тоже куда-то ехал на санках.
– Ах, Федор Федорович, батюшка наш!.. – обрадовался встрече городничий. – Радость-то какая! Слышали небось?
Ушаков сказал, что ничего не слышал.
– Неужто не слышали? – удивился городничий. – Антихристу по шапке дали.
– Какому антихристу?
– Да Сперанскому! Тому, что Россию хотел загубить. Проекты его государь в мусорный ящик кинул, а самого из Петербурга вон. Вразумил Господь государя нашего!
Так вот, оказывается, где причина звона! Нашли чему радоваться. Смешно даже...
Оставив Ушакова, городничий поехал дальше, останавливая знакомых дворян и делясь с ними радостью.
Ушаков приказал кучеру поворачивать домой.
Обратной дорогой ехали молча. Митрофан уже более не улыбался.
– Ну что там, мир с турками? – спросил Федор, встретив их у подъезда.
– Да нет, совсем другое, – мрачно ответил Ушаков и пошел к себе.
Известие о заключении мира с Турцией пришло два месяца спустя. На это событие Темников тоже отозвался колокольным звоном, но не таким громким, как при изгнании из Петербурга незадачливого реформатора Сперанского.
14
Оставленный в Портсмуте, Арапов смог вернуться в Россию только весной 1812 года. После выхода из госпиталя, а лежать там пришлось без малого четыре месяца, он надеялся выехать сразу же, но оказалось, что это не так просто. Россия и Англия продолжали находиться в состоянии войны, открытые сообщения между ними были прерваны. Правда, той и иной сторонами поддерживались и даже поощрялись нелегальные торговые связи. Несмотря на блокаду, английские и русские купцы втихомолку обменивались товарами. Но попробуй в положении Арапова, лишенного денег, найти таких смельчаков мало найти, еще уговорить их взять с собой на корабль!
Начальник порта, с которым имел договоренность Сенявин, узнав, что в кармане русского офицера нет ни гроша, отказался помочь. Спасибо адмиралу Коттону. Когда Арапов, оказавшись на мели, добился встречи с ним, он не только устроил его на английское судно, отправлявшееся в Архангельск за русским лесом, но и дал денег на дорогу. Он оказался очень добрым, этот адмирал. "Мне еще не могут простить Лиссабонской конвенции, – сказал он Арапову на прощание, – но я остаюсь в прежнем своем мнении: наши страны связывает давняя дружба, мы должны стать прежними друзьями и союзниками. Во всяком случае, с Наполеоном вам не по пути".
Плавание до Архангельска тянулось три недели. Отсюда до Петербурга Арапов добирался уже на лошадях. Длительная болезнь и трудная дорога истощили его настолько, что, когда он явился в морские министерство доложить о себе, от него шарахались как от чумного. К счастью, в приемной дежурил знакомый офицер, который узнал его.
– Вы ищете адмирала Сенявина? Но мы сами о нем ничего не знаем.
– А адмирал Чичагов, его можно видеть?
– Чичагов выехал с государем в Вильно.
– Тогда, может быть, к Мордвинову пройти?
– И Мордвинова нет. Министром теперь маркиз де Траверсе.
– Что ж, доложите маркизу.
– Маркиз тоже в отъезде.
Арапов был озадачен.
– Как же мне теперь быть?
– Вы ездили к Сенявину с государевым письмом? – в свою очередь спросил офицер.
– Да.
– Тогда, может быть, вам лучше обратиться в императорскую канцелярию?
В императорской канцелярии Арапову повезло больше, чем в министерстве. Ему устроили прием к самому адмиралу Шишкову, исполнявшему должность государственного секретаря, которая еще недавно принадлежала Сперанскому, так бесславно кончившему свою карьеру. Шишков сразу узнал Арапова, вспомнил, как однажды вместе обедали у его дяди.