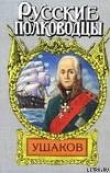Текст книги "Адмирал Ушаков"
Автор книги: Михаил Петров
Жанр:
История
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 26 страниц)
Да, это были его места. Почти полвека, как уехал отсюда, а вот не забыл... Лицо матери не забывается до самой смерти, а ведь родная земля это то же, что и мать! Здесь прошло его детство. Сколько раз вспоминал он детские забавы, рыбалки на Мокше! А охоту на медведя? Ему еще и четырнадцати не было, когда староста первый раз взял его в лес. На медведей ходили с рогатинами да с собаками. За одно только лето трех взяли... Смелый был охотник староста Никанор! Бывало, поднимется медведь, а он переложит рогатину из одной руки в другую, вытащит из-за голенища нож и спокойно идет навстречу зверю. Страшно становилось, когда дело до схватки доходило. Повалив под себя зверя, сам Никанор обычно отделывался царапинами. Но однажды ему не повезло, нашелся такой медведь, который сильно помял его. После этого случая он больше уже не охотился, прожил года два и умер. Ушаков узнал о его смерти уже будучи в Петербурге, когда после окончания Морского корпуса готовился в свое первое плавание. Отец писал, что хоронили Никанора всем миром, а сына его Федора, оставшегося сиротой, взяли в лакейство. Уже в зрелых летах, живя в Севастополе, Ушаков затребовал Федора к себе, с тех пор и живет у него камердинером...
Ушаков тронул локтем вздыхавшего рядом Федора:
– Чуешь, как хорошо?
Федор, занятый собственными мыслями, сердито пробурчал:
– Что ж я... чурбан, что ли?
Лес неожиданно кончился, и глазам открылось залитое небесным светом необъятное пространство с голубовато-серой неровной водной полосой, лежавшей меж многочисленных стожков сена. То была Мокша с ее открытыми пойменными лугами. За Мокшей у подножья заросшего лесом косогора показалась Алексеевка, правее от Алексеевки засверкали на солнце позолоты Санаксарского монастыря. Потом стали видны купола церквей и крыши домов самого Темникова, приютившегося по эту сторону реки сразу за пологой горой.
– Куда прикажете, кормилец мой? – обратился ямщик к Ушакову.
– На гостиный двор.
2
О своем намерении поселиться в Алексеевке Ушаков писал сельскому старосте, которого просил прибрать к его приезду барский дом и сделать все прочее, что полагается в таких случаях. Он не был уверен в том, что тот успел выполнить его поручение, поэтому счел благоразумным остановиться пока в Темникове. В случае если обнаружится, что дом еще не готов, можно пожить в гостинице. Федор уверял, что это избавит его от лишних переживаний.
Когда выгрузились в гостином дворе, Федор сказал ему так:
– Ты, батюшка, в хлопотные дела не вмешивайся. Сам все улажу. Иди-ка лучше в комнату да приляг до обеда.
– Пожалуй, я так и сделаю, – согласился Ушаков.
Минувшей ночью он почти не спал, к тому же поволновался перед Темниковом, сон был ему нужен. Он прошел в отведенную ему комнату, разделся и, довольный от мысли, что трудная дорога наконец-то осталась позади и он почти дома, с наслаждением вытянулся на широкой деревянной кровати. Но то ли от состояния полной раскованности, то ли от воображения предстоявшей встречи со своими алексеевскими крестьянами, о чем он старался не думать, но все-таки думалось, только заснуть ему не удалось. Он долго ворочался с боку на бок, а потом, обессиленный борьбой с бодрствованием, скинул с себя одеяло и сел, свесив ноги на пол.
– Не лежится, батюшка?
Это был Федор. Он стоял у приоткрытой двери, бережно держа перед собой адмиральский парадный мундир, который всю дорогу покоился в одном из сундуков.
– Ты чего?
– Доложить пришел, – сказал Федор, направляясь к кровати. – Человека в Алексеевку послал. Наказал, чтобы староста не кучера посылал, а сам приехал.
– А это зачем? – кивком головы показал Ушаков на мундир.
– Надеть придется, – невозмутимо отвечал Федор. – Начальство прибыло. И самый главный тутошний дворянин, и городничий тоже... Тебя, батюшка, видеть желают, у дома ждут. Я им сказал, что ты, батюшка, почивать изволишь, они и уселись ждать, когда почивать кончишь. А ты, видно, совсем не почивал.
Ушаков оделся с помощью Федора и вышел на крыльцо. У ворот на широкой скамье под тенью старой, уже трухлявой у комля ветлы сидели три вельможных господина и о чем-то беседовали с хозяином гостиного двора, стоявшим против них со снятым картузом и непередаваемым выражением угодливости. Один из сидевших, в чиновничьем мундире и лентой через плечо, был так толст, что широкий живот его свисал до самых согнутых колен. Двое других были вида поджарого, причем один отличался от другого тем, что имел на себе шляпу с плюмажем. Тот, что с плюмажем, первым заметил Ушакова, молодецки поднялся и с достоинством зашагал ему навстречу. Другие последовали его примеру, за исключением хозяина двора, который, решив, видимо, что господам теперь не до него, ушел за ворота.
– С благополучным прибытием, Федор Федорович, – галантно поклонился Ушакову обладатель шляпы с плюмажем. – Позвольте представиться: предводитель местного дворянства Александр Иванович Никифоров.
Он снова поклонился и представил своих товарищей. Тот, что с большим животом, оказался городничим Семеновым, третьим был городовой секретарь Попов.
Предводитель дворянства выглядел моложаво, на его продолговатом приятном лице не было ни одной морщины, но Ушаков заметил выбившийся из-под парика клок седых волос, а седина, как известно, утаивать годы не умеет.
– Хорошо ли доехали, Федор Федорович? – не умолкал предводитель дворянства. – А мы вас давно ждем. Как прослышали про вашу отставку, так и сказали себе: его высокопревосходительству некуда больше, как к нам... По-нашему и вышло.
Ушакову оставалось только удивляться. О своем увольнении в Темников он никому не писал, и было странно слышать, что здесь об отставке давно уже все знали.
– Вас удивляет, каким образом стало нам о сем известно? Слух, Федор Федорович, слух! Никаких преград и запретов не признает шельма!..
Никифоров улыбался чуть ли не до ушей. Было похоже, что он и в самом деле обрадовался встрече с ним, отставным адмиралом.
– Мы все рады за вас, нашего знаменитого земляка, – нашел наконец возможным вступить в разговор городничий (голос у него оказался басовитым, с едва заметным хрипом). – У нас, ваше высокоблагородие, найдете настоящий, истинный покой. Привыкнете, скажу вам. Ежели знать изволите, мы все тут тоже отставные. Александр Иванович – премьер-майор, секретарь наш – отставной поручик, хотя и пороху не нюхал. А я, с вашего позволения, ротмистр, – закончил городничий таким тоном, словно желал утешить Ушакова, чтобы он не очень-то расстраивался, променяв Петербург на эту глухомань.
– Да... – подхватил слова городничего Никифоров, – когда-то и мы что-то значили!.. – И ударился в воспоминания. Оказалось, что он, как и Ушаков, участвовал при Потемкине в русско-турецкой войне, служил под начальством самого Суворова, был с ним в деле при Измаиле. – Скажу вам, друзья мои, – с воодушевлением рассказывал он, – громкая то была война. Показали мы тогда туркам! Помню, как Измаил штурмовали. Турки из всех орудий палят, с ятаганами на нас, себя не жалея, прут, а мы знаем свое вперед!.. Много крови пролито было... А ведь я вас, Федор Федорович, с той самой войны знаю, – сделал вдруг крутой поворот Никифоров. – Слава за вами такая же, как и за Суворовым, гремела. Когда узнали о вашей победе при Калиакрии, поверите ли, в корпусе нашем великий пир закатили. Много за ваше здоровье пили.
Ушакову становилось неловко, когда в его присутствии с таким восторгом говорили о нем, поэтому постарался изменить разговор, стал расспрашивать о Темникове – много ли в нем жителей, какими промыслами они занимаются?.. Городничий подтолкнул вперед секретаря: у этого в голове каждая циферка держится, он обо всем и расскажет. Секретарь был счастлив сделать приятное столь знаменитому гостю. Его высокопревосходительство желает знать все о Темникове? Пожалуйста, он готов представить его высокопревосходительству полный доклад, какой недавно подготовил Тамбовскому губернаторству и за который его удостоили высокой похвалы. В городе проживает обоего пола более пяти тысяч человек. Ежели судить по занятости работающего населения, то четвертую ее часть составляют купцы, а остальную – мещане. Казенной промышленности в Темникове нет, зато купеческая здравствует и процветает. Есть кузницы, чугуноплавильни, кожевенные заводы, солодовни... Кроме всего этого, есть лавки, винный погреб, соляные магазины, мясные ряды, богадельни, питейные дома, трактиры и харчевни. Славу Темникова составляют его духовные учреждения. В городе соборная церковь о двух этажах, церковь Казанская, церковь Троицы, церковь Ивана Богослова, церковь Николая Чудотворца, церковь Успения...
Никифоров, утомленный рассказом секретаря, стал нетерпеливо посматривать на карманные часы.
– Спешите куда-нибудь? – спросил его Ушаков.
– Купец Меднов, что ресторацией владеет, подойти должен, – ответил предводитель дворянства. – Послали шампанское на лед поставить, а его все нет.
– Придет, – успокоил его городничий. – Меднов купец аккуратный.
Владелец ресторации появился минуты через две. Он был уже в годах, сед, но на ногах держался крепко, телосложение имел богатырское. Когда Ушаков подал ему руку, не утратившие свежую синеву глаза его увлажнились, и он заговорил взволнованно:
– А я вас, кормилец наш, помню. Мальчишками вместе на Мокше купались. И батюшку вашего Федора Игнатьевича помню. Уважаемый был человек, царство ему небесное. А дядюшку вашего и подавно помню.
– А что, не пообедать ли нам? – прервав его, сказал Никифоров. Пожалуй, самое время.
– Пожалуйте, господа, пожалуйте!.. – закланялся Меднов, приглашая.
– Просим, Федор Федорович, – обратился Никифоров к Ушакову. – По случаю приезда вашего и знакомства. Не обессудьте, так уж у нас заведено.
Странно, но Ушаков не мог воспротивиться воле этих людей, которые в общем-то были ему не очень приятны своей привязчивостью.
– Если вам так угодно, господа, я готов.
Другого он не мог сказать. Своим отказом от обеда он мог противопоставить себя отцам города, возбудить к себе недружелюбие. А ведь с этими людьми ему предстояло жить!
По пути в ресторацию Меднов, пристроившийся к Ушакову с правой стороны, рассказывал:
– Я ведь дядюшку вашего покойного Ивана Игнатьевича знавал еще до того, как он в монастырь ушел. Справедливейший был человек. За справедливость свою и в темницу попал. Ну да государыня Екатерина Великая не отказала ему в милости, вернула ему волю. Помню, как его из Соловков встречали. Прямо-таки праздник получился...
Меднов надеялся втянуть Ушакова в беседу, но у того не было никакого желания поддерживать разговор. Пока шли, он едва ли произнес два-три слова.
В ресторации Меднов ввел гостей в отдельную комнату, закрытую для прочих посетителей, где был уже накрыт длинный стол на шесть персон. Один прибор оказался лишним.
– Для капитана-исправника заказывали, – пояснил городничий, обращаясь к Ушакову, – а он, оказывается, еще утром в Бабаево уехал.
– Я стряпчего предупредил: как вернется его благородие, чтобы сразу сюда шел, – сказал хозяин ресторации.
– Ладно, ждать его не будем.
Первый тост провозгласил Никифоров:
– За нашего дорогого гостя, господа, а теперь уже за полноправного члена нашей уездной дворянской семьи, за славного российского адмирала Федора Федоровича!
После выпитого вина разговор за столом оживился. К Ушакову полезли со всех сторон с вопросами. Предводитель дворянства снова вспомнил о русско-турецкой войне, о славных победах Черноморского флота, коим командовал Ушаков, поинтересовался, кто сейчас над сим флотом начальствует.
– Адмирал маркиз де Траверсе, – ответил Ушаков.
– Вот как! – не то удивился, не то обрадовался Никифоров. – Траверсе тоже связан с краем нашим: у него в соседнем Краснослободском уезде земли с пятьюстами душ крестьян.
– Маркиз прибыл к нам на службу из Франции, – усомнился Ушаков в правдоподобности этого сообщения.
– Ну и что из того? Покойный государь Павел I пожаловал ему в том уезде – не знаю за какие заслуги – Колопино и Синдрово.
– И он там бывает?
– В Колопино раз приезжал. Рассказывают, увидел там какой-то непорядок, собственноручно отстегал виновных и уехал. После этого не бывал.
Городничему не терпелось свернуть разговор на политику. Он каждую субботу читал газеты и потому имел к известному адмиралу много вопросов. А именно: какие выгоды получила Россия от мира с Бонапартом; долго ли продлится война с турками; где сейчас Кутузов и почему государь не ставит его главным над Дунайской армией? По всему, городничий принимал Ушакова за человека, близкого к царскому кругу и потому знающего все. Как же далек был он от истины! Информацию о важнейших событиях Ушаков черпал, как и городничий, из газет, если не считать случайных бесед о политике с высокопоставленными чинами в Петербурге. Однако ему все же удалось в какой-то степени удовлетворить любопытство городничего.
– А как сейчас дела во флоте? – поинтересовался Никифоров. – Газеты писали, что к Ионическим островам отправлена новая эскадра под водительством адмирала Сенявина, а что она сейчас делает, не пишут.
– Сенявин дал турецкому флоту сражение у входа в Дарданеллы и одержал внушительную победу. Это все, что мне о нем известно, – сказал Ушаков.
Обед продолжался. Поскольку был пост, на стол, кроме овощей и фруктов, подавались только рыбные блюда – заливной судак, щука под маринадом, стерляжья уха, жареный линь.
– Все это наше, из Мокши выловленное, – с гордостью говорил хозяин, угощая гостей. – Кушайте на здоровье. Линя попробуйте, батюшка, придвинул он Ушакову мясистую рыбу с бронзовой, прожаренной корочкой, страсть как хороша рыбка! Наших озер. Таких линей в Петербурге разве что к царскому столу подают.
– Очень вкусно, – подтвердил Ушаков, попробовав кусочек рыбы. Ему надоели расспросы о флоте, о политике, и он был рад случаю завязать с Медновым разговор о простых житейских вещах, связанных с краем, где ему предстояло жить. Меднов, почувствовав к себе его расположение, воодушевился:
– Вы, кормилец наш, ежели желаете знать все о нашем крае, меня спрашивайте – никого больше, меня только. Лучше меня, батюшка, края нашего никто не знает. Я весь уезд по делам своим купеческим вдоль и поперек изъездил, нет такого уголочка, в котором бы не был. Все знаю. А край наш, доложу я вам, привольный. Лучшего края не найти.
Его не перебивали. Он разохотился до того, что отодвинул от себя еду – все говорил, говорил. Много добрых, восторженных слов сказал. Всего здесь, в крае Примокшанском, хватает. Лесов, озер – не счесть. Одна Мокша чего стоит! Идешь тихим вечером по берегу, а в воде рыба плещется, купола церквей отражаются, ветлы раскидистые, дома крестьянские... А народ здесь всякий живет – русские, мордва, татары. Больше мордвы и русских. Их селения будто нарочно кем перемешаны: село русское – село мордовское, село русское – село мордовское...
Добрая сторона! Деревеньки малые, зато частые. Худо только, земля с песочком, плохо родит, хлеба своего едва до Пасхи хватает. Трудно крестьянину прокормиться хлебопашеством одним. Да темниковский мужик досуж. Чего не может взять от пашни, дают ему лес, озера да Мокша. Не найдешь деревушки, где бы промыслом не занимались. Все тут делают: телеги, сани, дуги, бочки, лопаты, ложки, кули рогожные, мочало... А какие лапти плетут! Во всей России таких не сыщешь. Загляденье! В зиму наплетут целые возы и везут на ярмарки – даже в Арзамасе и Саранске ими торгуют. Прибыток от промыслов, правда, невелик, а все ж мужику легче. Сыт не сыт, а без хлебова спать на ночь не ложится.
В середине обеда появился капитан-исправник. Он кивнул Ушакову своей большой кудлатой головой, подтверждая этим, что доволен знакомству с ним, после чего потребовал себе водки.
– Почему поздно приехал? – спросил исправника Никифоров.
– Дела были, – отвечал тот, принимаясь за уху. – Недоимщики задержали. Беда с ними. Да и помещики тоже хороши! Распустили крестьян своих.
– А много в уезде имений? – полюбопытствовал Ушаков.
– Имений-то много, да что толку! Почти все они заложены и перезаложены. Многие управляются старостами, сами дворяне живут в городах.
– Это верно, – подтвердил Никифоров, – не хотят дворяне в деревнях своих жить. В города их тянет.
Когда обед подошел к концу, отцы города изъявили желание проводить Ушакова до гостиницы.
У гостиного двора стояла рессорная тележка с впряженной в нее парой тяжелых крестьянских лошадей. На скамье у ворот сидели, беседуя, Федор и чернобородый мужик в высоком картузе, какие обычно носили богатые крестьяне. Увидев приближавшихся господ, чернобородый вскочил, рванулся им навстречу и низко склонился перед Ушаковым, выделявшимся от прочих своим адмиральским одеянием:
– Здравия желаю, батюшка!
Федор, подойдя, доложил:
– Это Филипп, староста наш. За нами приехал.
– Все ли сделано, как я просил? – обратился Ушаков к старосте.
– Все, батюшка, как есть, все. Пожалуйте, батюшка!..
– Что ж, господа, поеду к себе, – сказал Ушаков своим спутникам. Спасибо за угощение.
– С Богом, ваше высокопревосходительство! – отвечали провожавшие. Не забывайте нас, наведывайте.
Попрощавшись с ними, Ушаков уселся на тележку, и староста направил лошадей на дорогу, что вела к Мокше. Федор поехал на крестьянской телеге, куда были сложены сундуки адмирала.
Берег Мокши подходил к самому Темникову. В том месте, где стоял из бревен и досок мост, река была неширокой, с песчаными отмелями.
С моста были хорошо видны как Алексеевка, прижавшаяся к лесной опушке, так и островок строений Санаксарской обители. Не узнать стало монастыря. Когда Ушаков бывал здесь в последний раз, над берегом теснились деревянные строения, а сейчас все из камня, ограда тоже каменная, на куполах церквей кресты позолоченные... А вот Алексеевка совсем не изменилась. Стоит, как стояла, ничего нового в ней не прибавилось. Избы крестьянские и сам барский дом, выстроенный фасадом к Мокше, оставались такими же, какими запомнились Ушакову с того времени, когда подростком уезжал отсюда в Морской корпус на учебу.
Ушаковы происходили не из знатного рода. Жили в Романовском уезде, что в Ярославской провинции. Поместье крохотное – крепостных за ними было всего-то двадцать душ.
Однажды дед Игнат прослышал, что далеко за Рязанщиной, там, где течет река Мокша, есть свободные земли. Дед решил попытать счастья и двинулся в трудную дорогу, взяв с собой сына Ивана. Так он оказался в Темникове.
Мокша деду понравилась. Он не стал возвращаться обратно, а позвал сюда и сына Федора, отца будущего адмирала. Федор имел чин коллежского регистратора и довольно быстро нашел себе службу в Темникове. Он оставался на службе до тех пор, пока не стал владельцем Алексеевки. Что же касается брата его Ивана, то тот после смерти Игната ушел в Санаксарскую обитель, где вместе с монашеским саном принял имя Федора и вскоре стал ее настоятелем.
Много в Мокше воды утекло с тех пор. Уже нет в живых ни деда, ни его сыновей. Никого не осталось. Только дом от них остался да деревенька Алексеевка, перешедшая в наследство ему, Федору Федоровичу Ушакову внуку, сыну и племяннику тех, кто пустил здесь корни ушаковского рода.
– В доме живет кто-нибудь? – спросил Ушаков старосту.
– Кроме дворовых, никого...
У барского дома Ушакова встречала большая толпа. Вся Алексеевка собралась – мужики, бабы, ребятишки. Чуть в сторонке, выделяясь от прочих одеждами, стояли два монаха. При появлении барина мужики, обнажив головы, опустились на колени. Монахи поднесли барину хлеб-соль.
– Игумен наш, – оказали они, – шлет тебе, батюшка, свое благословение и будет рад видеть в своей обители.
Ушаков поблагодарил их за хлеб-соль и пообещал быть в монастыре, как только позволит время. Потом обратился к своим крестьянам:
– Здравствуйте, дети мои!
– Здравия желаем, отец наш!..
– Что ж вы на колени-то?.. – сказал Ушаков. – Я не царь какой.
Мужики поднялись и, смелея, стали обступать его со всех сторон.
– Тише вы, – закричал на них староста, – барин устал, барину с дороги отдохнуть надобно. – И к Ушакову: – Проходите в дом, батюшка. С ними успеется.
Ушаков и в самом деле чувствовал себя усталым, ему было сейчас не до разговоров.
– Потом, дети мои, потом. Мы еще успеем обо всем поговорить, – сказал он и в сопровождении старосты последовал в дом.
3
В Санаксарский монастырь Ушаков пошел ранним утром, едва взошло солнце. Федор был немало удивлен, когда, собираясь в путь, Ушаков потребовал одеть его в адмиральский мундир и предупредил, что пойдет в монастырь один, без сопровождения.
– А я как же? – опросил слуга.
– Дома побудешь.
Ушаков шагал по дороге с ощущением неосознанной радости, словно там, в монастыре, его ожидало что-то необыкновенное, торжественно-праздничное. В монастыре была могила дяди Ивана. Он шел поклониться его праху.
Он любил дядю. Помнил, как тот говаривал:
– Справедливость – суть человеческого бытия, все мы должны содержать оную в сердце своем.
А благословляя его, Ушакова, в Морской корпус, сказал полушутя-полусерьезно:
– Езжай и не оглядывайся, если вздумаешь вернуться, то возвращайся лучше адмиралом.
Ушаков исполнил его завещание, вернулся адмиралом. Только дядя в адмиральском мундире его уже не увидит...
Дорога в монастырь шла лесом. Слева бор стоял сплошной стеной, на правой же стороне он сужался местами до узкой полосы, начинал просвечивать. В просветах угадывались лежавшие сразу под кручей пойменные луга, залитые молочным светом.
Ушаков шагал медленно, наслаждаясь смолистым лесным духом, любуясь стройными стволами огромных сосен. Лес был настолько высок и плотен, что солнечные лучи, застряв в зеленой хвое сосновых шапок, не доходили до земли, подернутой утренней сыростью. И все же, несмотря на то что солнце не могло пробиться к дороге, к замшелым подножьям сосен-великанов и робким кустарникам, жавшимся на обочинах, в лесу не было сумрака, он весь светился тем утренним светом, который после восхода солнца еще не успевает стать резким, "огрубиться", – воистину святым светом, тем светом, который пробуждает в лесных птицах желание петь. И они сейчас пели. Слушая их голоса, глядя на красоту, его окружавшую, Ушаков чувствовал, как сердце его таяло от тихой радости. Боже, как же хорошо в лесу!
На какое-то мгновение в сознании мелькнул Петербург, мелькнула дорога от его дома до места службы, которую обычно тоже проходил пешком, но утяжеленный грузом обид... Стоило ли переживать? Махнул бы давно на все рукой да сюда!.. Здесь ждать обид, несправедливостей не от кого. Лес хранит в себе одну доброту. Здесь настоящий рай.
Дорога повернула вправо, и перед глазами неожиданно показалась желтая стена часовни. Монастырь! Да тут, оказывается, совсем рядом!..
Когда Ушаков еще подростком приходил сюда, кирпичной часовни не было. Тогда еще многого не было из того, что представилось его взору, едва дорога вышла из леса. Строения были деревянными, а сейчас всюду кирпич да камень. В центре – красивый собор с высокой колокольней, четыре угловых башни, две однокупольные церкви, дома с монастырскими кельями... Это был совершенно новый монастырь, непохожий на прежний.
"А ведь все это он, он!.." – с восхищением подумал Ушаков о покойном дяде. Дядя его, Иван Ушаков, став в 1768 году настоятелем монастыря, сразу же принялся за стройку. Деньги собирали со всей округи – кто сколько пожертвует. Тысячу рублей пожертвовала монастырю императрица Екатерина II. Кирпич, камень, известь возили на лошадях. Стены класть приглашали местных мастеровых мужиков. Так год от году и строился монастырь...
В соборе шла служба. Едва Ушаков появился в народе, как прихожане стали шушукаться, поглядывая в его сторону. Появление человека в военном мундире, орденах и лентах было всем дивно. Много знатных особ приходило сюда, а чтобы явился полный адмирал со столькими орденами – такого еще не бывало.
Когда служба кончилась, к нему подошли те самые монахи, которые встречали его в Алексеевке. Они сказали, что отец Филарет будет ждать его в своей келье к завтраку, а до завтрака, если Ушакову будет угодно, ему могут показать монастырские храмы и жилища.
Прихожане расходились медленно, распадаясь на мелкие группки, заводя тихие разговоры. Трудно было уловить, о чем они говорили. Может, о том, как сегодня прошла служба и почему на ней не было самого иеромонаха. Или об урожае, который в этом году опять не удался из-за весенних суховеев. А может, о нем, об Ушакове, так поразившем всех своим появлением?
Монахи, взявшиеся сопровождать Ушакова, указывая руками в разные стороны, немногословно объясняли:
– Это – церковь больничная, а та, что у леса, – кладбищенская... Это – мыльня. Тут скарб хранится. Тут квас варят. А тут монахи живут...
– Мне бы на могилу дяди, отца Федора, взглянуть, – сказал им Ушаков.
– Дойдем и до могилы.
Наконец его привели к стене монастырского собора, что с северной стороны.
– Здесь, – показали они на низенькую чугунную ограду, – здесь покоится прах его, отца Федора.
За оградой лежала массивная каменная плита с надписью, а над ней возвышался небольшой чугунный крест. Да, это была могила дяди Ивана, скончавшегося под именем Федора. Ушаков снял шляпу и низко склонился над плитой, стараясь разобрать надпись. Монахи стали креститься.
– Святой человек был отец Федор, – заговорили они, кончив креститься и почтительно отступив от ограды. – Не было среди братии более справедливого, чем он. За справедливость на муки не побоялся пойти.
Ушаков знал, какие муки, принятые на себя дядей, имели они в виду. В 1774 году, в том самом году, когда по России полыхало восстание под водительством Пугачева, крестьяне Темниковской округи, доведенные до отчаяния поборами и жестокостью темниковского воеводы, пришли к игумену искать справедливости и защиты. Много горькой правды сказано было ими.
– Защити нас, отец, – говорили они, – некуда нам больше идти, не к кому больше обращаться.
Отец Федор выслушал их и поехал к воеводе поговорить начистоту. Однако разговора между ними настоящего не получилось, а получился скандал. Отец Федор назвал воеводу грабителем и кровопийцей, тот его – бунтовщиком, пугачевцем. С тем они и расстались. А потом к игумену явились стражники. Над ним учинили суд, обвинив его в сочувствии пугачевцам, лишили игуменского сана, заковали в кандалы и увезли на студеные Соловецкие острова. Девять лет сидел он в темнице Соловецкого монастыря, девять лет ждал решения о пересмотре его дела, возбужденного по наветам злобствующего на него темниковского воеводы. Только в 1783 году Екатерина II соизволила наконец "даровать" ему свободу. Он вернулся в свой монастырь, но вернулся уж с подорванным здоровьем, и через три года его не стало.
О смерти дяди Ушаков узнал, живя в Севастополе, имея чин капитана бригадирского ранга. Никогда до этого не плакал, не плакал даже после известия о кончине родителя, а тут не выдержал, залился слезами. Целый день не показывался перед матросами, отдавшись власти постигшего его горя.
Долго стоял Ушаков у чугунной ограды, вспоминая любимого человека. Но вот он выпрямился, посмотрел на своих спутников – глаза его оставались сухими, – сказал:
– Пойдемте.
– Может быть, еще в кельи заглянем?
После священной для него могилы продолжать осмотр монастыря уже не хотелось, но он согласился: торопиться было некуда...
Его ввели в узкую длинную комнату с единственным окном, выходившим во двор, и четырьмя аккуратно заправленными койками. В келье оказался всего лишь один человек, смотревший в окно. Когда за вошедшими захлопнулась дверь, он повернул к ним свое хмурое лицо, скривил в презрительной усмешке рот и, ничего не сказав, снова обратился к окну, продолжая прерванное занятие.
– Кто это? – спросил Ушаков своих спутников, когда они вышли из кельи.
– Помещик Веденяпин.
– Помещик?..
– Постригли в монашество на пятилетнее покаяние за убийство крепостных своих.
– Он убил человека?
– Двоих: одного батогом, а другого плетью...
Ушаков отказался продолжать осмотр монастыря и попросил отвести его к настоятелю.
Игумен жил в отдельном кирпичном домике недалеко от собора. Сегодня ему недужилось, но при появлении Ушакова он поднялся, пошел навстречу, перекрестил, благословляя. Сморщенное лицо его было желто, борода и волосы отливали древней сединой. А ведь был он лет на шесть-семь моложе Ушакова.
– Присаживайтесь, Федор Федорович, сейчас чаевничать будем. – Он сделал монахам знак, чтобы их оставили одних, и, когда те вышли, спросил: – Понравилось у нас?
Ушаков отвечал, что он восхищен собором и всем ансамблем строений такое встречается не часто.
– Это все он, дядюшка ваш, отец Федор, царство ему небесное. Его главная заслуга. И мне довелось кое-что сделать, – добавил отец Филарет не ради хвастовства, а для того только, чтобы гость знал, с кем имеет разговор. – Раньше я здесь живописцем и зодчим служил. В миру звали меня Былининым. Былинин Филипп Иванович. В монастырь пришел в тот год, когда отца Федора в Соловки сослали. Он был моим первым наставником. А теперь вот самому приходится православных на путь истинный наставлять.
Игумен тяжело вздохнул, вспомнив, видимо, как нелегко приходится нести ему Божескую службу.
– Дядя верил в церковь как в силу, способную утвердить в разуме людей справедливость, – сказал Ушаков.
Игумен подтвердил:
– Это правда. Но примечаю я, – добавил он, – справедливость сию даже среди Божьих служителей утвердить трудно. – Филарет налил из самовара чаю, одну чашку придвинул гостю и продолжал: – Однажды завязался у нас спор с Саровским монастырем из-за озера Глушицы. По справедливости, озеро сие нам должно принадлежать, но Саров стал оспаривать наши права. Дело дошло до консистории. Назначили следственную комиссию. Два года тянула дело сия комиссия. Мы представили ей веские доказательства своего права. И все же решение принято было в пользу Саровского монастыря, потому как у того монастыря более сильные покровители оказались.
Отец Филарет попил немного чаю и вернулся к прерванному разговору:
– Сарову ежегодно многие тысячи рублей жертвуют, даже из Москвы и Петербурга присылают. Недавно граф Разумовский четыре тысячи рублей им пожаловал. Граф Разумовский! А у нас что? Нету у нас таких покровителей. А в деньгах нужда постоянная.
Ушаков почувствовал, как покраснел. В словах игумена послышался скрытый укор. Игумен как бы внушал ему: ты имеешь больше причин быть привязанным к Санаксарскому монастырю, чем Разумовский к Сарову, и денег у тебя хватает, но за все время не получили от тебя даже полушки...
Игумен придвинул к чаю просвирки, но Ушакову уже не хотелось ни есть, ни пить. Ему ничего больше не хотелось.