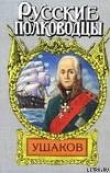Текст книги "Адмирал Ушаков"
Автор книги: Михаил Петров
Жанр:
История
сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 26 страниц)
– Это ужасно! – слышались возмущенные голоса. – Что подумают о нас в Европе? Пойти на такое унижение!
– Неслыханные уступки Бонапарту только возвысят его, после таких уступок он может потребовать от нас еще большего.
Сторонники договора, а нашлись и такие, возражали:
– Но что нам делать с нынешними союзниками! Англичане только о себе, о собственных выгодах думают. Лучше дружба с Наполеоном, чем связь с такими союзниками.
Сенявин не поднимался из-за стола, ожидая, пока все не покинут помещение. У него был страдальческий вид. Необходимость покинуть острова, выбросить за борт плоды побед, несомненно, вызывала в нем не меньше горечи, чем в других военачальниках. Но положение командующего обязывало его молчать.
Когда все наконец ушли, Сенявин спросил задержавшегося Арапова:
– Ужин готов?
– Готов, Дмитрий Николаевич, – ответил Арапов. – И ужин, и постель тоже...
– Выйдем на свежий воздух, подышим немного.
Вечер был безветренный, приятный. В городе обильно светились огни. По улицам под зажженными фонарями прогуливался народ.
Русская речь смешивалась с греческой. Где-то играла флейта, слышался девичий смех. На скамейке под раскидистым деревом, что против главной русской квартиры, какой-то матрос обнимал худенькую гречанку. Девушка что-то объясняла ему на своем языке, он, не зная греческого, все же каким-то образом понимал ее, что подтверждалось его поминутными восклицаниями:
– Ага! Все так! Точно.
Глядя на эту уединившуюся и, казалось, счастливую в своем уединении пару, Арапов вспомнил о родной русской стороне и впервые с сомнением подумал о том, правильно ли поступил, напросившись в экспедицию, которая оказалась совершенно бесплодной? Не лучше ли было остаться в России, заняться розыском Марии? А впрочем, стоит ли ее искать, когда она уже определила свою судьбу, уйдя в монастырь? Пожалуй, в его положении благоразумнее было вернуться в родную Березовку и править имением, которое находится сейчас на попечении тетушки Аграфены, после смерти отца оставшейся единственным близким ему человеком.
Арапов не помнил своей матери: она умерла, когда ему не было еще и четырех лет. Мать мальчику заменила добрая тетушка, сестра отца, не имевшая своей семьи. Она баловала своего Сашеньку, как называла племянника, ни в чем ему не отказывала. Однажды, гоняясь по деревне с крестьянскими ребятишками, юный Арапов услышал мелодичные звуки балалайки и невольно остановился, заслушавшись. Играл рыжий парень, что сидел на бревнах против окон приземистого крестьянского жилища. Зачаровал тот парень своей игрой, и Саше тоже захотелось стать обладателем такого чудесного инструмента. Тетя Аграфена, которой он рассказал о своем желании, послала за балалайкой в Инсар домашнего учителя. Тот балалайку не купил, зато привез изящную скрипку. Учитель уверял, что балалайка есть забава мужицкая, скрипка же придумана для людей благородного звания. Молодой барин согласился: скрипка так скрипка, только бы научиться хорошо играть. Но тут оказалось, что учить-то некому. Домашний учитель не знал даже, как правильно смычок держать, а про настройку инструмента и говорить нечего. Нужен был учитель по музыке, и тетя Аграфена сказала об этом своему брату, Сашиному батюшке. Тот, выслушав ее, нахмурился:
– Нечего ему пустым делом голову забивать. Отвезу его в Шляхетский корпус, пусть военным наукам обучается, морским офицером станет.
– Боже праведный! – всплеснула руками тетя. – Какой из него офицер? Да он и муху шлепнуть боится. И мал еще, не примут такого.
– Примут. У Истомина в корпусе крепкая рука, а он нам не чужой.
Как ни отговаривала его тетушка, он настоял на своем: дождался санного пути и сам повез сына в Петербург... "Должно быть, такая была моя судьба", – вздохнул Арапов, вспомнив былое на этой чужой, нерусской земле.
Сенявин время от времени тоже вздыхал.
У него были свои заботы. Трудно было догадаться, о чем он думал в эти минуты – может, как и Арапов, вспомнил прошлое или беспокоился о семье, оставшейся в Ревеле, а может, его все еще угнетала мысль о несчастной судьбе населения Корфу и других Ионических островов, о той тяжкой роли, которая выпала на его долю. Нет, не пожелал бы он, Арапов, быть сейчас на его месте.
– Пошли ужинать, – круто повернул домой Сенявин. – Завтра предстоит трудный день.
Встреча с представителями Республики Семи Островов намечалась вначале на полдень, но потом была перенесена на два часа пополудни, так как не все сенаторы собрались к указанному сроку. Арапов в это время дежурил в приемной командующего и не мог видеть, как проходила встреча, не слышал, о чем там говорили, но он обратил внимание, какими возбужденными, даже гневными выскакивали из адмиральской комнаты сенаторы после совещания. Один сенатор выбежал таким разъяренным, что буквально вырвал из рук Арапова свою шляпу, которую тот хотел ему подать, и при этом так сверкнул на него глазами, что ему стало не по себе.
После совещания Сенявин никого не принимал. Обедал один. Арапов осмелился зайти к нему только вечером – надо было доложить о передаче дежурства другому офицеру. Сенявин сидел за столом в глубокой задумчивости, погрузив лицо в ладони.
– Ах, это вы!.. – очнулся он, услышав шаги Арапова. – С чем пришли?
Арапов доложил о дежурстве и спросил, не прикажет ли его превосходительство принести свечи?
– Да, да, пусть принесут, – услышал он ответ.
Распорядившись в приемной насчет свечей, Арапов вышел на улицу. Было совсем темно. Вчера в эту пору в домах светились окна, а сейчас нигде не было видно огней, если не считать домов, в которых квартировали русские. На улице хоть бы голос раздался. Тихо и пусто кругом. До слуха доносились лишь отдаленные всплески морского прибоя – однообразные и унылые, наполнявшие сердце смутной тревогой. "А ведь это похоже на выражение протеста, – глядя на притихшие в темноте дома, подумал вдруг Арапов. Горожанам уже известно все, потому и попрятались, не желая в обиде своей видеть больше русских..."
Оставаться на улице больше не хотелось. Арапов вернулся к себе и лег спать, отказавшись от ужина. Утром, проснувшись, он сразу же пошел купаться.
Море было неспокойным. Волны набрасывались на берег с неумолимой злостью, словно желали свести с ним давние счеты. Однако вода оставалась теплой, и Арапов долго плавал, нырял, плескался...
С пляжа он возвращался посвежевший, проголодавшийся. Утро только разгоралось, и он очень удивился, когда в этот ранний час увидел на улице против главной квартиры огромную толпу. Многие женщины держали на руках детей. Дети плакали, но их не успокаивали, матери, казалось, даже этого хотели.
– Что сие значит? – спросил Арапов встретившегося матроса.
– Бунт, ваше благородие.
– Какие глупости!.. Что хотят эти люди?
– А кто их знает, ваше благородие... Лопочут по-своему.
Когда Арапов приблизился к толпе, несколько женщин, выставляя перед ним плачущих младенцев, стали что-то ему выкрикивать, но вскоре, поняв, видимо, что с ним не объясниться, оставили его в покое и двинулись к русской резиденции. Они пожелали иметь дело с самим командующим. Они кричали, требуя, чтобы адмирал вышел к ним сам.
Сенявин появился в сопровождении переводчика и двух сенаторов, которые, по всему, посылались к нему толпой. С его появлением шум усилился, толпа стала напирать, стараясь быть ближе к адмиралу. Плач детей, голоса их матерей, громкие выкрики мужчин и это движение в толпе, направленное в сторону адмирала и кое-как сдерживаемое подоспевшими матросами и некоторыми из этой же толпы, – все это было ужасно. Арапов не знал греческого языка, из бури непонятных возгласов он улавливал одно только слово, неоднократно повторявшееся: "Ушаков". И по тому, с каким выражением произносилось это слово, означавшее фамилию известного им русского флотоводца, он догадывался о смысле выкриков этих разгневанных людей. Они говорили: "Ушаков даровал нам свободу, а вы нас предаете, возвращаете прежним поработителям!"
Сенявин подождал, пока толпа не успокоится, и когда наконец стало не так шумно, начал говорить – внушительно, твердо:
– Друзья мои, мы вынуждены оставить вас в силу договора, заключенного между моим государем и Наполеоном. Но мы уходим от вас с надеждой, что французы, которые заменят наш гарнизон, выполнят свое торжественное обещание не причинять вам зла.
О "торжественном обещании" французов не чинить островитянам зла в документах, полученных Сенявиным, ничего, конечно, не говорилось, но надо же было как-то успокоить толпу!
В ответ на выступление русского командующего раздались новые выкрики, но уже не такие громкие и требовательные, как раньше. Мало-помалу толпа успокоилась, Сенявин ответил на вопросы, потом, выступив вторично, тепло поблагодарил собравшихся и в их лице всех жителей Ионических островов за дружеское отношение к русским солдатам и матросам, после чего удалился. Толпа стала расходиться.
Арапов пошел в столовую и обрадовался, когда увидел, что Сенявин уже там. Командующий сидел за одним столом вместе с Грейгом и флаг-офицером.
– Присаживайся к нам, – пригласил его адмирал.
Завтракали молча. Сенявин ел с неохотой, все время озирался по сторонам, словно ждал кого-то. Когда, кончив завтрак, он поднялся из-за стола, подошел дежурный офицер, чтобы доложить о прибытии представителей французского командования для приема гарнизонных сооружений. На лице командующего появились красные пятна.
– Я не желаю их видеть, скажите им, что болен... Адмирал, – обратился он к Грейгу, – прошу вас, займитесь ими.
Эскадра оставила Корфу 19 сентября. Корабли подняли паруса с восходом солнца. Никто из матросов и офицеров в это время уже не спал, все были на ногах, оставались на палубе даже сменившиеся после вахты. Сенявин стоял на корме и неотрывно смотрел на медленно удалявшийся берег. Прислуживавший ему матрос держал наготове стаканчик и штоф водки. Сенявин имел привычку при выходе в плавание выпить стаканчик, но сейчас он, казалось, забыл о водке.
– Ну вот, капитан-лейтенант, – тихо промолвил Сенявин, обращаясь к Арапову, – были мы тут и больше здесь нас не будет.
В последнее время адмирал слишком часто стал прикладываться к спиртному, и было опасение, что после пережитого им в Корфу он может запить.
– Дмитрий Николаевич!.. – В голосе и во взгляде Арапова была не просьба, а настоящая мольба. – Дмитрий Николаевич, прошу вас, оставьте это. Вам нельзя больше...
– Пить? – Сенявин увидел матроса со штофом, прогнал его и вплотную подошел к Арапову: – Не думай обо мне худо, братец. Я еще не разучился управлять собой. Увидишь, до конца плавания не возьму в рот даже капли. Мне теперь, как никогда, нужна трезвая голова.
7
При въезде в Севастополь Ушакову пришлось испытать то же волнение, что и перед Темниковом. И в этом не было ничего удивительного. Севастополь занимал в его жизни гораздо больше места, чем другие города. Здесь он вырос как флотоводец, здесь получил всеобщее признание, обрел заслуженную славу. С севастопольской землей смешан его пот. Уже будучи командующим Севастопольской эскадрой и главным портовым начальником, он занимался не только делами чисто военными, но и благоустройством города, строительством домов, казарм, госпиталей, устройством скверов и парков. Севастопольцы неспроста называли его отцом города. Именно при нем, благодаря его неусыпным заботам Севастополь стал таким, каким ему надлежало быть.
В Крыму это был самый молодой город. Начало ему положили русские матросы вскоре после присоединения Крыма к России. В апреле 1783 года командующий Азовским флотом вице-адмирал Клокачев получил из Петербурга задание произвести "опись крымских берегов" и осмотр бухты близ татарского селения Ак-яр – той самой бухты, на которую еще в 1778 году обратил внимание генерал Александр Васильевич Суворов, приказав войскам своим возвести по обеим сторонам ее укрепления. Исполнение повеления Петербурга командующий флотом поручил капитану второго ранга Берсеневу, командиру фрегата "Осторожный". Берсенев нашел бухту очень удобной для стоянки судов, о чем немедля рапортовал вице-адмиралу. Вскоре командующий Азовским флотом отправился туда сам, сопровождаемый четырьмя фрегатами. Бухта ему тоже понравилась. Спустя некоторое время в ней бросили якоря еще шесть фрегатов, прибывших из Керчи под командованием контр-адмирала Мекензи, англичанина по происхождению, находившегося на русской службе. С прибытием всех этих судов началось строительство порта, который флотские команды стали называть Ахтиаром. В Петербурге одобрили действия флотских команд, но с названием порта не согласились. Императрица Екатерина II повелела назвать порт иначе – Севастополем, что в переводе с греческого означало: славный город.
Хотя застроенное место и называли городом, продолжительное время оно оставалось небольшим поселением. Черты настоящего города оно стало обретать лишь во время русско-турецкой войны и особенно после войны, когда над портом начальствовал Ушаков как командующий Черноморским флотом. По его приказу здесь были возведены казармы, морской госпиталь, портовые магазины, склады и много жилых домов. Частное строительство без соответствующего разрешения было категорически запрещено. Дома стали возводиться только по общему городскому плану с обязательным насаждением против них фруктовых деревьев.
Так появился новый черноморский город. При Ушакове в нем проживало 15 тысяч жителей. Сейчас, конечно, населения в нем стало больше. В 1804 году Петербург объявил его главным военным портом на Черном море.
...Перед Севастополем дорога шла горами. Тяжелая дорога – то спуск, то подъем. Но вот взору открылась густая синь, неровным гигантским рогом врезавшаяся в горы. То была Северная бухта, та самая бухта, которая когда-то привлекла внимание Суворова. Почти на семь верст протянулась она от моря. Пройди по всему берегу Черного моря и не найдешь более удобного места.
Когда подъехали к бухте, Ушаков приказал кучеру остановиться, а Федору достать из сундука мундир. Федор сразу заворчал:
– Уж не переодеваться ли задумал? В поле не шибко удобно. Можно и до дома оставить...
– Поменьше разговаривай, – одернул его Ушаков.
Он переоделся не сходя с экипажа, после чего приказал кучеру править к морю.
Море!.. Еще один небольшой перевал, и вот оно уже перед глазами бескрайнее, седогривое, чем-то недовольное...
Море штормило. Сойдя с экипажа, Ушаков подошел к берегу так близко, что пенившиеся волны докатывались до его ног. Вода, помутневшая от поднятого со дна мусора, неистовствовала, ревела, накатываясь вал за валом, и было в ее поведении что-то таинственное, недоступное человеческому разуму. Ушаков смотрел на свирепо надвигавшиеся пенистые горы словно зачарованный. В голове не было никаких мыслей, он не мог думать, он мог только смотреть на все это, смотреть бесконечно.
– Батюшка, ноги-то заливает!.. – послышался голос Федора. – Эдак простудиться недолго!
Ушаков покорно отступил назад, продолжая, однако, смотреть на море.
– Едем, батюшка. Чего стоять-то? Аль моря не видал. Ямщик ждет.
Ушаков вернулся наконец к экипажу, влез на сиденье, сказав кучеру:
– Держи по главной.
Главная улица, имевшая название Графская, была застроена при нем, и ему был знаком здесь каждый дом. Вот морской госпиталь, дальше контора портового ведомства, а вот дворец графа Войновича... "А ведь без меня здесь, кажется, ничего не изменилось, хотя и город вырос..." – сделал для себя неожиданное открытие Ушаков.
Улица оказалась не очень людной. В основном на глаза попадались матросы и офицеры, торопившиеся по своим делам. Многие, обратив внимание на Ушакова, останавливались и, не узнавая его, долго смотрели вслед. Но были и такие, которые шарахались в подъезды или делали вид, что не замечают. Поведение этих людей казалось странным и обидным. Скоро, очень скоро забыли они своего прежнего начальника!.. Но вот один из офицеров, кажется, его узнал. Встрепенулся радостно и замер в приветствии:
– Здравия желаю, ваше высокопревосходительство!
Ушаков узнал в нем Козмина, что в свое время служил на корабле "Преображение" шкипером. Он приказал остановить лошадей, и тот тотчас подбежал к нему.
– Шкипер Козмин? – на всякий случай уточнил Ушаков.
– Так точно, ваше высокопревосходительство, Козмин. – Офицер, довольный, заулыбался. – Думал, не узнаете.
Лет пятнадцать тому назад Козмин в пьяном виде учинил дебош и наговорил много лишнего в адрес властей, за что был арестован. Ему грозил военный суд. И вот тогда Козмин решил обратиться к Ушакову, как командующему флотом, с просьбой простить его. Ушаков хотел было оставить его прошение без последствия, но, узнав, что он отец малолетних детей, переменил свое решение, приказал освободить его из-под стражи и определить в прежнюю должность, строго предупредив, однако, чтобы впредь необдуманных поступков не совершал.
– Как дети? – поинтересовался Ушаков.
– Да что дети!.. Дети выросли. Старший офицером стал, в люди вышел. Вам спасибо. Сами вы как, Федор Федорович?
– В отставке прозябаю. Состарился. – Ушаков старался говорить шутливо, но в голосе его прорывалась горечь. – Никому уже не нужен, даже севастопольцы, заметил я, отворачиваются...
Козмин рассмеялся.
– Вас просто не узнали. Должно быть, вас за маркиза приняли, командующего флотом.
– Траверсе?
– Этого самого. Маркиз разъезжает по городу обычно при всех своих орденах, вот вас с ним и спутали.
Их разговор стал привлекать внимание прохожих. Узнав, что человек в адмиральском мундире не кто иной, как сам Ушаков, люди стали сбегаться со всех сторон, и вскоре возле экипажа образовалась плотная толпа. Ведь молодые матросы и офицеры знали о знаменитом флотоводце только по рассказам, теперь же им представлялась возможность посмотреть на него живого собственными глазами. Хозяин дома, возле которого остановился экипаж, вынес на полотенце хлеб и соль – русский обычай встречать дорогих гостей.
– Милости просим, Федор Федорович! Не угодно ли ко мне пожаловать, откушать с дороги?
Ушаков посмотрел на его загорелую лысину, маленькую бородку клинышком, тонкие изогнутые брови, чуть насмешливые глаза с зеленым отливом, и ему показалось, что этого человека он где-то уже видел. Он напряг память.
– Что-то не припомню...
– Как не припомните? – притворно обиделся тот. – А семь тысяч одолженных, помните?
– Семен Крицин?
– Он самый и есть, – заулыбался Крицин. – Купец второй гильдии, госпитальный подрядчик... Малость внешностью изменился, годы лысину припечатали, а так все такой же.
Было время, когда Ушакову часто приходилось иметь с ним дело, точнее, не ему самому, а портовой конторе, которой руководил капитан первого ранга Семен Афанасьевич Пустошкин. Крицин по подряду обеспечивал морской госпиталь продовольствием. Но так как казна деньги на эти цели высылала крайне неаккуратно, с большой задержкой, то между ним и конторой часто возникали конфликты. Однажды контора задолжала ему несколько тысяч рублей, и он отказался доставлять продовольствие в долг. Это случилось в тот самый момент, когда в госпитале не оставалось ни круп, ни хлеба. Пустошкин был в отчаянии. Вся эта история могла кончиться очень плохо, если бы не Ушаков. Узнав, в чем дело, он отдал купцу все свои сбережения – семь тысяч рублей, лишь бы тот возобновил поставки продовольствия.
Больным умереть с голоду не дали. Однако Ушакову за свой добрый поступок пришлось пострадать. Казна денег, отданных подрядчику, не возместила. Пришлось писать письма в высшие инстанции, давать объяснения... Деньги возместили лишь через три года.
– Попереживали мы тогда, – вспомнив прошлое, сказал Крицин. – Но хорошо, когда все хорошо кончается...
Позади толпы кричали извозчики, требуя дороги. Их не слушали. Но перед одним экипажем народ расступился. Ушаков посмотрел на того, кому дали дорогу, и радостно вскрикнул: это был Семен Афанасьевич Пустошкин. Однако он был уже не в том чине, в котором служил при Ушакове, не капитаном первого ранга, а контр-адмиралом.
Пустошкин пересел в тарантас к Ушакову, сказал Крицину, чтоб не обижался, что отнимает у него гостя, и приказал кучеру гнать вверх по Графской.
Удивительный человек этот Пустошкин! Во флоте его шутливо называли Пустошкиным-вторым. Пустошкин-первый, Павел Васильевич, был старше его на десять лет и чин имел соответственно выше. К концу Средиземноморской экспедиции Павел Васильевич был уже вице-адмиралом, в то время как Пустошкин-второй оставался капитаном первого ранга. В освобождении Ионических островов Семену Афанасьевичу участвовать не довелось. Он прибыл в Средиземное море уже после кампании, доставив на судах войска генерал-лейтенанта Бороздина, которые предполагалось использовать для захвата в союзе с англичанами Мальты.
– Куда везешь? – спросил Ушаков, когда толпа осталась позади.
– Как куда, к себе, конечно, – отвечал Пустошкин. – Не в гостиницу же!
Пустошкин остановил экипаж у одноэтажного каменного дома с палисадником, сунул кучеру несколько монет на чай и повел гостя к своим домочадцам.
Встреча с семейством Пустошкина – его женой и двумя дочками, уже взрослыми, такими, что впору замуж выдавать, – вылилась в большую радость. Не обошлось, конечно, без поцелуев. После поцелуев и радостных восклицаний были, как водится, расспросы о здоровье, о дороге и прочем. Потом были воспоминания о давних добрых временах, когда Ушаков, еще будучи в Севастополе главным, приходил к Пустошкиным в гости и качал на ноге девочек по очереди, вздохи сожаления о быстро ушедшей молодости, жалобы на недомогания, приходившие со старостью, и, наконец, после всего этого был чай в кабинете хозяина без участия женской половины. Хозяйка пожелала, чтобы бывшие сослуживцы часок-другой посидели одни, чтобы вдоволь могли наговориться обо всем, что их интересовало.
За чаем Ушаков сразу же спросил приятеля о Сенявине: что о нем слышно? Он надеялся встретить его здесь, но его эскадры на рейде не оказалось.
– Ничего о нем не знаем, – признался Пустошкин. – Но до нас дошел слух, будто после мира с Наполеоном и перемирия с турками он подался в Балтийское море.
– В Балтийское? Но это же великий риск! Англичане могут преградить ему дорогу.
– Не знаю, не знаю... Говорят, на то есть высочайшее повеление.
На этом разговор о Сенявине закончился. Некоторое время чай пили молча, потом Ушаков поинтересовался судьбой прежних своих сослуживцев:
– Ельчанинов где?
– Матвей Максимович? В отставку ушел в чине контр-адмирала.
– А капитан Доможиров?
– Уволился. Писарева, Марина, Лихарева помнишь?
– Как не помнить? Они со мной во всех войнах участвовали.
– Так вот, тоже оставили службу. Ушли также Селивачев, Сорокин, которые с тобой Корфу брали.
– Почему так?
– А что делать? Флоту теперь нет прежнего почета, да и начальство стало не то. Поверишь ли, после того как флот Черноморский отдали маркизу, среди офицеров только и разговоров, куда бы сбежать. Сказать откровенно, я тоже подумывал уйти и ушел бы, если б... У меня еще дочери замуж не выданы.
Пустошкин вдруг заторопился:
– Ты уж прости, Федор Федорович, совсем забыл... Завтра маркиз смотр командам учиняет. Поеду офицеров предупредить.
Перед тем как расстаться, спросил:
– Надолго к нам?
– Поживу... Домишка тут у меня остался, земли участок. Надо всем этим распорядиться,
– Понятно. Значит, у нас еще будет время поговорить. А пока отдыхай.
* * *
Пустошкин вернулся со службы поздно, когда все уже спали. Ушаков встретился с ним за утренним чаем.
– Вчера, наверное, задержали служебные трудности? – спросил он.
– Самые большие трудности ожидаются сегодня, – усмехнулся Пустошкин. – Маркиз решил делать смотр на площади против Графской пристани.
– А почему не на кораблях?
– Спроси его... Море штормит, а маркиз не переносит качки. Ежели хочешь, – вдруг предложил Пустошкин, – приходи посмотреть, на что мы способны.
– Спасибо, – поблагодарил Ушаков. – Мне необходимо сначала делом распорядиться, покупателя найти.
– Ну смотри, тебе виднее.
Пустошкин ушел, а Ушаков стал совещаться с Федором о деле, которым собирался заняться в Севастополе. Федор слушал барина с неодобрением.
– А зачем тебе, батюшка, самому в дела такие вмешиваться? – сказал он. – Всегда мне доверялся, а тут сам... Поди, управлюсь. И купцов найду, каких надо.
– Найдешь ли?
– Сам не найду, люди помогут.
– Ладно, делай как знаешь.
Ушаков сказал Федору, что пойдет полюбоваться городом, но его потянуло к морю, и он направился на берег через скверики, устроенные еще в бытность его начальствования в Севастополе.
Погода стояла солнечная, ветер почти стих, но море еще штормило, хотя и не так сильно, как вчера. Ушаков шел по каменистому берегу, по самому краю вымоченной полосы, на которую кидались грохочущие белогривые волны. По отброшенным в глубь берега засохшим водорослям и прочему мусору было видно, что полоса эта была гораздо шире, доходила до скамеек, устроенных для купальщиков, но теперь она простиралась сажени на три, не более. Набежав на нее, волны быстро теряли начальную силу и с покорным шуршанием скользили обратно, оставляя в камнях клочья пены. "Выдыхаешься, брат, мысленно разговаривал с морем Ушаков. – Ничего! Не век же буйничать, пора успокоиться..." В своих морских скитаниях он видел штормы куда сильнее, такие, от которых не выдерживали снасти, ломались мачты, но он никогда не проклинал море за его буйство, он любил его таким, каким оно было.
В бухте волнам не было разгона, здесь торжествовало относительное спокойствие. Стоявшие на северной стороне три линейных корабля не испытывали никакой качки – надежное место нашли. Когда-то с этого места Ушаков начинал свои крейсирования. Именно отсюда повел он черноморские корабли на знаменитую баталию у мыса Калиакрия...
Калиакрия... Сколько лет прошло, а память еще цепко держала картину сражения, держала с мельчайшими подробностями – утренней дымкой над береговой полосой, всплесками воды от чугунных ядер, треском ломающихся мачт, едким пороховым дымом, кипением моря меж судов, грохотом залпов, свистом шрапнелей, криками раненых, паническим страхом на лицах неприятельских матросов. Да, такие баталии долго не забываются.
Это случилось в 1791-м. Ушаков направился к Калиакрии, месту стоянки турецкого флота, имея под рукой тридцать девять вымпелов. Калиакрия считалась тогда неприступной крепостью. Мыс вдавался в море скалистой возвышенностью, обрывавшейся у берега осклизлой стеной саженей в пятьдесят, а то и больше. С высоты на море были нацелены десятки пушек, достать которые с кораблей почти не представлялось возможным. Впрочем, решившись идти на противника, Ушаков не собирался штурмовать саму крепость. Зачем ему крепость? Ему был нужен турецкий флот.
Свежий норд-ост туго надувал паруса, корабли неслись по волнам, словно птицы. Стоя на шканцах, Ушаков нетерпеливо посматривал вперед. Вот наконец и мыс показался. А вот и сам неприятельский флот. Стоит на рейде со спущенными парусами. Но что это? Он кажется гораздо многочисленнее, чем думали. Стали считать. Оказалось, что линейных кораблей у турок больше, чем у русских, на две единицы, а фрегатов и прочих судов в два раза. И это при наличии берегового прикрытия!
– Силен турок, не подступиться! – услышал Ушаков разочарованные голоса.
– Что прикажете делать? – обратился к командующему капитан первого ранга Ельчанинов, начальствовавший на флагманском корабле.
– Атаковать, – коротко ответил Ушаков.
План атаки созрел мгновенно. Между линией неприятельских кораблей и берегом имелся просвет саженей в сто пятьдесят. Будучи на ветру, Ушаков решил на всех парусах войти в этот просвет, ошеломить противника внезапностью атаки, отрезать его от берега, после чего учинить ему разгром.
– Ежели войдем в просвет, нас могут накрыть береговые батареи, усомнился в правильности его решения Ельчанинов.
Ушаков метнул на него повелительный взгляд: мол, сейчас не до рассуждений, извольте действовать... Отдавая приказ идти в атаку, он не ждал от береговой батареи серьезной помехи. Берег возвышался так круто, что мешал батарее поражать близкие цели. В случае пальбы неприятельская артиллерия рисковала своими ядрами разнести собственные суда.
Неожиданное появление русской эскадры вызвало среди турок и находившихся с ними заодно алжирцев настоящую панику. Береговые пушки открыли беглый огонь, но, как и предвидел Ушаков, они не смогли причинить нападавшим существенного вреда: снаряды, перелетая через русские корабли, подымали фонтаны брызг в непосредственной близости от турецкой армады.
Противник оказался в критическом положении. Ветер был на стороне атакующих, турки же, имея ветер против себя, не могли построиться в боевой порядок. В панике они стали рубить якорные канаты, чтобы поскорее уйти в море и на какое-то время оторваться от русских. При довольно сильном ветре это привело к столкновениям кораблей. Ушаков своими глазами видел, как в результате столкновений с одного корабля упала бизань-мачта, на другом переломился бушприт. Тот, что остался без бушприта, с трудом выбрался из толчеи и, не желая испытывать судьбу, на уцелевших парусах стал удаляться в сторону Варны.
Между тем нападавшие, отрезав неприятеля от берега и лишив его огневого прикрытия, открыли жестокую стрельбу. Замешательство среди турок усилилось. Однако их флагманский корабль, увлекая за собой другие суда, стал уходить под ветер, имея намерение выстроить линию баталии на виду атакующих. В это же самое время другая часть армады под красными алжирскими флагами стала выстраиваться на левый галс...
Не желая давать противнику времени опомниться, Ушаков приказал своей эскадре строить линию баталии при северо-восточном ветре и оной линией спускаться на противника со всей возможной поспешностью. В то время как сигнальщик передавал его команды, он заметил, что алжирский флагман с несколькими фрегатами, шедшими у него в фарватере, взял круто на зюйд-вест. Как и турецкий капудан-паша, командующий алжирской эскадрой желал этим маневром выиграть время. Достигни он этой цели, ход сражения мог бы измениться. Догнать алжирский флагман и вывести его из строя – вот что нужно было сейчас! Только таким путем можно было лишить противника надежд на перехват инициативы. Матросы "Рождества Христова" действовали сноровисто, выполняли команды быстро и четко. В считанные секунды они развернули дополнительные паруса, и корабль пошел быстрее. Расстояние между ним и алжирским флагманом быстро сокращалось. До противника осталось меньше полукабельтова. Вот уже русский флагман обошел его с носа. Пришло время заговорить пушкам.
– Огонь! – подал команду Ушаков.
Неприятельский флот оказывал отчаянное сопротивление. И турки, и алжирцы палили беспрерывно. Однако русские стреляли точнее. В поте лица трудились бомбардиры "Рождества Христова". От первых же залпов алжирский флагман остался без фор-стеньги, грот-марселя, а вместо нижних парусов на ветру затрепыхали жалкие лоскуты. От полученных пробоин корабль заметно осел, накренился и непременно пошел бы на дно, если бы не фрегаты, прикрывшие его своими корпусами.