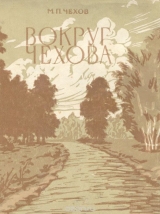
Текст книги "Вокруг Чехова"
Автор книги: Михаил Чехов
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 19 страниц)
способным к ручному труду. Среди нас, его братьев, он был белоручка. Он {63} устраивал
лекции и сцены, кого-нибудь представлял или кому-нибудь подражал, но я никогда не
видал его, как других братьев, за переплетным делом, за разборкой часов и вообще за
каким-либо физическим трудом.
Правда, был однажды такой случай, когда проявил свое стремление к физическому
труду и он. В 1874 году при таганрогском уездном училище открывались ремесленные
классы, которыми заведовал некто Порумб – человек на все руки: он и швейные машины
чинил, и сапоги шил, и преподавал портняжное мастерство. У него была такая длинная
борода, что он сметал ею обрезки кожи с доски, лежавшей у него во время работы на
коленях. Так как образование в этих ремесленных классах было бесплатное, то мои братья
воспылали желанием обучиться мастерствам: брат Иван принялся за переплетное дело,
брат Антон стал изучать портняжное ремесло36.
Скоро будущему писателю пришлось проявить свои способности на деле, так как
подошло время шить для брата Николая серые гимназические штаны. Антон Павлович
принялся за шитье смело, с ученым видом знатока. Тогда была мода на узкие брюки, и,
пока Антон кроил, Николай, любивший щегольнуть, все время стоял тут же и приставал к
нему:
– Поуже, Антон... Теперь носят узкие брюки. Да крои же поуже!
И Антон так накроил, что когда брюки были уже готовы и Николай стал их надевать,
то сквозь них не пролезали его ноги. Тем не менее, он все-таки натянул их на себя, точно
трико, надел штиблеты и отправился гулять.
– Братцы, глянь! Тю! – стали указывать на него пальцем уличные мальчишки. –
Сапоги – корабли, а штаны – макароны! {64}
Так это выражение «штаны макароны» и осталось в нашей семье на всю жизнь.
В домашних спектаклях Антон был главным воротилой. Будучи еще детьми, мы
разыграли даже гоголевского «Ревизора». Устраивали спектакли и на украинском языке
про Чупруна и Чупруниху, причем роль Чупруна играл Антон. Одной из любимых его
импровизаций была сцена, в которой градоначальник приезжал в собор на парад в
табельный день и становился посреди храма на коврике, в сонме иностранных консулов.
Старший брат, Александр, в это время уже не принимал участия в совместной жизни
семьи. Он считался уже большим, жил на стороне, у директора гимназии37, а затем кончил
курс, уехал в Москву и с тех пор (с 1875 года) не возвращался в семью уже никогда. Уехал
с ним и брат Николай, и спектакли прекратились. Таким образом, молодое поколение
чеховской семьи ограничилось только тремя младшими братьями и сестрой. Антон стал
теперь старшим и пользовался наибольшим авторитетом. Этим четверым было
предназначено судьбой не расставаться друг с другом на долгое время – до самой
середины девятидесятых годов.
В 1875 году Антон тяжело заболел и чуть не отправился к своим праотцам. Как я
упомянул выше, несколько лет подряд у нас жил нахлебником мелкий чиновник
коммерческого суда Гавриил Парфентьевич. Днем он служил в суде, а по вечерам играл в
клубе на большие ставки; ему везло, он выигрывал, так что лет через десять имел уже
своих лошадей и большое имение. У него был брат Иван Парфентьевич, тоже игрок, но в
другом отношении: он все время подыскивал себе богатую невесту, не имея за душой
ровно ни гроша. И вот судьба послала ему в жены уже пожилую женщину, вдову,
имевшую в Донецком бассейне большую усадьбу38 в несколько сот десятин. Этот самый
Иван Парфентьевич {65} пригласил к себе погостить Антона. По дороге в имение или
обратно в Таганрог мальчик выкупался в холодной речке и схватил тяжелую простудную
болезнь39.
– Заболел у меня Антоша... – говорил мне потом, лет двадцать спустя, Иван
Парфентьевич. – Я не знал, что с ним делать. Уж я его завез на постоялый двор, и там мы
его уложили.
Антошу привезли домой. Как сейчас помню его, лежавшего при смерти. Около него
гимназический доктор Штремпф, который говорит с немецким акцентом:
– Антоша, если ты желаешь быть здоров...
Озабоченная мать жарит на сковородке льняное семя для припарок, а я бегаю в
аптеку за пилюлями, на каждой из которых, к моему удивлению, напечатано имя их
изобретателя «Covin». Уже будучи врачом, Антон Павлович говорил впоследствии, что это
были совершенно ненужные рекламные пилюли.
Болезнь оставила в нем большие воспоминания. Это была первая тяжкая болезнь,
какую он испытал в жизни, и именно ей он приписывал то, что уже со студенческих лет
стал страдать жестоким геморроем. Постоялый же двор, в который завозил его Иван
Парфентьевич, и симпатичные евреи выведены им в «Степи», в лице Моисея Моисеевича,
его жены и брата Соломона. Кстати: болезнь настолько сдружила Антона с доктором
Штремпфом, окончившим медицинский факультет в Дерптском университете, что
будущий писатель все время мечтал отправиться по окончании курса гимназии в Дерпт и
там получить медицинское образование. И если бы к тому времени вся его семья не
переехала в Москву, то возможно, что он выполнил бы это свое заветное желание.
По отъезде двух старших братьев в Москву наш отец стал едва сводить концы с
концами. Его дела окончательно упали. Жизнь всей семьи потекла замкнуто, в {66}
бедности, хотя и в своем доме,

Семья Чеховых. Слева направо: стоят – Иван, Антон, Николай, Александр и
Митрофан Егорович; сидят – Михаил, Мария, Павел Егорович, Евгения Яковлевна,
Людмила Павловна и ее сын Георгий.
Фотография 1874 г. {67}
над которым тяготели долги. Целые дни для мальчиков проходили в труде. По вечерам
Антоша веселил всех своими импровизациями, или же все слушали рассказы матери,
тетки Федосьи Яковлевны или няни, которая жила у нас долго и ушла только в самое
последнее время пребывания нашего в Таганроге. Это была превосходная женщина,
умевшая удивительно рассказывать эпизоды из своей многоопытной жизни. Я уже
упоминал о ней: это была Агафья Александровна Кумская. Она была в молодости
крепостной известных на юге Иловайских, была приставлена в качестве подруги к
единственной дочери генерала Иловайского, совершила с ней большое путешествие,
помогла затем этой дочери бежать из дому и выйти против воли отца за барона Розена, за
что и была продана потом в чужую семью. Она все больше повествовала о таинственном,
необыкновенном, страшном и поэтическом. «Счастье» Чехова, безусловно, написано им
под впечатлением ее рассказов.
В 1876 году отец окончательно закрыл свою торговлю и, чтобы не сесть в долговую
яму, бежал в Москву к двум старшим сыновьям, из которых один был тогда студентом
университета, а другой учился в Училище живописи, ваяния и зодчества. За старшего уже
официально стал у нас сходить Антон. Я отлично помню это время. Было ужасно жаркое
лето; спать в комнатах не было никакой возможности, и потому мы устраивали в садике
балаганы, в них и ночевали. Будучи тогда гимназистом пятого класса, Антон спал под
кущей посаженного им дикого виноградника и называл себя «Иовом под смоковницей».
Вставали в этих шалашах очень рано, и, взяв с собой меня, Антон шел на базар покупать
на целый день харчи. Однажды он купил живую утку и, пока шли домой, всю дорогу
теребил ее, чтобы она как можно больше кричала. {68}

Таганрог. Дом Павла Егоровича Чехова, построенный в 1874 г.
Рисунок С. М. Чехова, 1957.
– Пускай все знают, – говорил он, – что и мы тоже кушаем уток.
На базаре Антон присматривался к голубям, с видом знатока рассматривал на них
перья и оценивал их достоинства. Были у него и свои собственные голуби, которых он
каждое утро выгонял из голубятника, и, по-видимому, очень любил заниматься ими. Затем
дела наши стали так туги, что для того, чтобы сократить количество едоков, меня и брата
Ивана отправили к дедушке в Княжую. А потом мы испытали семейную катастрофу: у нас
отняли наш дом. {69}
Дом этот был выстроен на последние крохи, причем недостававшие пятьсот рублей
были взяты под вексель из местного Общества взаимного кредита. Поручителем по
векселю был некий Костенко, служивший в том же кредите. Долгое время переворачивали
этот несчастный вексель, пока, наконец, отцу не пришлось признать себя несостоятельным
должником. Костенко уплатил по векселю и предъявил к отцу встречный иск в
коммерческом суде. В то время неисправных должников сажали в долговую яму, и отцу
необходимо было бежать40. Он сел в поезд не на вокзале в Таганроге, а с первого
ближайшего полустанка, где его не мог бы опознать никто.
Дело о долге Костенко велось в коммерческом суде. Там, в этом суде, служил наш
друг Гавриил Парфентьевич. Чего же лучше? Было решено, что он оплатит долг отца, не
допустит до продажи с публичных торгов нашего дома и спасет его для нас.
– Я это сделаю для матери и сестры, – обнадежил Гавриил Парфентьевич нашу мать,
которую всегда называл матерью, а маленькую Машу – сестрой.
А сам устроил так, что вовсе без объявления торгов, в самом коммерческом суде дом
был закреплен за ним, как за собственником, всего только за пятьсот рублей.
Таким образом, в наш дом, уже в качестве хозяина, въехал Гавриил Парфентьевич.
Кажется, за проценты Костенко забрал себе всю нашу мебель, и матери ничего более не
оставалось, как вовсе покинуть Таганрог. Она захватила с собой меня и сестру Машу и,
горько заливаясь слезами, в вагоне повезла нас к отцу и двум старшим сыновьям в Москву,
на неизвестность.
Антоша и Ваня были брошены в Таганроге одни на произвол судьбы. Антоша
остался в своем бывшем доме, чтобы оберегать его, пока не войдет в него новый хозяин, а
Ваню приютила у себя тетя Марфа Ивановна. Впрочем, Ваню тоже скоро выписали в

Москву41, и Антон {70} остался в Таганроге один как перст. Ему нужно было кончать курс,
он был в седьмом классе гимназии.
Когда Гавриил Парфентьевич въехал в дом, он застал там Антона, которого за угол и
стол пригласил готовить своего племянника, Петю Кравцова, в юнкерское училище. Петя
был сын казацкого помещика из Донецкого округа, служившего когда-то на Кавказе.
Репетируя Петю, Антон близко сошелся с ним и полюбил его, тем более, что они
оказались почти сверстниками. Когда наступило лето, Петя пригласил его к себе в
имение42, и Антон Павлович впоследствии с восторгом рассказывал мне о своем
пребывании в этой степной первобытной семье. Там он научился стрелять из ружья, понял
все прелести ружейной охоты, там он выучился гарцевать на безудержных степных
жеребцах. Там были такие злые собаки, что для того, чтобы выйти ночью по надобности
на двор, нужно было будить хозяев. Собак не кормили, они находили себе пропитание
сами. Там не знали счета домашней птице, которая приходила уже с готовыми цыплятами
и была так дика, что не давалась в руки, и для того, чтобы иметь курицу на обед, в нее
нужно было стрелять из ружья. Там уже начиналась антрацитная и железнодорожная
горячка и уже слышались звуки сорвавшейся в шахте бадьи («Вишневый сад»), строились
железнодорожные насыпи («Огни») и катился сам собою оторвавшийся от поезда
товарный вагон («Страхи»).
У того же Гавриила Парфентьевича жила его племянница Саша43, учившаяся в
местной женской гимназии. Еще до нашего отъезда в Москву эту девочку поместили к нам
в нахлебницы, и она спала в одной комнате вместе с моей сестрой. Все мы, мальчики,
скоро сдружились с ней, и за то, что она ходила в красненьком платьице с черными
горошками, Антон дразнил ее «Козявкой», и она плакала. Когда мы уехали в Москву, она
{71} перешла к своему дяде и вместе с ним потом въехала в наш
Таганрог. Театр. Галерея.
Рисунок С. М. Чехова, 1957.
дом. Впоследствии, через пятнадцать лет, когда мы жили в Москве в доме Корнеева на
Кудринской-Садовой, она приезжала к нам уже взрослой, веселой, жизнерадостной
девицей и пела украинские песни. Она остановилась у нас, прожила с нами около месяца,
и мои братья, Антон и Иван Павловичи, заметно «приударяли» за ней, а я писал ей в
альбом стишки44, а на братьев – стихотворные эпиграммы. Ее дразнили, что на юге у нее
остался вздыхатель, который очень скучает по ней, и {72} Антон Павлович подшутил над
ней следующим образом: на бывшей уже в употреблении телеграмме были стерты
резинкой карандашные строки и вновь было написано следующее: «Ангел, душка,
соскучился ужасно, приезжай скорее, жду ненаглядную. Твой любовник».
Нарочно позвонили в передней, будто это пришел почтальон, и горничная подала
Саше телеграмму.
Она распечатала ее, прочитала и на другой же день, несмотря на то, что все мы
умоляли ее остаться, уехала домой к себе на юг. Мы уверяли ее, что телеграмма
фальшивая, но она не поверила.
Впоследствии, уже вдовой, она приезжала к нам в Мелихово, где также заражала
всех своей веселостью и пела украинские романсы. И Антон Павлович, подражая ей,
говорил:
– И-и, кума, охота вам колотиться!
В пору своего одинокого пребывания в Таганроге (1876–1879 годы) ездил Антон и к
своему приятелю В. И. Зембулатову в усадьбу45. Любитель давать каждому человеку
прозвище, он еще гимназистом стал дразнить этого своего толстого одноклассника
Макаром46. Так эта кличка и осталась за почтенным доктором Зембулатовым до самой его
смерти. А когда оба они были гимназистами, то довольно весело проводили лето вместе.
Антон Павлович рассказывал мне один эпизод любовного свойства из своей жизни у этого
толстяка, но я, к сожалению, не могу о нем сообщить в этих воспоминаниях. Я очень
жалею, что, уехав в 1876 году в Москву, был разлучен с братом Антоном на целые три года
и что эти три года его жизни так и остались неизвестными в его биографии. А между тем,
именно в эти три года он мужал, формировал свой характер и из мальчика превращался в
юношу.
Сколько знаю, будучи учеником седьмого и восьмого классов, он очень любил
ухаживать за гимназистками, и, {73} когда я был тоже учеником восьмого класса, он
рассказывал мне, что его романы были всегда жизнерадостны. Часто, уже будучи
студентом, он дергал меня, тогда гимназиста, за фалду и, указывая на какую-нибудь
девушку, случайно проходившую мимо, говорил:
– Беги, беги скорей за ней! Ведь это находка для ученика седьмого класса!
Впоследствии, уже после смерти брата Антона, А. С. Суворин рассказывал мне, со
слов самого писателя, следующий эпизод из его жизни. Где-то в степи, в чьем-то имении,
будучи еще гимназистом, Антон Павлович стоял у одинокого колодца и глядел на свое
отражение в воде. Пришла девочка лет пятнадцати за водой. Она так пленила собой
будущего писателя, что он тут же стал обнимать ее и целовать. Затем оба они еще долго
простояли у колодца и смотрели молча в воду. Ему не хотелось уходить, а она совсем
позабыла о своей воде. Об этом Антон Чехов, уже будучи большим писателем,
рассказывал А. С. Суворину, когда оба они разговорились на тему о параллельности токов
и о любви с первого взгляда. В эти три года он часто посещал театр, любил французские
мелодрамы вроде «Убийство Коверлей» и веселые французские фарсы, вроде
«Маменькиного сынка», много читал. Особенное впечатление на него произвели «Между
молотом и наковальней» Шпильгагена и романы Виктора Гюго и Георга Борна. Написал
он в это время сам целую драму «Безотцовщина» и водевиль «Недаром курица пела».
Будучи гимназистом, он выписывал газету «Сын отечества» и сам сочинял рукописный
журнал с карикатурами «Заику», в котором выводил своих московских братьев и посылал
им его в Москву. {74}
III
Мы переезжаем в Москву. – Первые впечатления от столицы. – Письма Антона из
Таганрога. – Мое поступление в гимназию. – Приезд Антона. – Учение сестры на курсах
Герье. – Наша бедность. – Двенадцать квартир за три года. – 1879 год. – Антон поступает в
университет. – Наши нахлебники. – Работа по поднятию материального благополучия
семьи. – Первые выступления Антона в печати. – Дружба Николая с М. М. Дюковским. –
«Шуйские купчики» в Москве. – Разрыв Антона с «Стрекозой». – Сотрудничество братьев
Чеховых в «Зрителе». – В. В. Давыдов. – В редакции «Зрителя». – История с «Королем и
Бондаривной». – Рисунки Николая. – А. М. Дмитриев (барон Галкин).
В Москву мать привезла меня и сестру 26 июля 1876 года. Таганрог – новый город, с
прямыми улицами и с аккуратными постройками, весь обсаженный деревьями, так что все
его улицы и переулки представляют собой сплошные бульвары. Того же я, но только в
более грандиозных размерах, ожидал от Москвы. В нашем доме издавна, еще с моего
появления на свет, висели картины, изображавшие Лондон, Париж и Венецию. На
венецианской картине был изображен Большой канал (Canale grande) с дворцами по
берегам и с гондолами; под картиной надпись на трех языках: на французском и немецком
«Vue de Venice», «Aussicht von Venedig» и по-русски: {75} «Утро в Венедикте»*. Таким
образом, в моем детском мозгу составилось впечатление, что столица каждого государства
должна быть красива, изящна и отвечать всем требованиям совершенной культуры. Каково
же было мое удивление и разочарование, когда поезд подвез нас к паршивенькому тогда
Курскому вокзальчику, который перед Таганрогским вокзалом мог сойти за сарайчик, и
когда я увидел отвратительные мостовые, низенькие, обшарпанные постройки, кривые,
нелепые улицы, массу некрасивых церквей и таких рваных извозчиков, каких засмеяли бы
в Таганроге. Правда, я въехал в Москву, уже немного знакомый с ее Кремлем и с
Сухаревой башней по рисункам в сборнике «Пчела», изданном еще при царе Горохе неким
Щербиной и целые годы лежавшем у нас на столе вместе с другой нашей настольной
книгой – «Дети капитана Гранта», но даже и Кремль с Сухаревой башней меня
разочаровали.
Нас встретили на вокзале отец и брат Николай и всю дорогу к квартире, на Грачевку,
я и отец, за неимением у него шести копеек для того, чтобы проехать на верхушке конки,
прошли пешком. Отец был еще без должности, оба брата тоже дули в кулаки – и это
сказалось с первой же минуты нашего прибытия в Москву. Пошли в ход привезенные
матерью серебряные ложки и рубли. Всем нам пришлось поместиться в одной комнате с
чуланчиком под лестницей, в котором должны были спать я и братья Александр и
Николай. Резкий переход с южного пшеничного хлеба на ржаной произвел на меня самое
гнетущее впечатление. Хозяйства не было никакого: то за тем, то за другим нужно было
бежать в лавчонку, и скоро я превратился в мальчика на побегушках, а моя
одиннадцатилетняя сестра Маша – в {76} прачку, обстирывавшую и обглаживавшую всю
семью. Маленькая, она гладила даже

Николай Павлович Чехов. Рисунок С. М. Чехова, 1956.
Гос. музей-заповедник А. П. Чехова в Мелихове. {77}
крахмальные рубашки для отца и для старших братьев. Привыкшему к таганрогскому
простору, мне негде было даже побегать. Эти первые три года нашей жизни, без гроша за
душою, были для нас одним сплошным страданием. Я тосковал по родине ужасно. Часто я
ходил, несмотря на дальность расстояния, на Курский вокзал, встречать поезд с юга,
разговаривал с прибывшими из Таганрога вагонами и посылал с ними ему поклоны.
Антон часто писал нам из Таганрога, и его письма были полны юмора и утешения.
Они погибли47 в недрах московских квартир, а из них-то и можно было бы почерпнуть
данные о ходе развития и формирования его дарования. Часто в письмах он задавал мне
загадки, вроде: «Отчего гусь плавает?» или «Какие камни бывают в море?», сулился
привезти мне дрессированного дубоноса (птицу) и прислал однажды посылку, в которой
оказались сапоги с набитыми табаком голенищами: это предназначалось для братьев. Он
распродавал те немногие вещи, которые оставались еще в Таганроге после отъезда матери,
– разные банки и кастрюльки, – высылал за них кое-какие крохи и вел по этому поводу с
матерью переписку. Не признававшая никаких знаков препинания, мать писала ему
письма, начинавшиеся так: «Антоша в кладовой на полке...» и т. д., и он вышучивал ее, что
по розыскам никакого Антоши в кладовой на полке не оказалось. Он поощрял меня к
чтению, указывал, какие книги мне следовало бы прочесть, а между тем вопрос о
продолжении образования моего и сестры с первых же дней нашего поселения в Москве
стал для нас довольно остро. Я приехал в Москву уже перешедшим во второй класс, а
сестра Маша – в третий. 16 августа началось уже учение, а мы сидели дома, потому что
нечем было платить за наше учение. Требовалось {78} сразу за каждого из нас по 25
рублей, а достать их по тогдашним временам не представлялось никакой возможности.
Прошли август и сентябрь, наступили ранние в тот год холода, а мы с сестрой все
еще сидели дома. Наконец, это стало казаться опасным. Поговаривали об отдаче меня
мальчиком в амбар купца Гаврилова, описанный у Чехова в его повести «Три года»; в
амбаре служил племянник моего отца, которому не трудно было составить протекцию, но
это приводило меня в ужас. Кончилось тем, что, не сказав никому ни слова, я сам побежал
в 3-ю гимназию на Лубянке. Там мне отказали в приеме. Тогда, совершенно еще
незнакомый с планом Москвы и с адресами гимназий, я побежал за тридевять земель, в
сторону знакомого мне Курского вокзала, на Разгуляй, во 2-ю гимназию. Я смело вошел в
нее, поднялся наверх, прошел через всю актовую залу, в конце которой за столом,
покрытым зеленым сукном, сидел одиноко директор. Из классов доносились голоса. Я
подошел к директору и, еще несвободный от южного акцента и интонаций, рассказал ему,
в чем дело, и, стараясь как можно вежливее выражаться, попросил его принять меня, так
как мне грозит гавриловский амбар, а я хочу учиться. Он поднял бритое лицо, спросил
меня, почему не пришли сами родители; я ответил что-то очень удачное, и он, подумав,
сказал:
– Хорошо, я принимаю тебя. Начинай ходить с завтрашнего же дня. Только скажи
кому-нибудь из своих, чтобы пришли за тебя расписаться.
Трехверстное расстояние от гимназии до своей квартиры я уже не шел, а бежал.
Узнав от меня, что я опять стал гимназистом, все мои домашние очень обрадовались, и с
тех пор за мной так и установилась репутация: «Миша сам себя определил в гимназию».
Зима была жестокая, пальтишко на мне было пло-{79}хонькое, и, отмеривая каждый
день по три версты туда и по три обратно, я часто плакал на улице от невыносимого
мороза.
Вопрос о плате за учение для меня вырешился сам собой. Все время оставаясь без
должности, отец мой исполнял то те, то другие поручения временно. Так, для усиления
письменной части в том же амбаре Гаврилова в Теплых рядах48 он был принят на время в
качестве писца. Возвратясь из гимназии, я бежал к нему помогать. Откуда-то приехал
купец для закупки товаров у Гаврилова и, увидев меня, заговорил со мной, задавал
вопросы, и окончилось дело тем, что он в ту же зиму и умер, завещав мне на образование
по пятидесяти рублей в год. Душеприказчиком он назначил того же купца И. Е. Гаврилова,
который, выдавая мне эти деньги, всякий раз делал мне допрос, хожу ли я в церковь, чту
ли царя, не готовлю ли себя в «спецывалисты» (социалисты) и так далее, чем приводил
меня в большую обиду, так что с пятого класса, когда я стал зарабатывать уже сам, я
отказался от его подачек.
На пасху 1877 года нас обрадовал своим приездом в Москву Антоша. Я водил его по
Кремлю, показывал ему столицу и в первый же день так «усахарил»49 его, что все
следующие сутки он жаловался на то, что по пяткам у него от усталости бегали мурашки.
Против ожидания, Москва произвела на него ошеломляющее впечатление. Из-за
отсутствия денег на обратный проезд он зажился у нас и уехал с медицинским
свидетельством о болезни, которое выдал ему через брата Александра доктор
Яблоновский. Гостя у нас, Антон рассказывал нам о таганрогской гимназии, о проделках
товарищей, о редкостно близкой дружбе с учителями, и это заставляло меня тяжело
скорбеть от зависти, ибо мне в гимназии было очень тяжело.
Тогда были произведены одно за другим покушения {80} на Александра II,
подпольщики-ре-

Иван Павлович Чехов.
Рисунок С. М. Чехова, 1956. Публикуется впервые.
Гос. музей-заповедник А. П. Чехова в Мелихове. {81}
волюционеры стали развивать свою деятельность, и в обществе уже вслух стали
высказываться пожелания конституции. Развертывалась реакция. Из нас, гимназистов,
даже самых маленьких, принялись выколачивать «социализм». В министерстве
просвещения стала господствовать нелепая доктрина, что страх влечет за собой уважение,
а уважение всегда переходит в любовь. Внушая воспитанникам безумный страх,
гимназическое начальство думало этим возбудить в них любовь к правительству, и среди
педагогов нашлись поэты этого дела. Одни из желания выслужиться, другие по глупости, а
третьи из простого садизма стали есть своих учеников поедом. К людям последнего сорта
принадлежал преподаватель К. К. П-ский50. Он глумился над мальчиками и упивался их
страданиями. Он сочинял совершенно ненужные книжки, и мы должны были их покупать,
платя по 1 рублю 50 копеек и по 2 рубля за экземпляр, только для того, чтобы дать ему
заработать, и затем, неразрезанные, они так и оставались валяться без употребления. На
его уроках с учениками делались истерики, а когда вдруг неожиданно являлся окружной
инспектор, он прикидывался сразу овечкой и ползал перед ним на животе. Торжественно в
гимназической церкви был совершен обряд перехода этого гуся из католичества (не то из
униатства) в православие. Многим своим ученикам он испортил судьбу и жизнь. Один раз
он так придрался к одному из учеников пятого класса, что сидевший в стороне, тоже
пятиклассник, Раков не выдержал, поднялся с места и в негодовании крикнул:
– О П-ский! Я вижу, что ты подлец большой руки!
Конечно, Раков был исключен из гимназии немедленно, тотчас же по окончании
урока, а П-ский на благо министерства просвещения еще долго оставался преподавателем
древних языков. {82}
Другой преподаватель51, под предлогом искоренения среди гимназистов курения,
ощупывал у них карманы, отбирал серебряные портсигары и не возвращал их обратно.
Известный переводчик учебников древних языков Курциуса и Кюнера – Я. И. Кремер, по
которым учились мои братья и я, рассказывал мне, что как раз перед самыми выпускными
экзаменами, которые должен был держать его сын, мой сверстник, к нему в два часа ночи
явился его сослуживец, тоже один из моих преподавателей древних языков, и поднял его с
постели. Я. И. Кремер сошел к нему вниз в халате и со свечою в руках.
– Я проигрался, – сказал пришелец. – Дайте мне сейчас же двадцать пять рублей.
– Но у меня их нет, – ответил Я. И. Кремер.
– А вы позабыли, что я завтра экзаменую вашего сына?
Я. И. Кремер смутился, поднялся наверх, достал из шкатулки двадцатипятирублевку
и, возвратившись, покорно отдал ее проигравшемуся коллеге.
И поразительнее всего то, что такая камарилья сразу же ощетинивалась и
становилась на дыбы, когда в чем-нибудь провинился гимназист. Я помню, какой кавардак
со стихиями поднялся в нашей гимназии, когда у двоих моих одноклассников Ю. и Н.
нашли роман Чернышевского «Что делать?».
Позднее, в министерстве Делянова, был издан циркуляр о том, чтобы дети бедных
родителей вовсе не принимались в гимназию, а я был беден, ходил весь в заплатах, – и мне
грозило исключение. Учителя должны были следить за интимной жизнью воспитанников,
и ко мне то и дело врывались в квартиру соглядатаи, попадая в самые критические
моменты, когда все мы уже укладывались спать или сидели за ужином.
По-видимому, этот террор не дошел еще до юга, да {83} и Таганрог был совсем
другого учебного округа (Одесского), потому что приехавший к нам Антон был весел,
жизнерадостен, и то, что он говорил о своей дружбе с учителями, казалось мне
фантастической сказкой. Все мои товарищи и соученики были угрюмы, вечно
оглядывались и смотрели исподлобья. Так насаждались в Московском учебном округе
любовь и уважение к правительству.
В этот период брат Антон познакомился и близко сошелся в Москве с нашим
двоюродным братом Михаилом Михайловичем Чеховым52. Михаил Михайлович был
сыном старшего нашего дяди, Михаила Егоровича, которого, как я упомянул выше, наш
дедушка, Егор Михайлович, выкупившись на волю, отправил в Калугу учиться
переплетному мастерству. Поразительный красавец, очень порядочный человек, добрый и
великолепный семьянин, Михаил Михайлович, наслышавшись от нас об Антоне и еще не
будучи с ним знаком, несмотря на значительную разницу лет (ему было тогда около
тридцати лет), первый написал Антону в Таганрог письмо, в котором предлагал ему свою
дружбу. Между ними завязалась переписка, и только теперь, в этот приезд Антона в
Москву, они познакомились. Михаил Михайлович служил в пресловутом амбаре И. Е.
Гаврилова, был у него самым доверенным лицом и вел компанию с тем приказчиком,
который в повести Чехова «Три года» назвал хозяина «плантатором». Между прочим, этот
самый Михаил Михайлович имел обыкновение, вытянув вперед ребром ладонь, говорить
при всяком случае: «кроме...»
Труднее обстояло дело с возобновлением образования для сестры. За пропуском всех
сроков и за полным отсутствием вакансий ее решительно нигде не принимали, а может
быть, за семейными заботами и перегрузкою в труде или из-за провинциальной
непрактичности мои {84} родители не су-

Михаил Михайлович Чехов с женой Анной Ивановной,
урожд. Бабашевой. Публикуется впервые.
Архив С. М. Чехова. {85}
мели приступить как следует к делу. Но и тут все обошлось благополучно. Сестре удалось
тоже самой определить себя в учебное заведение и кончить курс со званием домашней
учительницы по всем предметам. Затем она поступила на Высшие женские курсы Герье и
успешно закончила и их. С большим восторгом я вспоминаю то время, когда она слушала
таких профессоров, как Ключевский, Карелин, Герье, Стороженко. Я был тогда в старших
классах гимназии, по всем швам сжатый гимназической дисциплиной и сухими
учебниками, – и вдруг, переписывая для сестры лекции, окунулся в неведомые для меня
науки. Скажу даже более, что общение с лекциями сестры определило и дальнейшее мое
образование. Казалось, что от пребывания сестры на Высших женских курсах Герье
изменилась и самая жизнь нашей семьи. Сестра сдружилась с курсистками, завела себе
подруг, они собирались у нас и читали К. Маркса, Флеровского и многое другое, о чем
тогда можно было говорить только шепотом и в интимном кругу. Все эти милые девушки
оказались, как на подбор, интересными и развитыми. Некоторые из них остались нашими
знакомыми до настоящего времени. За одной из них, Юношевой, кажется, ухаживал наш
Антон Павлович, провожал ее домой, протежировал ей в ее литературных начинаниях и
даже сочинил ей стихотворение:
Как дым мечтательной сигары,
Носилась ты в моих мечтах,
Неся с собой судьбы удары,
С улыбкой пламенной в устах...
И так далее.
С другой – астрономкой О. К.53 – он не прерывал отношений до самой своей смерти,
познакомил ее с А. С. Сувориным, и оба они принимали участие в ее судь-{86}бе. Между








