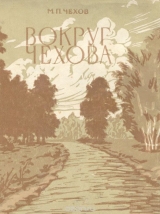
Текст книги "Вокруг Чехова"
Автор книги: Михаил Чехов
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 19 страниц)
председатели и обратился к гостям с приветствием на французском языке. Начались речи с
обеих сторон. Затем – тосты за {208} Россию и Францию, за собратьев по перу, за седьмую
великую державу (то есть за печать) и так далее, а один из русских представителей печати
постучал палкой об стол и, когда водворилась тишина, очевидно в пику «Новому
времени», провозгласил следующий тост:
– Поднимаю бокал за А. С. Суворина и мадам Анго.
– За кого? – спросил не расслышавший Суворин.
– За А. С. Суворина, – поправился писатель, – и за мадам Адан93.

Мих. П. Чехов-студент.
Фотография 1888 г.
Не поняв, в чем дело, оркестр заиграл туш. Русские почувствовали томительную
неловкость, а французы, не зная ни одного слова по-русски, стали неистово аплодировать.
Тяжелое напряжение рассеялось только благодаря цыганам, которые вслед за этим
инцидентом так завопили и затопали ногами, что своим шумом покрыли все русские и
французские голоса.
Не помню, кто именно, но, кажется, тот же Лейкин привел к нам писателя Н. С.
Лескова94. Тогда это был уже седой человек с явными признаками старости и с грустным
выражением разочарования на лице. Он привез с собой в подарок брату Антону
Павловичу свою книжку «Левша» с надписью, но мы давно уже были {209} знакомы с
Лесковым как с писателем по его романам «Соборяне» и «Запечатленный ангел», которые
нам очень нравились. К «Мелочам архиерейской жизни» мы относились как к
юмористическому произведению, а «Некуда» и «На ножах» положительно нас
разочаровали. Эти два романа сильно вооружили в свое время читателей против их автора,
испортили его репутацию, и бедняга Лесков заведомо был причислен к яростным
реакционерам. К старости он сознал свои ошибки, искренне раскаивался в содеянных им
романах, и, когда посетил брата Антона, глаза его наполнились слезами и он сказал:
– Вы – молодой писатель, а я – уже старый. Пишите одно только хорошее, честное и
доброе, чтобы вам не пришлось в старости раскаиваться так, как мне.
В это время он уже исповедовал непротивление злу, был вегетарианцем; своим
ласковым, мягким обращением Лесков произвел на нас трогательное впечатление. Как раз
против нашего дома на Кудринской-Садовой помещалась редакция журнала «Артист».
Издателем его был Ф. А. Куманин, высокий, крупный человек, сопевший при разговоре, за
что брат Антон и прозвал его «Сапегой». В этом «Артисте» печатались пьесы брата
«Медведь», «Предложение» и другие, там же нашли себе приют и два моих водевиля95. По
тому времени это был очень хороший, изящный журнал, в котором принимали участие
лучшие силы. Между прочим, в нем поместила свое первое драматическое произведение
«Летняя картинка» Татьяна Львовна Щепкина-Куперник. Я не знаю в точности, были ли с
нею знакомы раньше мой брат и сестра, но только я лично имел удовольствие
познакомиться с нею именно тогда; ее привел к нам Ф. А. Куманин. Это была
малюсенькая, живая, интересная девушка, очень остроумная. Тогда я торопился с
изучением языков и даже получил от Лики Мизиновой прозвание «Английская
грамматика», так как всегда появлялся сре-{210}ди гостей с учебником в руках, – и меня
сразу же поразило в Татьяне Львовне, тогда совсем еще юной девушке, чуть не
гимназистке, ее основательное знание языков. Она стала бывать у нас, приезжала потом в
Мелихово и в шутку приставала к моей матери, принимавшей это всерьез:
– Мамочка, выдайте меня замуж за вашего Мишу!
Мать слишком была тактична, чтобы вмешиваться в мою судьбу, и не знала, что ей
ответить. Однажды, когда я находился в отсутствии, Татьяна Львовна прислала мне
четверостишие:
Когда же, боль сердец утиша,
Ты, наконец, к нам прилетишь.
О Мишенька, всем Мишам Миша
И лучший Мишенька из Миш?
По мере того как она выступала в печати ее дарование все крепло и развивалось,
пока наконец из нее не получилась переводчица Мольера и Ростана и оригинальная
беллетристка. Я могу с уверенностью сказать, что, путешествуя по всей России и заглянув
почти во все ее углы, я всюду встречал молодежь, которая восхищалась ее произведениями
и цитировала наизусть ее стихи. Я помню, с каким энтузиазмом публика встретила ее
перевод пьесы «Принцесса Греза», ставившейся в столицах и на сценах лучших
провинциальных театров. Декламировались из этой пьесы целые монологи, сочинялись на
ее слова романсы и распевались повсюду. Перу Щепкиной-Куперник принадлежит также и
несколько оригинальных драм, с большим успехом ставившихся в столицах (и, вероятно, и
в провинции, в чем я совершенно не сомневаюсь), причем ее всякий раз шумно вызывала
публика и награждала аплодисментами.
Впоследствии она вышла замуж за известного адвоката Н. Б. Полынова, и для меня
составляло всегда {211} большое удовольствие бывать в их гостеприимном доме. У них я
познакомился со многими писателями, учеными и с людьми, близко стоявшими к
искусству, имена которых сделались украшением энциклопедических словарей.
В один из своих приездов в Мелихово Татьяна Львовна, вместе с Антоном Чеховым,
крестила у наших соседей Шаховских их дочь96, и с тех пор мой брат Антон всегда
величал ее «кумой».
Через Татьяну Львовну я познакомился с артисткой Л. Б. Яворской. Я никогда не был
поклонником ее дарования, особенно мне не нравился ее голос, сиплый, надтреснутый,
точно у нее постоянно болело горло. Но она была женщина умная, передовая, ставила в
свои бенефисы пьесы, как тогда выражались, «с душком», ее любила молодежь, и у нее
определенно был литературный вкус. Во всяком случае, она пользовалась большим
успехом у Корша в Москве и у Суворина в Петербурге, где публика буквально носила ее
на руках. Между прочим, благодаря ей, но без всякой вины с ее стороны, я упустил в
жизни случай, который не повторился уже больше никогда.
Это был период в жизни Антона Чехова, когда работа в «Русской мысли» сблизила
его с членами этой редакции М. А. Саблиным и В. А. Гольцевым. К этой компании
примкнул и И. Н. Потапенко, и в обществе «прекрасной Лики», моей сестры, Танечки
Куперник и других они провели несколько вечеров у Тестова и в «Эрмитаже». Раза два
принимал участие в этих вечерах и я. Это были милые, незабвенные часы. Чехов и
Потапенко были неистощимы на остроты, а слегка подвыпивший В. А. Гольцев говорил
речи, всякий раз начиная их своей стереотипной фразой:
– Позвольте мне, лысому российскому либералу... – и так далее. {212}
Вся эта компания тянулась всегда за Антоном и шла туда, куда предлагал именно он.
Тогда морским министром был назначен адмирал Авелан, и милые собеседники прозвали
Чехова Авеланом, а себя – его эскадрой.
В промежутках «эскадра» собиралась или в «Лувре» у Л. Б. Яворской, или же в
«Мадриде» у Т. Л. Щепкиной-Куперник, так что снова повторилась фраза, сказанная когда-
то Людовиком XIV:
– Нет больше Пиренеев!97
Я находился в глухой провинции98, далеко от всяких железных дорог, когда получил
однажды в январе от брата Антона письмо. Он уведомлял меня, что 12 января, в Татьянин
день, по случаю университетского праздника, большинство самых популярных
профессоров, артистов и представителей прессы предполагает собраться где-нибудь на
частной квартире и без помехи говорить речи и вообще отпраздновать этот день так, «чтоб
чертям жутко было». Брат Антон советовал мне не упускать этого редкого случая,
воспользоваться им, так как это не всегда бывает, приехать в Москву и принять участие в
вечере. Конечно, я обрадовался этому предложению, как манне небесной. Но дело в том,
что это письмо от брата я получил только 11 января, и трудно было надеяться, чтобы, за
дальностью расстояния, я поспел к самому началу вечера Татьяниного дня. Но я не
унывал. Я быстро собрался и поехал. Несмотря на жестокий мороз, я целых 105 верст
проехал в санях до ближайшей железнодорожной станции, затем ехал в вагоне и прибыл в
Москву 12 января вечером, в самый разгар пирушки. Она происходила в квартире
известного педагога Д. И. Тихомирова на Тверской, в доме Пороховщикова, и когда я
вошел, то было шумно, весело и светло, и за громадным столом я увидел весь цвет
тогдашней московской интеллигенции. Профессор К. говорил речь. Не {213} успел я сесть
за стол, как ко мне бросились М. А. Саблин и В. А. Гольцев и стали упрашивать меня,
чтобы я съездил в «Лувр» и привез как можно скорее Танечку Куперник и Яворскую. Все
присутствующие поддержали их.
– Будь добр, роднуша!– упрашивал меня Саблин. – Да как можно скорее! Скажи, что
все мы их ждем!
Отказываться было неудобно, я с неохотой встал из-за стола и, достаточно уставший
с дороги, поехал в «Лувр».
Там мне сказали, что Татьяна Львовна сейчас в театре Корша, но очень просила, что
если за ней пришлют, то чтобы немедленно дали ей знать.
На том же извозчике я поскакал в театр Корша. Я нашел Татьяну Львовну в
директорской ложе и передал ей приглашение на вечеринку. Она тотчас отправилась на
сцену к Яворской, которая в этот вечер выступала в «Даме с камелиями», и я остался в
ложе один. Затем она вернулась и сообщила, что Яворская просит подождать, так как по
случаю Татьяниного дня спектакль должен окончиться очень рано, ей же остается еще
«только умереть» – и затем она готова. С грустью в сердце я просидел целые два акта в
ложе, вместо того чтобы быть на вечеринке и слушать либеральных профессоров. А когда
Яворская, наконец, «умерла», то оказалось, что она была так нервно потрясена от своей
игры, что ей надо было успокоиться и прийти в себя. Театр опустел, погасили огни, а я все
сижу в ложе и жду.
Наконец Яворская пришла в себя, мы вышли втроем на воздух, и она объявила, что
ей еще нужно заехать к себе в «Лувр», чтобы смыть с себя грим и переодеться.
Мы отправились в «Лувр». Был уже двенадцатый час ночи.
А когда мы приехали наконец в дом Пороховщикова {214} к Тихомировым, то
вечеринка уже

Антон Павлович Чехов в конце 80-х годов.
Работа С. М. Чехова, гуашь, 1959.
Публикуется впервые. {215}
окончилась, вся публика разъехалась, и прислуга убирала со стола.
Так кончился для меня многообещавший вечер 12 января 1894 года.
На другое утро я встретился с братом Антоном у него в номере «Большой
Московской». Он посмотрел на меня с сожалением, мотнул головой и сказал:
– Эх ты!..
И больше ничего.
И действительно: эх я!
Был у нас в те времена и еще один знакомый: это – несравненный человек,
профессор политической экономии А. И. Чупров. Его очень любила молодежь, а
слушательницы Высших женских курсов Герье, в том числе и моя сестра Мария Павловна,
увлекались им. Это был необыкновенно порядочный человек, отличавшийся при этом
глубокой ученостью и огромным ораторским талантом. С безграничным участием
относившийся к учащейся молодежи, он вечно за кого-нибудь хлопотал, кого-нибудь
выгораживал и у правительства был на самом худом замечании. Я бывал у него, и мне
прежде всего бросалась в глаза та скромная, даже, пожалуй, бедная обстановка, в которой
он жил. А между тем, как профессор, он получал не мало. Говорили, что он очень
благотворил. Его отличительной чертой было то, что он решительно никому не отказывал
в услуге. Так, когда у меня захворал чахоткой товарищ и клиника отказалась его держать и
уже вызвала с дальнего юга его отца, чтобы он забрал его, как безнадежно больного, и увез
домой, – у этого отца положительно не было ни одной копейки не только чтобы увезти с
собой умиравшего сына, но даже досыта поесть в какой-нибудь грошовой кухмистерской

или столовой. А между тем на одни только билеты на проезд в третьем классе требовалось
для двоих около 40 рублей. Где их было взять? Я набрался храбрости и {216} по-
Кабинет А. П. Чехова в доме на Садовой-Кудринской.
Автолитография С. М. Чехова, 1959.
Гос. музей-заповедник А. П. Чехова в Мелихове.
шел к А. И. Чупрову. Так, мол, и так, помогите, дорогой Александр Иванович! Выручите,
профессор!
Он поправил на себе очки, откинулся на кресле назад и глубоко вздохнул:
– Что ж я могу для вас, голубчик, сделать?– ответил он. – Как раз и у меня-то самого
сейчас денег, как говорится, кот наплакал. Давайте раскинем умом!– Он подумал. – Вот
что, – продолжал он. – Рисковать – так рисковать! Я напишу сейчас записку к миллионеру
Аса-{217}фу Баранову, а вы снесите ее к нему на Новинский бульвар и, ничего не говоря,
суньте ему ее в дверь. Больше ничего!
Я отправился на Новинский бульвар, сунул Баранову записку в дверь и безнадежно
поплелся восвояси. Вечером я получил от Баранова конверт; в нем оказалась записка
следующего содержания: «В кассу Курского вокзала в Москве. Предоставить г-ну Чехову
для двух больных отдельное купе 1-го класса Москва – Таганрог».
На Новинском бульваре жил брат знаменитого драматурга А. Н. Островского, Петр
Николаевич. Когда Антон Павлович писал свою «Степь», А. Н. Плещеев сообщил ему из
Петербурга, что у него есть в Москве друг, именно Петр Николаевич Островский, который
обладает замечательным критическим талантом, но так робок, что боится выступать в
печати. При этом, писал А. Н. Плещеев, это поразительно добрый и образованный
человек. И действительно, вскоре после этого к нам пришел уже пожилой рыжий человек,
который отрекомендовался Петром Николаевичем Островским. Антон Павлович усадил
его, и между ними начался тотчас же чрезвычайно интересный разговор о литературе; я
сидел тут же и слушал его. Когда Петр Николаевич ушел, очень надымив в кабинете
плохой сигарой, то брат Антон Павлович сказал мне:
– Замечательный критик! А сколько погибло цивилизаций и великолепных
произведений искусства только потому, что в свое время не было хороших критиков!
Через несколько времени, окончив свою «Степь», Антон Павлович позвал меня к
себе и вручил мне ее со словами:
– Миша, отнеси это к Островскому, пусть он прочтет! {218}
Я понес рукопись к Петру Николаевичу на Новинский бульвар и имел удовольствие
познакомиться у него с сестрой и матушкой нашего великого драматурга. Меня приняли
очень ласково, причем Петр Николаевич убеждал меня изучать языки, а сестра его,
Надежда Николаевна, расспрашивала меня, в каких детских журналах я сотрудничаю.
Оказалось, что и она тоже пописывала детские рассказы.
Кажется, на другой или на третий день после того, как Чехов послал Островскому
только что законченную рукопись «Степи», Петр Николаевич сам занес к Антону
Павловичу его «Степь» и при ней толстое письмо. Он не вошел к нам в дом, а позвонил и
подал их через дверь, – вероятно, постеснялся из скромности. В конверте оказалась
пространная критика «Степи», которая очень понравилась автору своей деловитостью.
Говоря об Островских, мне хочется не забыть и того, что я знал об отношениях
старших братьев. У Александра и Петра Николаевичей Островских был брат Михаил
Николаевич, министр государственных имуществ, необыкновенный сухарь и самый
заядлый петербургский чиновник. Антон Павлович любил рассказывать про него
следующую историю.
– Бывало, драматург А. Н. Островский после представления какой-нибудь своей
пьесы в Александринском театре прображничает с актерами всю ночь и, когда уже
поздним утром возвращается с перегаром домой, вдруг вспоминает, что у него в
Петербурге есть брат-министр, которого по родству следовало бы навестить. Он
приказывает извозчику ехать прямо в министерство. Михаил Николаевич уже у себя в
кабинете. Докладывают. «Проси». Входит прокутивший всю ночь драматург.
Не отрываясь от бумаг, министр указывает ему на кресло и продолжает подписывать.
{219}
– Да, брат Миша, – начинает драматург, – и кутнули же мы здорово! Горбунов
сочинил такой, брат, монолог, что пальчики оближешь. А такой-то... черт его подери, был в
ударе и такое рассказывал, что до сих пор животики от смеха болят. А потом поехали к
цыганам... А после этого всей компанией отправились на Новую деревню и, чтобы не
мутило, выпили у какого-то лавочника по ковшу огуречного рассольцу. .
Министр резко откидывается на спинку кресла, бросает перо и сухо обрывает брата:
– Ничего я не вижу, Саша, в этом хорошего!
Драматург поднимается и с укоризной отвечает:
– А что ж, по-твоему, эти твои бумаги лучше?
И братья расстаются.
Из встреч в корнеевском доме я не забуду и следующую. Однажды вся наша семья
сидела наверху (мы кончали обедать), когда вдруг внизу послышался звонок. Сестра кого-
то ожидала, вышла из-за стола и стала спускаться вниз. Я ее опередил и, так как
пришедшему никто не отворял, сам отпер парадную дверь и впустил гостя. Это был
невысокого роста человек с окладистой широкой бородой.
– Я Короленко... – сказал он.
Боже мой! Короленко! Вот неожиданность!
Мы все уже давно были знакомы с его произведениями, увлекались ими, а «Сон
Макара» я знал чуть не наизусть.
В это время и брат Антон стал спускаться по лестнице вниз. Они познакомились, и
мы трое вошли в кабинет.
Бывает иногда так, что совершенно чужие, незнакомые люди вдруг сходятся сразу, с
первого же слова. Так произошло и на этот раз. Короленко очаровал нас своей простотой,
искренностью, скромностью и умом. Разговорились. Я жадно слушал, как, он рассказывал
о своей {220} ссылке в Сибирь, куда не только Макар не гонял своих телят, но даже и
ворон не залетал. А когда после долгих лет изгнания он получил наконец право
возвратиться в Россию и, добравшись до Тюмени, сел на поезд железной дороги, то так
обрадовался вагону, что стал громко при всех рыдать.
– Сижу и плачу. . – рассказывал он. – Пассажиры думают, что это я с горя, а я,
наоборот, от радости.
Он засиделся до вечера. Антон Павлович пригласил его наверх, где наши мать и
сестра уже хлопотали около самовара, и мы и там продолжали его слушать.
Приезжал он к брату Антону и в Ялту после исключения М. Горького из числа
академиков; оба они обсуждали вопрос о том, как бы устроить так, чтобы в виде протеста
отказались от своих академических мест и все остальные почетные академики. Кажется,
они встречались еще и в Нижнем Новгороде и в Петербурге. Я очень сожалею, что судьба
не дала мне случая столкнуться вновь с этим замечательным человеком. Но воспоминание
о первом знакомстве с ним не изгладится из моей памяти никогда. {221}
VIII
Как осуществлялась поездка Антона Павловича на Сахалин. – Возвращение. – В
Туле на вокзале. – Бурят-иеромонах и мангусы. – Чехов в Европе. – На даче под
Алексином. – Жизнь в Богимове. – В работе над «Дуэлью». – Споры Антона Павловича с
Вагнером на тему о вырождении.
В апреле 1890 года Антон Павлович предпринял поездку на остров Сахалин. Поездка
эта была задумана совершенно случайно. Собрался он на Дальний Восток как-то вдруг,
неожиданно, так что в первое время трудно было понять, серьезно ли он говорит об этом
или шутит.
В 1889 году я кончил курс в университете и готовился к экзаменам в
государственной комиссии, которая открылась осенью этого года, и потому пришлось
повторять лекции по уголовному праву и тюрьмоведению99. Эти лекции заинтересовали
моего брата, он прочитал их и вдруг засбирался. Начались подготовительные работы к
поездке. Ему не хотелось ехать на Сахалин с пустыми руками, и он стал собирать
материалы. Сестра и ее подруги делали для него выписки в Румянцевской библиотеке, он
доставал оттуда же редкие фолианты о Сахалине. Работа кипела. Но его озабочивало то,
что его, как писателя, не пустят на каторгу или же покажут {222} ему не все, а только то,
что можно показать. Антон Павлович отправился в январе 1890 года в Петербург
хлопотать о том, чтобы ему был дан свободный пропуск повсюду. С другой стороны, его
беспокоило то, что его поездке могут придать официальный характер. Обращение к
стоявшему тогда во главе главного тюремного управления М. Н. Галкину-Враскому не
принесло никакой пользы100, и без всяких рекомендаций, а только с одним
корреспондентским бланком в кармане он двинулся наконец на Дальний Восток.
В апреле мы проводили его в Ярославль. На вокзале собрались вся наша семья и
знакомые, причем Д. П. Кувшинников повесил ему через плечо в особом кожаном футляре
бутылку коньяку со строгим приказом выпить ее только на берегу Великого океана (что
Чехов потом в точности и исполнил).
Была поздняя, холодная весна. Чехов должен был доехать до Казани по Волге, затем
по Каме добраться до Перми и оттуда по железной дороге до Тюмени, а потом продолжать
весь свой путь через всю Сибирь на тарантасе и по рекам. Великой Сибирской железной
дороги тогда еще не существовало, и с неимоверными трудностями и лишениями;
застигнутый в дороге половодьем и распутицами, брат Антон добрался наконец 11 июля
до Сахалина, прожил на нем более трех месяцев, прошел его весь с севера на юг101, первый
из частных лиц сделал там всеобщую перепись населения,102 разговаривал с каждым из 10
тысяч каторжных и изучил каторгу до мельчайших подробностей. Проехал он на колесах
свыше четырех тысяч верст, целые два месяца при самых неблагоприятных условиях.
Как ни было неожиданно решение брата Антона ехать на Сахалин, но оно было
твердо и крепко основывалось на его глубоком убеждении в том, что он должен ехать туда

во что бы то ни стало. Он не был уверен в {223} том, что эта его поездка даст какой-
нибудь ценный вклад в науку или
Сахалин. Александровск. Дом, где жил А. П. Чехов.
Акварель с угольным карандашом С. С. Чехова. 1958.
Гос. музей-заповедник А. П. Чехова в Мелихове.
в литературу, но рассчитывал, что за всю эту поездку для него выпадут два-три дня, о
которых он будет потом с горечью или с восторгом вспоминать всю жизнь. Но, по-
видимому, главной причиной его поездки на Сахалин было осознание того, что, как он
писал А. С. Суворину, «Сахалин – это место невыносимых страданий, на какие только
бывает способен человек вольный и подневольный... Жалею, что я не сентиментален, а то
я сказал бы, что в места, подобные Сахалину, мы должны ездить на поклонение, как турки
ездят в Мекку. . Из книг, которые я прочел и читаю, видно, что мы сгноили в тюрьмах
миллионы людей, сгноили зря, без {224} рассуждения, варварски; мы гоняли людей по
холоду в кандалах десятки тысяч верст, заражали сифилисом, развращали, размножали
преступников и все это сваливали на тюремных красноносых смотрителей. Теперь вся
образованная Европа знает, что виноваты не смотрители, а все мы...» (9 марта 1890 года).
Отправляясь в такой дальний путь, Антон Павлович и все мы были очень
непрактичны. Я, например, купил ему в дорогу отличный, но громоздкий чемодан, тогда
как следовало захватить с собой кожаный, мягкий и плоский, чтобы можно было на нем в
тарантасе лежать. Нужно было взять с собою чаю, сахару, консервов, – всего этого в
Сибири тогда нельзя было достать. Необходимо было захватить с собою лишние валенки
или, наконец, те, которые им были взяты с собою, предварительно обсоюзить кожей. Но
всего этого мы не сделали. А между тем нашего путешественника ожидали впереди
«страшенный холодище» днем и ночью, необыкновенное разлитие рек, борьба «не на
жизнь, а на смерть» с препятствиями, полное отсутствие еды в дороге, кроме «утячей
похлебки», а затем – глубокая грязь, в которой он «не ехал, а полоскался», и далее – жара,
пыль и удушливый дым от громадных лесных пожаров. Легочный процесс тогда еще не
особенно сильно давал себя знать. Привыкший к простому образу жизни, умевший
удовлетворяться лишь самым малым и не жаловавшийся ни на что, Антон Чехов бодро
продолжал свой путь.
В его отсутствие судьба забросила меня в город Алексин Тульской губернии,
расположенный на высоком берегу Оки. Это был тогда жалкий городишко, только в 700
жителей, но отличавшийся великолепным климатом. Окрестности его были
очаровательны. Вид с кручи, с того места, где находится собор, вниз на Оку, на
протянувшийся через нее, как кружево, железнодорожный мост, {225} на поселок со
станцией на том берегу, а главное, на большую дорогу, обсаженную березами, и рядом с
ней на железнодорожное полотно, в особенности когда шел поезд, – не поддается
описанию. По ту сторону у самой станции, на лужку, некто Ковригин выстроил три дачки.
Из одной дачи был виден весь железнодорожный мост и круто поднимавшийся
противоположный берег Оки. Я и не воображал тогда, что эта дачка сыграет в нашей
жизни роль.
8 декабря со скорым поездом в пять часов вечера Антон Чехов возвратился в Москву.
Еще из Одессы он дал мне в Алексин телеграмму, чтобы я встретил его именно в Москве
вместе со всеми родными. Так как мы поджидали его к десятому, а он приехал на три дня
раньше, то пришлось спешить, и мы с матерью, которая в это время гостила у меня в
Алексине, решили выехать к нему навстречу в Тулу, так как добраться до Москвы раньше
его мы все равно не успели бы. Когда мы подъехали к Туле, скорый поезд, на котором ехал
Антон, уже прибыл с юга, и брат обедал на вокзале в обществе мичмана Глинки,
возвращавшегося с Дальнего Востока в Петербург, и какого-то странного с виду человека-
инородца, с плоским широким лицом и с узенькими косыми глазками. Это был главный
священник острова Сахалина, иеромонах Ираклий, бурят, приехавший вместе с Чеховым и
Глинкой в Россию и бывший в штатском костюме нелепого сахалинского покроя. Антон
Павлович и Глинка привезли с собою из Индии по комнатному зверьку мангусу103, и, когда
они обедали, эти мангусы становились на задние лапки и заглядывали к ним в тарелки.
Этот сахалинский иеромонах с плоской, как доска, физиономией и без малейшей
растительности на лице и эти мангусы казались настолько диковинными, что вокруг
обедавших собралась целая толпа и смотрела на них разинув рты. {226}

Письмо Мих. П. Чехова к А. П. Чехову из Святых Гор Харьковской
губернии на Сахалин, на английском языке104.
Публикуется впервые. Архив С. М. Чехова. {227}

Сахалин. Александровск. Порт. Акварель С. С. Чехова, 1958.
Дом-музей А. П. Чехова в Ялте.
– Это индеец?– слышались вопросы. – А это обезьяны?
После трогательного свидания с писателем я и мать сели с ним в один и тот же вагон,
и все пятеро покатили в Москву. Оказалось, что, кроме мангуса, брат Антон вез с собой в
клетке еще и мангуса-самку, очень дикое и злобное существо, превратившееся вскоре в
пальмовую кошку, так как продавший ее ему на Цейлоне индус попросту надул его и
продал ее тоже за мангуса.
В Москву мы приехали уже при огнях, и не успел наш поезд подойти к вокзалу, как в
вагон ворвалась дама с криками: «Где сын? Где сын?» – и бросилась обнимать Глинку. Это
была его мать, баронесса Икскуль, выехавшая к нему навстречу из Петербурга.
С вокзала поехали домой на Малую Дмитровку, в {228} дом Фирганга: брат Антон с
матерью впереди, а я с «индейцем» позади. Почтенный бурят остановился у нас. По
приезде спустили мангуса с веревочки, чтобы дать ему отдохнуть с дороги, и отворили
дверцу клетки пальмовой кошки. Она тотчас же выскочила из нее и забилась глубоко под
библиотечный шкаф, из-под которого вылезала потом очень редко, да и то большею
частью только по ночам, чтобы есть. Мангус с первых же минут почувствовал себя в
Москве как дома. Он сразу вообразил себя хозяином, и не было никакой возможности
унять его любопытство. Он то и дело вставал на задние лапки и совал свою острую
мордочку положительно повсюду, в каждую щелочку, в каждое отверстие. Ничего не
ускользало от его внимания. Он выскребывал грязь из узеньких щелочек в паркете,
отдирал обои и смотрел, нет ли там клопов, прыгал на колени и совал нос в стаканы с
чаем, перелистывал книги и залезал лапкой в чернильницу. Раза два или три он
поднимался на задние лапки и заглядывал в горящую лампу сверху. Когда он оставался в
комнате один, то начинал тосковать, и когда к нему возвращались, он искренне радовался,
как собака. К сожалению, сожительство с ним в тесной квартире, да еще зимой, и в
особенности с пальмовой кошкой, на которую он ожесточенно нападал, оказалось очень
неудобным. В своих экскурсиях за мухами, пауками и вообще из-за необыкновенного
любопытства мангус так много портил вещей, так много рвал одежды, обоев и обуви, а
главное – ставил Антона Павловича в такое подчас неловкое положение перед
посещавшими его знакомыми, что все мы с нетерпением ожидали лета, когда можно будет
выехать на дачу и предоставить мангусу свободу на лоне природы. Когда к нам приходил
кто-нибудь из гостей и оставлял в прихожей на окошке шляпу или перчатки, можно было
смело ожидать, что мангус найдет способ туда проникнуть, вывернуть наизнанку {229}
перчатки и разорвать их и сделать кое-что неприличное в цилиндр.

Что же касается пальмовой кошки, то она так и не привыкла к человеку. Все время
она пряталась, уединялась, а когда приходили к нам полотеры и, разувшись, начинали
натирать полы, она вдруг неожиданно выскакивала из-под шкафа и вцеплялась полотеру в
босую ногу. Тот ронял щетку и воск, хватался за ногу, громко взвизгивал и восклицал:
– А чтоб ты издохла, проклятая!
Квартира на Малой Дмитровке была очень тесна, и когда я приезжал, поневоле
приходилось иной раз устраиваться на ночлег на полу. Бывало, нечаянно дрыгнешь во сне
ногой под одеялом, и вдруг тебе в ногу впивается острыми зубами какой-то нечистый дух:
это выползала ночью из-под шкафа пальмовая кошка, забиралась, чтобы погреться, ко мне
под одеяло и больно, до крови кусалась.
Брат Антон привез с собою с Сахалина гипсовые группы, исполненные местным
каторжником-скульптором и изображавшие сцены из повседневного сахалинского быта:
телесное наказание, приковывание провинившегося к тачке и тому подобное; к
сожалению, эти группы были сделаны из плохого материала и скоро рассыпались сами
собой. Конечно, Антон Павлович рассказывал о своих впечатлениях, и в особенности мне,
по ночам, так как за теснотою квартиры мы спали вместе в одной комнате. Между прочим,
на меня произвели впечатление три сюжета. Когда он возвращался обратно через Индию
на пароходе «Петербург» и в Китайском море его захватил тайфун, причем пароход шел
вовсе без груза и его кренило на 45 градусов, к брату Антону подошел командир
«Петербурга» капитан Гутан и посоветовал ему все время держать в кармане наготове
револьвер, чтобы успеть покончить с собой, когда паро-{230}ход пойдет ко дну. Этот
револьвер теперь хранится в качестве экспо-
Дом Фирганга в Москве на Малой Дмитровке (ныне ул. Чехова),
где жили Чеховы с 1890 по 1892 г.
Этюд (масло) Мар. П. Чеховой.
Дом-музей А. П. Чехова в Москве.
ната в Чеховском музее в Ялте. Другой случай – встреча с французским пароходом,
севшим на мель. «Петербург» по необходимости должен был остановиться и подать ему
помощь. Спустили проволочный канат – перлень, соединили его с пострадавшим судном,
{231} и когда стали тащить, канат лопнул пополам. Его связали, прицепили снова, и
французский пароход был спасен. Всю дальнейшую дорогу французы, следовавшие
позади, кричали «Vive la Russie!»* и играли русский гимн; и затем оба парохода








