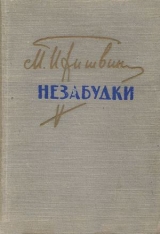
Текст книги "Незабудки"
Автор книги: Михаил Пришвин
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 16 (всего у книги 17 страниц)
Глава 33
Душа природы
Искусство и наука – будто двери из мира природы в мир человеческий: через дверь науки природа входит в мир человека, и через дверь искусства человек уходит в природу, и тут себя сам узнает, и называет природу своей матерью.
Дети, все дети, и вы, настоящие наши физические дети, и те взрослые, пожилые и вовсе старики, кто сохраняет в душе себя самого, как своего ребенка!
Все мы когда-то вышли на свет из темной утробы нашей матери. Все мы вышли из тьмы, и все мы движемся к свету, вместе с нами совсем рядом из темной земли поднимаются к солнцу деревья, былинки, соломинки, цветы и вместе с нами живут.
Теплый пар продожденной, измученной холодной земли даже и в Москве можно понять.
После обеда мы выехали и на полпути поставили машину к обочине, сели на опушке леса. Все летние птички пели, и все пахло. Мне было так, будто вся природа спит, как любящая мать, а я проснулся и хожу тихонько, чтобы ее не разбудить.
Но она спит сейчас тем самым сном, как любящая мать, спит и во сне по-своему все знает про меня, что вот я запер со стуком машину, перепрыгнул через канаву и теперь молча сижу, а она встревожена – куда он делся, что с ним.
Вот я кашлянул – и она успокоилась: где-то сидит, может быть, кушает, может быть, мечтает.
– Спи-спи, – отвечаю я потихоньку, – не беспокойся!
Кукушка далеко отозвалась, и эта кукушка, и зяблики, и цвет земляники, и кукушкины слезки, и вся эта травка так знакомы с детства, все, все на свете – сон моей матери.
Матушка, дорогая, спи-спи еще больше, еще лучше. Тебе так хорошо, ты улыбаешься! Начался теплый июнь, трава поднимается, рожь колосится, довольно, довольно ты мне всего дала, спи, отдыхай, а мы позаботимся.
А может быть, вся природа вокруг меня – это сон? Это кто-то спит… Везде и всюду: в лесу, на реке, и в полях, на дороге, и в звездах, и на заре вечерней и на утренней – все это – кто-то спит. И я всегда, как «выхожу один я на дорогу». Но спит это существо «не тем холодным сном могилы», а как спит моя мать. Спит и слышит меня.
Так и вся наша мать-природа, и я ее младенец. Меня она чувствует и слышит во сне и, по-своему все понимая, знает, и тоже, бывает, вдруг привидится ей, что я попал в страшную беду. Тогда мать моя поднимается, и в природе начинается гроза.
Все лучшее дано мне в нерукотворной природе. И когда мне надо, я замираю в лесу, так притаиваюсь, так затихаю, что вижу, как поднимаются прижатые зимой травы, слышу, как трескается почка и как, прыгая, шлепается первая проснувшаяся лягушка. Я все это собираю и приношу туда, где я сам расту, сам живу, сам, как травы, поднимаю слои слежавшихся надо мной прелых листиков.
Сегодня я прошу, чтобы мне было легче подниматься и расти, легче было в тех усилиях, которыми приходится поднимать на себе тяжкое прошлое.
Я не потому прошу легкого вместо тяжкого, чтобы скорее выпрыгнуть, раньше всех показаться на свет, а только потому, что, истратив много труда, начинаешь переоценивать свое значение, гордиться перед нижестоящими и питать злое к вышестоящим и легко вырастающим.
Я прошу: улыбнись мне, матушка, и сдунь с меня, желтенького, старые тяжелые листки… Вспомни, сколько раз соблазнялось сердце мое величием трудного и сколько раз оно не пошло на соблазн!
* * *
Когда просыпаюсь, спешу скорей открыть занавеску и поскорей узнать, что там делается, – открываю занавеску на окне, все равно как перевертываю страницу неожиданной новой захватывающей книги.
Березовый сок. Вечер теплый и тихий, но вальдшнепов не было. Заря была звукоемкая.
Вот теперь больше не нужно резать березку, чтобы узнать, началось ли движение сока. Лягушки прыгают – значит, и сок есть в березе. Тонет нога в земле, как в снегу, – есть сок в березе. Зяблики поют, жаворонки и все певчие дрозды и скворцы – есть сок в березе.
Мысли мои старые все разбежались, как лед на реке, – есть сок в березе.
День прошел, как самый большой праздник, чего стоит жизнь одного только моего окна: какими чудесными узорами разукрасил его мороз поутру, как от солнца протаяла солнечная серединка, потом исчезло все и на краях, а вечером опять заузорилось. Так и весь день, как окно: в середине пламенеет воздух, плавится снег, и выступает вода на дороге, а утром и вечером все обрамляется легкоморозными зорями. День, как в раме, день, как окно в грядущее.
Природа есть родина всех талантов, начиная от росинки солнца, сверкнувшей всеми огнями, кончая талантами, переходящими в историю культуры.
Мое настоящее искусство – живопись, но я не могу рисовать, и то, что должно бы быть изображено линиями и красками, я стараюсь делать словами, подбирая из слов цветистые, из фраз – то прямые, как стены древних храмов, то гибкие, как в завитках рококо. Что же делать-то? При усердии и так хорошо.
А может быть, так и все художники работают мастерством чужих искусств, пользуясь силой родного? Молчаливый поток родства, продолжающий мир и иллюзию его.
Гляжу на лес, засыпанный снегом, расцвеченный лучами заходящего солнца, и мне возвращается старая душевная мысль о том, что удержать эту красоту можно только красками и что тут все в красках дело. А раз только в красках, то, значит, существо-то неуловимо, и все только кажется, и это «кажется» для художника является существом.
Апрельский свет – это темно-желтый, из золотых лучей, коры и черной, насыщенной влагой земли. В этом свете мы теперь и ходим.
Бывает, лежит, как первозданный порфир, красный мох большими глыбами, на глыбе – березка, а крепкая темная зелень брусники, облитая росой, блестит литым серебром.
Мне принесли белую водяную лилию. Я дождался, когда солнечный луч попал ко мне в окно и поставил стакан с купавой против луча.
Тогда желтое внутри цветка вспыхнуло как солнце, а белые лепестки стали так ярко белы, что неровности бросили синие тени, и я понял весь цветок, как отображение солнца на небе.
Долго смотрел на прекрасный цветок и затосковал по воде.
* * *
Не один человек, но вся природа и в ней каждый род, даже род атомов, протонов и всяких еще более мелких частиц материи, таит в себе носителя лица. В материи нет ничего мертвого, в ней все живое.
Предрассудок времени. Жизнь солнца настолько больше жизни отдельного человека, что в отношении к человеку какому-нибудь оно – вечность. А если бы у солнца было сознание, то человек весь даже для него был бы не больше шевелящейся плесени. Следовательно, длящаяся в веках повторяемость одного и того же явления, вроде восхода солнца, есть только с точки зрения существа с укороченным веком. С точки зрения какого-нибудь великого в отношении нашего солнца светила (как велико солнце в отношении человека) это солнце – лишь на одно вселенское мгновение вспыхнувший вертящийся клубок перегорающего металла.
Итак, длительности повторений, как нам кажется, в природе вовсе нет и быть не может. Это есть даже не реальность отношения нашего, а, скорее, настроение от усталости (для молодежи нет повторяемости, для старости все повторяется).
Понятие «законы природы» включают в себя нашу ограниченность восприятия жизни времени: на наш век солнце всходит и заходит, как ему положено «законом». И мы пользуемся этим «законом», считаем часы, минуты, секунды.
Но сущность нашей жизни совершается не по часам и законам. И все в природе неповторимо, все беззаконно и совершается в первый и в последний раз… Весной света мы даже и совсем забываем о времени, нам кажется, будто солнце не по закону пришло в повторении, а единственный раз.
Можно подходить к природе с тем, чтобы законы открывать, но можно открывать и беззакония: то, что случается единственный раз и больше уже никогда не повторится. Это чем отличается один человек от другого и носит название «я». Единственный раз это «я» пришло в мир, и больше никогда не придет. Но точно так же и день придет и уйдет: другого точно такого дня не повторится, и «пара» дней – это бессмыслица.
* * *
Пусто никогда не бывает в лесу, и если кажется пусто – сам виноват.
Вошел утром я в лес, и удивился, и обрадовался – сколько чудес совершилось в одну майскую ночь без меня: как позеленились дорожки, как подросли свечи побегов на молодых соснах, как возмужали березки, сколько лужиц закрылось вырастающей из-под них ярко-зеленой травой.
И так много, много всего, и все без меня, все делалось само собой на радость и удивление. И я радовался и удивлялся этому миру, где могут создаваться прекрасные вещи без всякого личного моего участия.
Но в том же мире есть другие вещи, растущие только во мне и вырастающие только из меня и непременно в моем присутствии. Я знаю их хорошо в моем томлении духа, в страданиях, в ожидании лучшего, но никто бы не знал об этих страданиях, если бы они, вырастая, не встретились бы через меня с тем прекрасным в природе, что создалось без меня.
Лес берегами, как руками, развел – и вышла река.
Такое задумчивое утро, что кажется, будто и петух кричит тем самым словом, какое держишь в уме.
Внутренняя жизнь природы – это я, или душа человека, и если надо что-нибудь в природе понять, то надо просто углубиться в себя, в то же время не выпуская из вида внешнего облика того, что захотелось в природе понять.
Мальчик спрашивал меня: почему мы весной не любим зиму, зимой осень, нет того, чтобы постоянно и одно и то же любить, отчего это так? И я маленький спрашивал себе тоже вечную игрушку, чтобы никогда не ломалась, но мне отвечали, что такой игрушки не бывает.
Так мы растем: мы не знаем, что вечная игрушка, вечное время года в нас самих заложено, и только рост бывает в разной среде, и в этой разной среде мы по-разному отражаемся.
С самого детства и до старости остается человек тем, кем он родился, но, как в лесу ель малая становится высокой, так и мы перемещаемся из разных слоев воздуха над землей все выше и выше.
Жизнь – борьба, но только разная бывает борьба и разные люди. Бывает борьба весны с зимой, когда знаешь, что, какая бы ни была страшная борьба, все кончится к хорошему и начнется новая прекрасная жизнь. Такими бывают и весенние победные ручьи и бывают весенние люди. А то борется лето с зимой, и бывают осенние хмурые люди, борются за жизнь, но знают наперед, что им не победить.
Какой еще может быть вопрос, – все мы вышли из этой борьбы и в нас постоянно происходит то же самое, но только нам не видно, потому что все происходит в себе.
Весной, как бы ни было плохо в природе, какой бы ни был тусклый день, – все равно весь день так не простоит и переменится к лучшему: тебе тут делать нечего, садись в седло, сложи поводья и знай, что приедешь к хорошему. Осенью другое дело, тут все зависит от тебя самого: какое ты запас богатство, как ты его в себе доберег…
Каждую весну и каждую осень человек поэтически переживает и свое собственное рождение, и умирание.
Синяя тишина. Вчера десять и больше раз начинался дождь, и я уже не обращал на него внимания и ходил с Кадо по дождю.
В промежутках между дождями было так тихо и темно, что каждое дерево как будто оставалось наедине само с собой, и все можно было видеть у них, даже самое тайное.
Плакучие березы опустили вниз все свои зеленые косы, а в елках нависла синяя тишина.
Тоска в душе человека соответствует в природе осеннему мелкому дождю, необходимому при посеве озимых. После некоторого времени, которое нужно пережить, всхолят крепкие озими. И в душе человека после тоски…
* * *
К природе нельзя подойти без ничего, потому что слабого она сию же минуту берет в плен и разлагает, поселяя в душу множество грызущих червей. Природа любит пахаря, певца и охотника.
Чувство природы оценивается только силой. Если это слабое чувство, то оно является чем-то вроде вкусного соуса любующихся дачников, если же оно сильное чувство, то всегда имеет косвенное отношение к другому человеку.
Горе наше, что люди цветут не как деревья каждый год, а только раз в жизни, и все в разное время, и у каждого человека своя весна. Вот почему, когда вся природа в мае цветет, на человека грустно смотреть – так он сер кажется в это время. И разодетые дачники своим нарядом не создают весну: не народ весну делает.
Вещи, собранные в моей московской квартире, имеют один недостаток: они не мои. Моих вещей как-то вообще нет, но в лесу деревья, цветы на лугах, облака на небе – это все мое.
Сегодня было тихое морозное утро. Я любовался впервые горами от первого легкого разлива света до тех пор, пока не стал свет белый, и день белый, и горы встали белые в славе.
Горы, горы! Два месяца я буду смотреть на вас с этого места, и каждый день по-разному вы будете играть мною, часто определяя на весь день мое настроение… Сегодня утром перед окном земля белая поднимается к небесам. На лесах туман рассек все черное белой полосой и оставил вверху черные зубчики леса, пилой своей пересекающие бок ближайшей горы с вечным снегом. Но гора эта закрывает еще более высокий Эльбрус.
Да, так и у гор, как у людей: очень часто небольшие закрывают собой высочайшие, и надо сделать лично большое усилие, лично совершить трудный путь, чтобы увидать вершины во всей их свободной и ничем не заслоненной красоте.
* * *
О человеке, предчувствуя с тревогой и любовью его трагедию, никогда нельзя сказать, что не ошибешься, что не кончится все при помощи его хитрости комедией; в природе этого «от великого до смешного один шаг» – совсем нет.
…Так что можно сознательно искать в природе явления, вполне соответствующие явлениям в душе человека, и это будет путь не только заправки искусства, но и знания (здорового знания, потому что в природе содержится только чистое и здоровое).
Никто не таится так, как вода, и только сердце человека иногда затаивается в глубине и оттуда вдруг осветится, как заря на большой тихой воде. Затаивается сердце человека – и оттого свет..
Ночью было продолжение мысли о возвращении героев в себя и перешло на всю поэзию: что поэзия, погуляв на людях, может вернуться к себе, в свой дом и служить себе самой, как золотая рыбка. Тогда все, что было в мечте, как дружба, любовь, домашний уют, может воплотиться: явится друг, явится любимая женщина, устроится дом, и все выйдет из поэзии, возвращенной к себе.
Я могу об этом свидетельствовать: в моем доме нет гвоздя, не тронутого рукой любимой женщины. Так, может быть, со временем и весь желанный мир, вся природа войдет в меня и будет со мной.
Закат солнца. Нарочно не спряталось совсем, а остался глазок, – солнце сказало себе: «Подожду, хоть одним глазком на все погляжу, как-то живете без меня»
…Все цветет. Так все роскошно вокруг и так много всего. Что душа моя – глиняный кувшин – не вмещает, и все льется через край из моего кувшина.
Возле опушки южной слегка зеленеет дорожка, и кто бы ни прошел, тоже сразу заметит и скажет: «Зеленеет дорожка». Сколько рождается в этом, и как мала душа моя, чтобы вместить в себя всю радость…
Вот почему я выхожу из себя и записываю сегодня для всех: «Зеленеет дорожка, друзья мои!»
Глава 34
Деревья
Может быть, лучшие мечты человека родились в растительной половине его души. Растение – это покой и задушевность, – это Данное; животное – это движение, действие, – это Соз-данное.
Да, мы разделяемся на тех, кто производит что-нибудь, и на тех, кто этим пользуется: одни создают музыкальные концерты, другие едят под музыку. И это вечное разделение, возможно, перешло в нас от разделения на растения и животных.
* * *
Жизнь – это борьба за бессмертие, опушки старых лесов покрыты, как щеткой, молодой порослью: старые передали молодым дело борьбы за жизнь, и молодые так живут, будто они родились совершенно бессмертными. Тут борьба совершается без лозунгов, без идей: на опушке леса величайшее из дел совершается в стыдливом молчании.
Создавая парк, мы плачем об утраченном лесе, и когда осенью нам кажется, будто все деревья плачут, то это деревья от нас взяли свои слезы: плачут они о потерянном счастье дикого леса. Но мы знаем, что если плачут и вправду они, то это мы их научили, и это от нас они взяли плакать о чем-то прекрасном и навсегда утраченном и весной радоваться в ожидании чего-то такого прекрасного, чего никогда на свете и не было.
Деревья знают только о том, что было, но только человеческая душа борется за то, чего не было.
Сейчас совершается у елок опыление, семенные елки сейчас стоят желтоватые от пыли. Наверно, несколько миллионов пылинок «пропадает» на одну, вошедшую в процесс оплодотворения семян в шишке.
Сейчас я начинаю думать, что миллионы пылинок, не нашедшие употребления, вовсе не пропадают, а живут, объединенные единством стремления к продолжению жизни. Единственная оплодотворяющая пылинка служит не так для оплодотворения, как для объединения всех: каждая из них стремится к одному и тому же. Не только пылинки, не только икра, но и наши слова направлены к чему-то одному: к слову, побеждающему время….
В мире совершается борьба за единство и всей совокупности множества – в единстве за жизнь, за ее продолжение, за ее вечность.
Как это можно смотреть на выразительные, старые, высокие деревья и не увидеть в них жизнь всего человека, каким он смотрится из-за нашей спины в тихие заводи ручьев, рек и озер?
Тайна жизни вся скрыта в маленьком семени: было маленькое семя ели, это семя раскрыло теперь все заложенные в него возможности, и по срезу огромного ствола я считаю годовые круги.
В этом и человеческая сложная жизнь ничем не отличается от дерева: из нас тот высший человек, кто лучше всех других раскрыл все заложенные в себе самом возможности.
Как нет на земле безвоздушного пространства, так нет и полного молчания. Если же всякий звук стихает, то деревья, кусты, облака, а то и запахи начинают говорить.
Так однажды весной я слышал в аромате почек благоухающую беседу березы с черемухой.
Прочитав прекрасную книгу, я думаю: вот я ее в день прочитал, а ведь чтобы написать ее, он истратил всю жизнь!
Выслушав весной первый зеленый шум у березы, я говорю: чтобы так прошуметь, ведь она полвека росла.
Лесная книга дается только тем, кто хочет читать ее без всякой ощутимой пользы для себя или корысти, даже нужен тебе гриб или орех, и то будет мешать тебе, и не хватит внимания вникнуть в ход лесной жизни.
* * *
Как распускаются разные деревья. Листики липы выходят сморщенные и висят, а над ними розовыми рожками торчат заключавшие их створки почек.
Дуб сурово развертывается, утверждая свой лист, пусть маленький, но и в самом младенчестве своем какой-то дубовый.
Осинка начинается не в зеленой краске, а в коричневой и в самом младенчестве своем монетками, и качается.
Клен распускается желтый, ладошки листа, сжатые, смущенно и крупно висят подарками.
Сосны открывают будущее тесно сжатыми смолисто-желтыми пальчиками. Когда пальчики разожмутся и вытянутся вверх, то станут совершенно как свечи.
Внизу, на земле, вся лиственная мелочь показывает, что и у нее такие же почки, как у больших, и в красоте своей они внизу ничуть не хуже, чем там, наверху, и что вся разница для них во времени: придет мое время, и я поднимусь.
В золотистых оранжевых сорочках рождаются новые веточки елки, и когда они выходят, сороки летят и цепляются за невидимые паутинки и тревожат напрасно всех лесных пауков.
Новорожденные ветки, светло-зеленые на темной старой зелени, частые, изменяли весь вид угрюмого дерева.
Но и в такие солнечные дни эти елки сохраняют свое непокорное наивному счастью лиственных деревьев достоинство.
Ранней весной от солнца еловый лес зеленеет, но, когда береза распустится, он становится еще чернее, чем был, как будто по березе понял, что не стоит вообще зеленеть на земле.
А березку ничего не смущает, как зеленое воздушное видение стоит, скрывая свой белый ствол в еловой черноте.
Молодые елочки маленькие дают прирост лапками светло-зелеными, в сравнении с основной темной зеленью ели почти белыми.
На эти белые лапки у совсем крошечных елок смешно смотреть так же, как на лапищи маленьких щенят.
До того хорош бобрик частых еловых самосевов, что хочется его погладить ладонью, и даже в голову тут не приходит, что в этом столь мирном сожительстве родных елочек происходит война с изреживанием: процент изреживания в этой мирной жизни елочек во много раз больше, чем на войне у людей.
Играла кудрявая береза своими листиками, трепетала осина, и между ними дремал молодой дуб.
Невозможно нежные создания вырастают в лесу из какого-нибудь желудя, уроненного сойкой или белкой. Нитки, не толще, чем бечевка, поднимаются от земли и расходятся тремя нитками, такими тоненькими, что удивляешься, как это они держатся.
И каждая из этих трех ниточек, поднимаясь над травами, оканчивается огромным дубовым листом.
Дуб, если попадает на опушку на просеке, не поглядит на соседние елки, а вывернет свои державные суки прямо по ним к свету.
Как же не обратить внимание, что в большом хвойном лесу воздух совсем другой, чем на вырубке в молодой поросли. Там вся жизнь ушла в дерево: растет сто, растет двести, даже триста лет. А здесь на солнце сколько птиц, цветов, смолистых, блестящих листьев. Там – в дерево, тут – все в песню ушло.
* * *
Сентябрь. Солнце всходило чистое. Окна в морозной росе. Грибы заметно кончаются, остаются одни поганки, мухоморы и свинухи. Зато, бывает, в это время на зеленом мху выдвинется красная сыроежка величиной с чайное блюдечко и с водой. А в воде, как детский кораблик, плавает желтый скрученный листик. Я эту воду не пропускаю и с грибной холодной губы переливаю в свою теплую. И когда пью, бывает со мной в лесной тишине, будто от этой лесной воды и холода губ люди меня забывают и не узнают. И я, оставленный, сажусь на пень, замираю в себе и через это в лесу мне становится все близким и понятным…
Удивительно! Вы знаете, как это удивительно и чудесно бывает в лесу, когда через такое раздумье станешь понимать себя самого, как дерево, а вокруг все будто люди. И знаешь тогда твердо, что все это: деревья, мох, грибы – как люди. Это сказка, но почему же тогда, если выглянешь из себя, то показывается такое, чего никак не заметишь, когда себя считаешь человеком, а лес просто дровами?
В солнечный день осенью на опушке елового леса собрались молодые разноцветные осинки, густо, одна к другой, как будто им там, в еловом лесу, стало холодно и они вышли погреться на опушку, как у нас в деревнях люди выходят на солнышко и сидят на завалинках.
* * *
Деревья стоят, ветер перебирает листики, и они болтают между собой, а ветви согласно кивают друг другу. И уже, конечно, и ветви кивать, и листики болтать могут только потому, что крепко держит их всех вместе могучий ствол.
Не было у них никогда разладу, как у людей, когда надо и между собой поболтать и надо что-то отдать на питанье древесной державе. Листики, все до единого отличные друг от друга, все согласны между собой в необходимости отдавать часть себя на державу. Так они понимают эту необходимость служить каждому всем.
Гнались они друг за другом, елка и дуб, вверх к свету, кто кого перегонит.
Не по радости, или жадности, или вольности, или гордости затеяли они этот гон, а по смертной нужде: кто раньше высунется в светлое окошко, тот собой и закроет его и сойдется вершиной кроны с другими деревьями, как победитель. И все, кто останутся под пологом в полусвете, те и останутся чахнуть на всю жизнь свою. Вот почему они и гнались и тянулись вверх, елка и дуб, изо всех сил.
Шел в лесу долго и, вероятно, стал уставать. Мысли мои стали снижаться и уходить из лесу домой. Но вдруг я почувствовал себя внезапно радостным и возвышенным, глянул вокруг и увидел, что это лес стал высоким, и стройные прекрасные деревья своим устремлением вверх поднимали меня.
Чем выше поднимается дерево, тем и крылышки-ветки постепенно поднимаются, как будто собираясь по воздуху с силой ударить, вырвать дерево и унести его к солнцу.
А самые верхние крылышки совсем высоко поднимаются, и на самом верху пальчик елки показывает направление вверх.
Бывает, тишина приходит в лес просто, и все смолкает, – и сам где-нибудь замрешь на пеньке. А бывает, деревья, кусты, травы, птицы как будто сговорятся друг с другом, скажут: «Будем молчать!» И все делают тишину, и сам глубоко задумаешься и по-новому смотришь на далекое старое.
Не шевельнется ни одна веточка, ни один листик не дрогнет, и только по форме крон знаешь деревья стоят, как восковые. Никто не может сделать из воска все так неправильно, а в общем чтобы выходило из этого лучше правильного.
И вот чувствуешь щекой, будто кто-то из глубины леса дохнул на тебя. Или это так показалось? Нет! Вот тоненький, в вязальную спицу, и длинный, почти до груди человека, увенчанный цветущей метелкой пырея стебелек пошевельнулся, кивнул другому, и другой нагнулся и кивнул третьему. А дальше там папоротник на одном стебельке перешепнулся с другими, и все о том же, что чувствую я своей щекой: в полной тишине наверху лес дышит изнутри, как человек.








