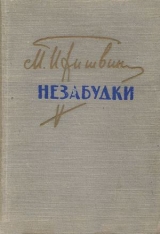
Текст книги "Незабудки"
Автор книги: Михаил Пришвин
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 17 страниц)
Искусство слова состоит в знании того, что следует сказать немногим и что можно сказать всем… Есть ли слова для всех? Есть! Это первое слово «Хлеб».
…Пришел к своему месту на большом пне, где присел и притих и, подумав, записал себе в книжечку: есть слово для всех, это – «хлеб». И есть иное слово, предназначенное для каждого из всех.
Первое слово «хлеб» в сущности своей не есть слово, а только лишь сигнал необходимости между людьми… Истинное слово требует от каждого творческого участия, в котором создается личность, и каждый из всех может сделаться личностью…
Пусть господствует зло, но я утверждаю неприкосновенную силу добра как силу творческую труда и прежде всего «хлеб наш насущный».
Нет, ни в разуме, ни в сердце до тех пор человек не найдет ответа на вложенное в его натуру чувство гармонии, пока не станет сам на свое собственное место существования и с полным риском для жизни и даже ценой унижения, с протянутой рукой, за куском черного хлеба, опишет свой собственный меридиан.
Становясь на свой корень, человек обретает счастье, несмотря на несчастья друга, потому что сам делается как все и в жертвенном творчестве своем забывает себя.
* * *
На злое дело – подскажи только – и всякий способен. На доброе – редкий. Зло сделать много легче добра. И все-таки живем и собираемся жить в будущем лучше в том уповании, что добро побеждает зло.
Пахло липовым цветом, и глаз отдыхал на чудесной, сочной, светящейся в солнечных лучах зелени.
Но мы не могли ничего друг другу сказать: возле этого бульвара с липами неустанно неслись, гремели, гудели трамваи и машины.
В будущем поезда спрячут под землю и в городе будет совершенная тишина. Вероятно, именно так и надо подходить к городу, то есть так же, как и к природе: участвуя лично в творчестве лучшей жизни и самого города. Так, если город глушит, надо броситься в работу над заглушением ненужных звуков, а не проклинать города.
У каждого зверя, у каждой птицы, и у паука, и у растения всюду и у всех есть место своего рождения – свой дом. Однако птицы улетают из своих гнезд, и маленькие звери покидают свои логовища, и пауки улетают на своей паутине. Много мужества, много героизма требуется от каждого паучка и пчелы, чтобы расширить ареал своего рода. Готовность умереть за других ценнее даже, чем самое рождение новых существ. И оттого и у животных, и у растений, и у всех живых существ на земле, и у самого человека готовность умереть за общее дело считают Большим делом, а рождение даже таких существ, как человек, считается Малым делом.
Этика социализма в том, чтобы маленькому вдунуть душу большого.
* * *
Необходимость политики основана на том, что нельзя во всех случаях действовать немедленно вслед за тем, как явилась мысль (сознание). Приходится, нечто зная вперед, подождать, – и эта вынужденная отсрочка действия есть политика.
И тоже, нельзя какую-нибудь мысль сказать сразу всем, надо подготовить массы к признанию данной мысли, – и это постепенное введение масс в крут нового сознания требует политики.
Наша идея, наше государство живет той личной энергией, которая содержится в каждом из нас, как запас, как сокровенное достояние каждого.
…Нет, социализм такая же правильная оболочка жизни, как известковая оболочка яйца. Социализм – это бесконечно близкое соприкосновение с жизнью, но совершенно такое же, как известковая оболочка соприкасается с содержанием яйца.
Если курица сидит на яйце, то все существа, заключенные в яйце, начиная с самого эмбриона и кончая последним электроном белка, являются между собой современниками и держатся друг возле друга в скорлупе яйца до тех пор, пока курица не отсидит свое необходимое время.
Так и у нас у всех это есть: мы все между собой современники и каждый из нас участвует по-своему в зарождении, и вынашивании, и, наконец, в явлении на свет чего-то нового.
Между личностью и обществом есть люфт, когда и личность может наделать беду обществу и общество может погубить личность: и тут вся игра, стоящая целой жизни.
Правда, стоит заниматься этой игрой. И оттого занимаются, и существуют политики, и дипломаты, и цари.
Люфт между обществом и личностью – это «Бог правду видит, да не скоро скажет». И это «не скоро» равняется целой жизни.
Где же люди? Не ищите их далеко, они здесь: они отдали свое лучшее, и их так много, что имена не упомнишь. Имена здесь сливаются в народ, как сливаются капли в падун.
На тонкой ниточке состоит связь моя с родиной: эта ниточка – мое личное словесное творчество… И тут все: пока я пишу, я – сын своей родины. И потому нечего раздумывать, нечего расстраиваться, а побольше и получше писать.
* * *
В поисках образа героя[8]8
Попутные записи во время работы над повестью «Корабельная чаща».
[Закрыть]. Вся жизнь человека, его науки, искусства, техника – есть сказка о правде, и вся правда и вся новая мысль открывается в том, как бы нам сделать всем сказку, чтобы человеку на земле получше жилось.
Кончается сказка – начинается дело.
– Где же теперь будет сказка?
– В наших делах: наши дела будут сказкой.
Почему бы в образе моего героя не дать, пусть утопический, идеал разрешения свободы и необходимости?
Живой человек – это герой моей будущей повести, соединенный из фигуры моего друга О., Суворова, Руссо, Ивана-дурака, Дон-Кихота с тем ощущением нашего детства внутреннего («будьте как дети»), и природы, и себя самого в своей вере в жизнь, и любви.
Живой человек – это человек, находчивый в правде. Это вместе с тем значит, что такому человеку не нужно в решительный момент действия лезть на полку справляться по книгам и не нужно идти к начальнику просить выдать мандат на спасение утопающего человека.
Мой герой, когда с негодяем вступает в борьбу, то это все равно, что с самим собой начинает борьбу. Его задача – скрутить негодяя и заставить его делать то самое, чему он служит. Он везде милостив к своему врагу после победы, потому что враг как бы уже соединился с ним.
Правдотворчество дает бесстрашие самому себе, а со стороны становится страшно за правдолюбца: кажется, вот-вот он погибнет. Правдолюбец плывет в обществе, как корабль, рассекая лоно вод на две волны: на одной стороне друзья героя, на другой стороне – враги его… Вера в правду, ощущение ее и правдотворчество мгновенно показывают фальшь слов обыкновенных людей и мгновенно рождают неожиданный ответ, острый, пронзительный, как укол шпаги.
Дон-Кихот всегда в правде: он в правде и оттого не боится, не стесняется, не жмется ни в каком обществе, рыцари это или пастухи. Так вот и мой герой.
В книге «Дон-Кихот» нет нашего нажитого Дон-Кихота. Там только сатира на рыцарские романы, и Дульсинея – ирония, а не психология.
Мой герой – это Иван-дурак, как русское разрешение темы Дон-Кихота, – он вступился за мельницу: «Кто же ему теперь даст право ломать мельницы? Хорошо еще, ветер был, а будь тихо – чего бы он не наломал!»
«Новая мысль» – прибрать к рукам Дурака, то есть обратить его на службу не «царю», а человеку и раскрыть глаза Дон-Кихоту на время.
Путь Ивана-дурака, то есть путь искусства (сказки), – путь восприятия жизни цельной личностью. Так я и сделал, сбросив все «умное» на севере.
Куда же деть моего героя? С кем он борется? – С губернаторами (Санчо). – Во имя чего? – Принципов Дон-Кихота. Это спустившийся сверху Дон-Кихот.
– Нашими глазами посмотрите, – приказывает ему губернатор.
– Нет, я своими глазами погляжу, – отвечает очнувшийся Дон-Кихот.
Новое в моем герое, может быть, одно: он наткнулся на губернатора, стал глядеть в сторону Дурака и ему удивляться: «Михаил Михайлович, если бы я снова начал жить, я бы пошел вашими путями».
Но страшно становится, когда представишь себе задачу обратить испанского рыцаря Дон-Кихота в русского Дурака!
* * *
Туда, где складывается у людей правда, мне кажется, я спешу – спешу и кричу: «Погодите, погодите, возьмите меня!».
Итак, всюду, мне кажется, все делают правду, а каждый из нас непременно спешит, каждый нужен для всех, и все нужны для каждого.
Сегодня совсем маленький мороз – только не тает. Тихо слетает редкий спокойный снег. Мы стоим у перекрестка перед красным светом в несколько рядов и в каждом ряду в строгой очереди.
Тихо падающий снег шепчет о радости спокойного терпенья. Кажется, будто можно так овладеть собой, что во всякое время и во всякой вещи будешь видеть тоже такой красный свет, говорящий: «Дальше ехать нельзя, надо ждать. Успокойся, стань в очередь и жди зеленого сигнала».
С какой-то отдаленной точки зрения человеческий род на земле похож на длинный фитиль, зажженный, чтобы взорвать земной шар и превратить его в небольшое солнце. Фитиль горит, после него остается зола – это наше прошлое; движение искры вперед – это наше настоящее, а будущий мир – это мы все, обращенные в солнце.
1945 год. Сама планета в опасности – это факт великий, но еще больше тот факт, что каждому через пять-шесть часов есть хочется.
И если даже планета с одной стороны загорится, то люди с другой стороны будут биться за кусок хлеба, пока можно будет терпеть подходящий жар.
Противник факта. Разве это неправда, если я скажу, что есть нечто большее факта: мое творчество, из которого открывается факт в желанном мною направлении.
«Красота спасет мир»[9]9
Слова Достоевского.
[Закрыть] – это значит, придет время, и всемирный противник чужого факта – художник – будет не только мечтателем, как теперь. Он будет осуществителем личного и красивого в жизни.
* * *
Вокруг меня идут люди, бросившие все свое лучшее в общий костер, чтобы он горел для всех, и что мне говорить, если я свой огонек прикрыл ладошками и несу его и берегу его на то время, когда все сгорит, погаснет и надо будет зажечь на земле новый огонь.
Как я могу уверить моих ближних в жизненном строю, что не для себя лично я берегу свой огонь, а на то далекое время?
Глава 31
Война и мир
Первая мировая война. Не понимаю, какая это может быть новая счастливая жизнь после войны, если после нее освободится на волю такое огромное количество зла?
Зло – это рассыпанные звенья оборванной цепи творчества. А сколько во время войны рассыпалось творческих жизней!
В толстовской эпопее войны не изображена обратная сторона, изнанка войны – то, что снабжает армию, связывает армию с тылом, в чем, как черви, заводятся подрядчики всякие, живущие от войны к войне надеждой на новую войну: такая война бывает раз в столетие, как тут не нажиться!..
Там, на фронте, враг стоит лицом, а тут, в тылу, он отдыхает и кушает, спит, наживается. Фронт – это очень узенькая линия, и там только момент, один момент после долгого времени ожидания, момент, когда враги становятся лицом к лицу. Но все другое время на всем пространстве от той узенькой линии, называемой фронтом, во все другое время – враг существо ласковое и даже ходит ко всенощной.
Для победы нужен ум, здоровье и отсутствие совести. Странная стихия шевелится в душе, когда встречаешь в иностранце то, что раньше считалось в тайне души только цветом родной земли. Как будто земля эта становится не твердой застывшей массой, а подвижной и свободной, словно вышел на берег беспредельного моря: позади, в очертаниях помертвевшей земли, воспитавшее меня прошлое, впереди живое будущее, океан, соединяющий все земли, все государства и все народности…
И кажется, что назади лед, но вот лед растает и скоро будет живая вода.
Иногда встречаешь радостное и говоришь: «Это у нас только бывает, это наше!» А то обрадуешься, что не у нас только это, а везде, на всем свете то же бывает.
Радость о своем – это чувство земли, а радость, что везде так, – это чувство океана.
Красота национального лица создается не политикой, а общей жизнью, и каждому, действующему в ее сфере, красота дается без всякого усилия, она сама является.
Национализм тем отвратителен, что губит красоту жизни, а эта красота, собственно, и составляет национальность.
* * *
Вторая мировая война. Река женских слез. И скоро с фронта – река мужской крови. Расставаясь, плачут даже и молодые парни, этими женскими слезами прошибает мужа, и на время он становится женщиной, в эти моменты будущее геройское дело кажется маленьким. Уложил две перемены, нож, ложку, еще кое-что, простился, глянул в последний раз на дымок, на две березки, и эти березки пошли с ним и остались в сердце до смерти: в последний миг расставанья с жизнью в несказанной красоте и доброте станут перед ним эти березки.
Все весенние цветочки и каждый зеленый смолистый лист просят нас об одном – о защите. И если мы хотим наслаждаться счастьем весны, которое они все приносят с собой, мы должны идти на войну за свое любимое и быть готовыми, любя, умереть. Все эти цветы новой весны тем и прекрасны, что пробуждают в нас лучшие силы в борьбе за любимое.
Сколько серых слез неодетой весны скопилось по сучкам, по веточкам и почкам и упало на землю, сколько теперь на тех же веточках и сучках шумит зеленых листьев и сколько цветов на земле под березой..
Я вспоминаю юношу на платформе с зенитным орудием. Стон, и вой, и вопль были в воздухе от деревенских женщин, провожавших эшелон на войну. Слезы рекой лились у всех и о том юноше, который сидел и улыбался возле зенитного орудия.
– Он улыбается! – сказал кто-то возле нас. И кто-то ответил:
– А ты вглядись и пойми, чего эта улыбка ему стоит!
И вот теперь я смотрю на море радостных цветов под березой, на всю эту улыбку земли и сквозь свои собственные слезы вижу победителя-юношу с цветами в руках.
Сейчас идет война всего земного шара, потому что в беде, постигнувшей нас, весь мир виноват. В этом и есть историческая задача большевиков – вскрыть язвы всего мира и нужду в спасении сделать всеобщей.
Зимой ведь только хрупкое стекло держит в доме тепло, и при центральном отоплении дом без стекол есть могила. Стекла вылетают от далеко разорвавшейся бомбы – и человек выброшен на улицу. Величайшее злодейство… И тот злодей, кто молчал и берег свою жизнь, и, может быть, больше всех злодей ты сам, не отдавший жизнь за необходимое огненное слово.
Начались долгие страшные ночи с кошмарными просыпаниями, когда мысли, будто брошенные камни, летят и падают.
И мне чудилось, будто некогда гигантский человек впервые встретился с тьмой, и от этого мысли его стали падать камнями, и весь он распался на камни.
И так произошли на земле камни.
Потом я развивал эту тему в полусне, считая, что камни можно мельчить так сильно, что они становятся питаньем растений. Но если размельчить и эту пыль современными способами до величайшей тонкости, то эта пыль, представляющая собой раздробленную мысль, может стать любовью или питаньем души человека.
Не жалко мне было бросить свой домик в Старой Рузе и свою прекрасную квартиру в Лаврушинском. Стал сегодня бриться и увидал впервые, что кожа на моей щеке за эти дни начала морщиться, как у стариков. С некоторым страхом я этого ожидал раньше, но теперь мне было не жалко: пусть дом, квартира, пусть шея, пусть все тело, пусть самая жизнь – не жалко и этого!
Когда нивы поспели и колосья согнулись от тяжести зерна – не верьте колосу, что высоко над нивой стоит: этот колос пустой.
* * *
Теперь даже один наступающий день нужно считать за все время. Никто и никак теперь не может сказать, будет ли за этой жизнью в Усолье[10]10
Деревня Ярославской области, где М. М Пришвин жил во время войны.
[Закрыть] какая-нибудь другая благополучная, но все равно, эти дни суда всего нашего народа, всей нашей культуры, нашего Пушкина, нашего Достоевского, Толстого, Гоголя, Петра Первого и всех нас будут значительней всех будущих дней…
О время, время какое! Все маски сброшены с государств и с церкви, и все пережитое человечеством в этих формах опрокидывается в открытую душу каждого, как бремя, которое он должен вынести…
Говорят, люди в Москве теперь полусумасшедшие. И не мудрено: такой казни массовой посредством метания бомб в дома большого города еще не было. Кто первый придумал это и назвал именем тотальной войны?.. Ближе и ближе подступает к нам та настоящая тотальная война, в которой станут на борьбу действительно все, как живые, так и мертвые.
Ну-ка, ну-ка, вставай, Лев Николаевич, много ты нам всего наговорил!..
Стесненный и даже почти задушенный, вышел я в бор: там в холодном свете золотистой зари сосны горели. И мне стало стыдно за себя, за свое существование, и ненавистны мне были написанные мои бумаги, и этот ежедневный труд, в котором я похож был на червяка, ползущего с целью оползти неизвестно зачем земной шар. Страстно захотелось уничтожить себя как писателя и начать жизнь совершенно простую, как у всех… От этой мысли освобождения себя самого от плена писательства мне стало делаться лучше и лучше… Может, и сам-то скоро умрешь. Ты здоровей этой мыслью, что и так само собой без шутовства всесожжения кончишься и не будешь себя чувствовать червяком, оползающим землю.
Стань в этом свете у неминуемого костра своего, как стоят эти сосны в свете золотистой зари, и подумай про себя, совсем про себя, на корне своем, в неподвижности полной: разве что-нибудь значит для тебя такого этот ничтожный червяк, этот ты, кого-то из себя представляющий?
Так я прислонился к дереву, слился с ним и мало-помалу стал совершенно спокоен.
Слово. Утром в полумраке я увидел на столе в порядке уложенные любимые книги, и стало мне хорошо на душе. Я подумал: сколько чугуна пошло на Днепрострой, на Донбасс – и все взорвано, страна пуста, как во время татар или в «Слове о полку Игореве». Но вот оно, Слово, лежит, и я знаю, по Слову этому все встанет, заживет. Я так давно занят был словом и так недавно понял это вполне ясно– не чугуном, а словом все делается.
Заря желтая, холодная. Не покрытая снегом земля зябнет. И даже любимые зубчики леса, расположенные пилкой на фоне зари, не говорят ничего моему сердцу. И я молюсь о том, чтобы заря стала зарей, свет – светом и радовал нас, как было в мирное время
Пока я молился, милая лесная пила стала голубой, заря – золотой, а темная пелена облаков над зарей – сиреневой, и в сердце в ответ шевельнулась уверенность в существовании таких огромных богатств на земле, о которых не хочет знать человек, завороженный в злую сторону жизни…
* * *
Зло в красоте. Утром началась метель мельчайшими белыми пылинками, рассмотрев которые на темном, я убедился, что и такая пыль состоит из шестигранных звездочек… И все эти снежные груды, от которых гнутся пятидесятилетние сосны и аркой склоняются до земли березы, состоят из этих звездочек.
Сколько зла, сколько злобы в зиме, столь красивой для того, кто живет в тепле, и столь ужасной для застигнутого врасплох в поле путника…
Сколько замерзает в одну только такую метель живых существ, сколько поломанных ветвей, сколько изуродованных деревьев! Но придет время, и каждая прекрасная и злая шестигранная звездочка зла превратится в круглую каплю доброты, включающей в себя и красоту. Сверху добро, внутри красота – какая сила! А зимой – наружу красота, а внутри зло.
Я продолжаю думать об этом чудовищном скоплении снежного зла, от которого родится богатейшая весна.
Перебрасываюсь от этого в человеческий мир, и вся война представляется мне как болезнь, охватившая все человечество. И пусть вырастут на крови цветы – не утешительно. Пусть и тут каждый кристаллик зла превратится в каплю добра – не утешительно!
Могила могил. Снежинки (шестигранные звездочки), падающие с неба, в совокупности своей материи, падая на сучки, на ветки деревьев, обнимая каждый изгиб, засыпая каждую лапку, трудятся, чтобы все округлить, все похоронить, над каждым покойником насыпать круглый холмик-могилку.
Над этими бесчисленными могилами высится могила могил – небесный свод, и в нем с прямыми лучами солнце – отец жизни.
Всякое существо живое на земле стремится навстречу солнцу, и так создается рост жизни по прямой: каждая веточка стремится прыгнуть из своей могилки и воспрянуть в движении к солнцу, и вся жизнь в совокупности стремится выбраться к солнцу из-под своей могилы могил – небесного свода.
* * *
Моя кристаллография. Снег идет. Снежинки на рукаве. Я думаю о них. Всякий кристалл складывается из прямых линий, но, падая, вместе со множеством других образует круглую форму (снежные фигурки на деревьях).
Не все ли равно – падает или тает? Тающий кристалл тоже непременно превращается в круглую каплю, и потому она падает. Значит, можно себе представить, что в начале творения мира был создан кристалл, который, падая, образовал из себя бесчисленные формы круглых миров. И, значит, наша планета Земля есть одна из упавших капель тающего в огне кристалла.
И вот почему истинное искусство несет в себе идею вечности и бессмертия: потому что всякая творческая сила искусства есть сила кристаллизации, это сила обратного восстановления упавших в округлые формы к изначальным и вечным формам кристалла. И все живое на свете существует, как попытка выйти из круглого состояния в те прямые, из которых создаются кристаллы.
Вот круглое семя дерева образует прямую ствола и в движенье своем к солнцу исходит падающими круглыми семенами до тех пор, пока иссякнет вся сила корней, движущих соки по сосудам дерева. (Все живое – из яйца.) Но мы – люди, в своем определенном движении вперед, разве мы-то не падаем?
Все стремится выйти паденьем в круглый мир бытия.
Священная прямая. Единство в многообразии форм составляет и стиль и содержание произведений художника, и это единство равнозначит, в моем понимании, со священной прямой.
В юности я верил в простую, как рельсы, прямую прогресса человечества. Потом, как и все, потерпел крушение, и весь мир с его человечеством завертелся по равнодействующей силы центростремительной, влекущей вниз, и центробежной силы, стремящей нас на прямую.
Теперь я начинаю верить, что, любя и благословляя жизнь, можно вращаться с живущими только при вере и уповании выйти когда-нибудь, как было это в юности, на священную прямую.
Прямая и Кривая. Прошлую кампанию немцы, наступая на Москву, убедились, что прямая не есть кратчайшее расстояние между Москвой и Берлином. В нынешнюю кампанию сорок второго года они убедились под Сталинградом, что и кривая не есть истинный путь.
* * *
Добрая мать. Смотрел целый час на материю снега, обнимающую каждый сучок, с тем, чтобы устроиться на нем шариком. Сколько лысых голов, сколько мячиков, черепов. И всюду и во всем одна цель этой снежной материи: облепить, округлить и похоронить.
Снежная материя хоронит живые существа с целью их сохранения: под снегом они не вымерзают. И та святая женская материя, о которой я говорил, есть добрая мать.
Если бы только мог современный человек подойти к текущей воде с тем священным трепетом, с каким далекие от нас люди пустынь подходили в палящий зноем день к оазису и припадали страстными губами своими к холодной воде. Сколько наслаждения! Сколько благодарности! Сколько раздумья и поэзии!
А теперь, не пустыню ли мы переходим, не изныл ли наш дух в тоске по живой воде? Я жду со всей страстью этого чуда, когда каждая шестигранная снежинка всего огромного скопленного зимою зла превратится в радужную круглую каплю воды.
На всю деревню голосит сиплым нечеловеческим голосом бабушка Аграфена: «Ой-и, жизнь моя, Ванюшка. Ванюшку убили. Ой-и, жизнь моя, Николаюшка. Николаюшку сегодня угнали. Ой-и, катитеся, слезы, по лицу моему». Идет с причитанием медленно через все село из конца в конец.
Слушал я этот вопль, и даже в мои годы подмывает злоба на немца, и тянет она включиться в массу, идущую на врага.
Но сегодня я опомнился от стыда, ведь мне семидесятый год, а я и молодой не умел помогать на пожарах.
И самое происхождение этого чувства стыда неглубокое: это оттого, что сама гордость хочет взять на себя больше, чем может.
* * *
Медведи. Забота о существовании и некоторые успехи в этом сохраняют наше здоровье, но душа от этого теряет священный трепет, тревогу, порождающую новую мысль…
Душа наша похожа, скорее всего, на медвежью, когда звери эти ложатся в берлогу и снег изо дня в день засыпает их, и они не спят, а дремлют.
– Скажи мне, если мы останемся целы в этих испытаниях и сохраним свои души, не стыдно нам будет?
– Перед кем?
– А хотя бы перед мертвыми!
Валил снег вчера, валил сегодня весь день, и лес наш совсем завалило, лес стал глухой. И мы стали, глядя на падающий снег, распускать шерсть: она распускала, а я связывал нитки и наматывал. Снег падает – клубок мой растет и растет. Время незаметно проходило, как будто время, грызущее сердце, покинуло нас и сматывалось на клубок.
Стало темнеть.
– Я как-то не чувствую времени, – сказал я. Она ответила:
– Мы наше время сматываем на клубок.
Мы зажгли лампу и продолжали наматывать, и время шло, и мы его не чувствовали. Потом стало клонить ко сну. Мы уснули, а клубок вырос до огромных размеров. И спали мы долго, может, мы столетия спали, блаженные, а наше злое время отдельно от нас все моталось и моталось в огромный клубок. И сколько снегу нападало. И весь лес стал глухой.
* * *
Я помню, как на верху горы из-под ледника мчался поток и громадные камни, скользя по разогретому солнечными лучами льду, время от времени падали в поток. Слышался глухой удар, всплеск, на мгновение вся вода из потока взлетала на воздух. Но скоро вода, обегая со всех сторон камень, принималась за свою работу.
И что же? Там на берегу теплого моря, где волны прибоя ежеминутно приносят и дарят человеческим детям округленные разноцветные камешки, эта радость пришла от падения камня в поток так вода обрабатывает камень.
В искусстве текущем есть все, но побеждает и остается направление к делу мира. Враг затаился, и, чтобы не было страшно, надо стать выше его, и так, чтобы ему вверх не видно, а вы с верху видите его со всех сторон. Можно бы, конечно, оттуда сверху полить на него кипятком или осыпать горящими угольями, но почему-то на высоте и в голову не приходит такое поведение в отношении врага.
С самого первого слова я это понял и только этим путем продвигался вперед в искусстве слова.
Время требует от писателя прославления вражды, возбуждения ненависти к врагам. А мы в это время поставили себе задачу сказать о любви… И мы уверены в том и знаем, что наше время придет, как все знают, что рано ли, поздно ли война кончится.
Первый зазимок лег ночью, и утро вышло белое, и мелкий снег частой крупой все так и сыплется…
Я проснулся рано и лежал, не зная, что земля в обновке лежит.
Но мысль моя, внутренний мой человек, определенно всматривался в то время конца России, когда писали Блок, Белый и другие поэты, всматривался с таким чувством, будто все там у меня назади осталось как кладбище, засыпаемое снегом. Так ясно и просто думалось, и воспоминания не вызывали ни сожаления, ни боли.
Потому не больно было вспоминать, что ведь это не Россия кончалась, а сама Европа – идеал нашего русского общества, – вся «заграница» погибала со всеми своими мадоннами, и соборами, и наукой, и парламентами.
Падает снег на мою душу, и я молюсь об одном, чтобы дождаться весны и прихода мысли в понимание пережитого конца и в оправдание погибших и нас, уцелевших…
Мы русские, и западники и славянофилы, в истории одинаково все танцевали от печки – Европы, а вот теперь эта печка, этот моральный комплекс не существует.
Будем мы теперь танцевать от другой печки – Америки, или же, наученные, будем танцевать свободно от себя, а не от печки?
Два выхода из необходимости: бунт и творчество. Но за бунт люди отвечают. А творчество есть выход личный, это есть «мир».
Только быки борются своей силой, а человек борется тем, за что держится, во что верит, тем и бьет.
* * *
Чем же плох этот мой труд – снимать карточки детей для посылки их отцам на фронт. И так все, всякий труд, если научиться подходить к нему благоговейно… Так я смотрел на себя, фотографа, со стороны, и мне нравился этот простой старый человек, к которому все подходят запросто и, положив ему руки на плечи, говорят на «ты». Тогда мне думалось, я даже видел это, что именно благоговейный труд порождает мир на земле.
Когда приходят девушки за карточками и одна какая-нибудь бывает недовольна собой и говорит: «Я не похожа», я обращаюсь к свидетельству ее подруг, и они все отвечают: «Похожа». И она бывает вынуждена подчиниться и взять плохую, с ее точки зрения, карточку.
На самом деле этот суд всегда ложь, потому что лучшее, что лелеет в себе личико девушки, знает в себе только сама она, и ей, конечно, хочется быть похожей на это свое лучшее.
…Встретили мы молодого человека под руку с девушкой, на глазах у него была повязка из марли, и девушка сказала нам, что этому человеку – ее жениху – на войне выжгло глаза.
– А мы говорим сейчас, что нет больших страданий, чем от любви, но вот человеку выжгло глаза, и навсегда. Любовь можно вылечить временем, а глаза не вернутся. Душа в существе своем поражена, но мир весь целиком сияет. А если глаза выжжет, то мир исчезнет. Что хуже?
– Но ведь она-то с ним, она его ведет; она его любит. Пусть мир исчез – она с ним.
– Да, она с ним, но для нее нет жизни: она жертва.
– Так что же нам сказать: какая рана больше – в душу или в глаза?
– Это смотря по человеку: иному от раны в душу мир исчезнет навсегда, другому в слепоте к внешнему миру открывается зрение на великий безграничный мир внутренний. И значит, все сводится к одному: к силе, преодолевающей зависимость как от мира природы, так и от мира душевного.
Ленинградский фольклор. Солдат шел по улице, встретил покойника, обратил внимание на знакомое одеяло. Подошел, узнал свое одеяло и понял – жена.
Рассказчик прибавил:
– А если бы пошел другим переулком, так бы и не знал, что жена умерла.
Выслушали женщину из Ленинграда, башмачную закройщицу. Почерневший от голода мальчишка вырвал кусок хлеба у женщины, которая веревкой подпоясала каракулевую шубу – так похудела, и ноги, отекшие от голода, обмотанные, похожи были на два бочонка. Как молятся. Как убирают покойников. Как немцев отгоняют. Как умирают… скорее мужчины, потом женщины, и всего выносливее оказываются дети.
Женщина из Ленинграда стала притчей во языцех, все узнали вдруг, какой ценой достается наше продвижение вперед… И тоже понятнее становятся в устах англичан героические эпитеты в отношении Красной Армии… Может ли в большой войне пройти безнаказанно действие, подобное истреблению индейского племени европейцами?
– Вот то-то и есть, что является надежда на взрыв, на выход из-под глубоких подземных пластов огня жизни… А что это за огонь, что это за сердце, такое большое, всеобщее, близкое, это сердце наше же собственное, что соединяет «я» и «ты» в наше «мы», это сердце, зарытое глубоко в землю, на которой люди теперь истребляют друг друга? Мы ждем этого взрыва.
* * *
Коровий рев. Каждое утро просыпаюсь, когда гонят мимо открытых окон коров и они мычат и ревут. Прежде меня просто раздражал этот коровий рев, сопровождающийся хлопаньем кнута и окриками пастухов. Теперь, при этом глупом бессмысленно-безнадежном реве отдельных коров, я содрогаюсь, мне слышится в этом реве, в глубине его где-то заключенный человек, не имеющий возможности дать знать о себе своим голосом.








