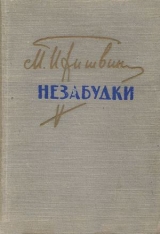
Текст книги "Незабудки"
Автор книги: Михаил Пришвин
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 17 страниц)
А когда после того встаю и выхожу на росу, то даже и все величие солнца не удовлетворяет меня, и в лучах его, и в цветах, и в траве, и в росе, и уже в том, что солнце круглое, мне чудится какой-то недочет. Чего-то не хватает во всем этом, что-то пропущено или где-то заключено и скрыто, как в этом реве коровьем, слышном теперь уже издали, продолжает чудиться заключенный в темницу родной человек.
Хорошо, что я, хотя и поздно, а все-таки это чувствую…
С детства мы говорим «народ», как что-то священное, и много перевидали подвижников и мучеников за народное дело, за его землю и волю.
Только теперь начинаю понимать, что этот народ не есть какой-то видимый народ, а сокровенный в нас самих, подземный, закрытый тяжелыми пластами земли. Это не только мужики или рабочие, и даже не только русские люди, как Пушкин, Достоевский, Толстой, а общий всему человеку на земле огонь, свидетельствующий о человеке, продолжающем начатое без него творчество мира.
Только чувствуя и зная в себе самом этот огонь, можно теперь жить и надеяться.
Мой народ, которого я держался, не будучи народником, был мне вроде как теперь лес. Я хожу по лесу и своими образами как бы перелаживаю в человеческое сознание лес, улучшая его, и тем продолжаю незнакомое, неведомое мне творчество. Так и народ мой был мне как лес для художника.
В сердцах людей во время войны складывается будущий мир. И назначение писателя во время войны именно такое, чтобы творить будущий мир.
* * *
Беседовал сам с собой, да, именно: какой-то Сам беседовал с Собоем.
Сам говорил:
– Мне хочется все пережить и поглядеть, как после всего заживут!
– Понимаю, – отвечал Собой, – тебе просто хочется жить, и в этом нет ничего выразительного: каждому хочется выжить.
Хвосты. Воздух стал серым от комаров. Коровам и то чувствительно, и они пустили в действие специально для этого сделанные и навсегда прикрепленные к ним хвосты.
Мы же вместо хвостов сломили себе по березовой ветке и, когда миновала нужда, бросили их, с благодарностью сознавая свою освобожденную от вечного нашего «хвоста» человеческую природу.
– Нечего особенно радоваться, ну, а это все, – указала на свое тело моя спутница, – разве все это не хвосты, и сколько их!
– Конечно, хвосты, – согласился я.
– А эта беготня с утра до ночи за продовольствием, это не хвосты?
– Хвосты!
– А та мечта о будущих полных магазинах, и ресторанах, и домах отдыха?
– Конечно, конечно, даже все прошлое наше, каким, в сущности своей, являются все потребности нашего тела… все это у нас коровьи хвосты.
– Прошлое! А это будущее, посвященное счастью удовлетворения хвостов всего человечества! И ты не радуйся очень на то, что мы со своими веточками березы очень далеко ушли от коров: по пути совершенства человека в его борьбе за существование и в естественном отборе столько нарастает необходимых «хвостов», что, если бы коровы их видеть могли, они бы запрыгали от радости.
* * *
«Война учит всех», – пришло мне в голову, когда я снимал за картошку двух мальчишек по пятнадцать лет. У одного были на груди стрелковые ордена, и я не знал, как мне с ним быть, потому что в комнате стена мешала отодвинуть аппарат, чтобы могли выйти все ордена.
– Что делать? – сказал я. – Если снять ордена, то обрежется вверху голова, волосы почти до самого лба. А сохранить голову – срежем ордена.
Мальчик задумался.
А я ему пословицу: «Или грудь в орденах, или голова в кустах»
– Режь голову, – ответил мальчик.
Смотрю в себя и через себя одного понимаю все русское, до того я сам русский. Так, если хочу понять, откуда у нас берется столько героев, то сам эту готовность к геройству вижу в себе, как будто сидишь ни у чего и ждешь, что тебя позовут, и как только позвали, то ты делаешься будто снарядом: вложили тебя в пушку – и полетишь, и с удовольствием, с наслаждением разорвешься где надо…
Самое характерное в нашей стране от начала революции, когда начальники (Чапаевы) ходили в калошах на босу ногу, и до ныне, когда иной начальник в погонах золотых, это, что народ обходится с этим начальником не как с титулованной куклой, а как с живым человеком. («Знаем мы, откуда вышел Калинин».)
Наши победы там у них понимаются как чудо, но посмотрите на борьбу нашу с Германией с точки зрения Бисмарка, помните: Германия активная, мужская страна, Россия – пассивная, женственная. Очень верно. Только почему же заключать, что муж в борьбе непременно одолеет жену? Не видим ли мы везде наоборот: муж какой-нибудь дважды герой возвращается в свой дом, и там герой становится ребенком, а самая обыкновенная баба обходится с ним, героем, без орденов, как с младенцем.
Так и теперь с немцами-героями вышло: это баба их победила, и не какая-нибудь символическая, а самая обыкновенная баба, выполняющая в колхозе под управлением пьянчужки-председателя нечеловечески тягостную работу. Тут весь бабий секрет в стихийном терпении Вот тут-то в дебрях тыла бабьего и таится то «чудо». (Эта мысль требует большого раздумья с углублением в быт: например, баба же не пьянствует, не распутничает, ждет, работает, рожает, и у нее дети, и тут открывается родина.)
В детском вагоне. В детский вагон вошел грубый парень и, увидев, что места ему нет, все занято детьми, сказал:
– Ишь нарожали, пора бы перестать: столько горя, а они рожают.
– А это, милый, не радость: поди-ка роди! Умница нашелся, – теперь-то и надо рожать.
– И поощрять даже надо.
– Я это знаю, а все-таки неприятно смотреть – там умирают, а тут прибывают, будто не люди, а куры разводятся…
– Именно это и надо поощрять!
– Человек не курица, – продолжает, не слушая, парень, – курице голову отрубишь – она воскреснет, а человека не воскресишь. Человека таким, как был, не родишь.
Вошли слепые, один играл на гармошке, другой пел о том, как на Западном фронте геройской смертью погиб молодой человек и как дома плакала его мать. Все женщины в вагоне плакали, видно было насквозь, как много в стране страданья и горя, – так много, что, глядя на плачущих, даешь себе обет как можно осторожней обращаться с людьми на улице, в трамваях: почти каждая женщина – сосуд страданья и горя.
И заключение грубого парня:
– Вот видишь, плачете, а спорили, что надо рожать. Человек не курица, человек умер – и не родишь его!
* * *
У меня свое, у тебя свое, у него… а вместе – это родина. Чувствовать вместе «свое» мы научились на войне.
Чувство родины сейчас связалось у всех с концом войны. Кончится война, сделаем все последнее дружное усилие для конца, и тогда все то хорошее, что мы ждем, будет родиной.
Сегодня вся Москва едет в поле с железными лопатами, едет не могилы копать – огороды! Смотришь и радуешься силе жизни, побеждающей скорбь. Но эта радость жизни в лучшем своем выражении не больше того, как высказано в Одиссее:
Итак, мы плыли дальше, поминая милых умерших,
Втайне радуясь сердцем, что сами остались в живых.
Из окна. Погода ужасная, холод и буря. Березка перед моим окном едва только оделась, и так нежна еще зелень, что сквозь нее видны все сучки, от больших до самых тонких. И вот буря треплет ее, бросает в стороны, гнет чуть не до земли. Как это ужасно! И переношу мысль на человека: сколько надо было жить, мучиться человеку в этом безобразном хаосе, чтобы научиться удерживать в себе постоянную мечту и веру в возможность лучшего.
Что человек – посмотрите на кошку: как она отзывается на ласку. И даже свирепый тигр – разве он не таит в себе ту же потребность? Если бы такая особенная в его жизни тигровой выпала близость к человеку, – разве он тоже бы не жался, не мурлыкал, не просил бы его там почесать, там поскрести…
А разве все в мире не таит в себе готовность любви, разве в самой ужасной битве и при разжигании ненависти то же самое не вспыхивает там и тут искра голубого света этой таинственной всеобразующей силы?
Разговор с майором.
– Вы что теперь пишете? – спрашивает он.
– Я пишу, – ответил я – только не удивляйтесь, не для войны, а для мира. Война пройдет: я не могу писать для преходящего. После войны будет мир. Так вот я для того мира пишу.
– Почему же вы думаете, что я удивляюсь: ваша мысль большая и верная. Война пройдет – книга останется. До войны и я тоже был учителем…
Когда личность в своем высшем развитии выходит за границы своего национального происхождения, то ведь эта нация цепляется за нее и венчает «национальным» поэтом, артистом, ученым или что там еще. Но личность сама по себе освобождается от этих уз. Шекспир становится похожим на русского, Толстой – на англичанина, Моцарт, Чайковский, Бетховен… Да, мы люди в творчестве своем как вода: каждый ручеек стремится преодолеть косность условий своего происхождения и уйти в океан.
В книгах людей надо учить не рассуждению, книга не для того, чтобы ума набираться, а для того, чтобы учиться любви.
Молодой человек двадцати семи лет, садовод по профессии, ныне лейтенант Заведует каким-то гаражом в Москве. Проходя ежедневно мимо моей дачи, он видел, как я шкурил столбы, как ухаживал за машиной: смазывал, надувал баллоны, мыл. Недавно, проходя мимо меня навеселе, он поманил меня пальцем и спросил:
– Ты, дедушка, кому это помогаешь?
– А я сам себе, – ответил я, – помогаю. Я писатель и стараюсь все для себя делать своими руками.
– Разрешите мне вам помочь, – сказал он с большим почтением, – у меня есть замечательная лампа-переноска. Есть конденсатор, молоточек для трамблера, хотите, я сейчас вам привезу на велосипеде?
– Привезите, – говорю, – только не знаю, как я расплачусь…
– А ничего не надо, поставьте сто грамм вина, распейте сами сто грамм со мной, и я буду очень доволен: я больше всего дорожу хорошим обществом.
Вечером я сказал жене:
– Ты, живя со мной, была не раз свидетельницей явления подобных неведомых друзей. Вот за это я и живу в России, и люблю русский народ.
– Почему же русский, – спросила она, – разве англичане или любой другой хуже?
– Наверно, не хуже, – ответил я, – но ведь это отвлеченно и неощутимо для меня, ни языков как следует не знаю, ни соприкосновения не имею. Вывод, конечно, делаю: человек – везде человек. Но как я могу любить «вывод»? Я люблю русского человека и только на основании этой фактической любви делаю заключение, что у всех народов есть свои хорошие люди.
Она с трудом нашла магазин, где склеивается фарфор. Заведующий отказался дать ей жидкость для склеивания и требовал, чтобы она сервиз доставила к нему.
И вдруг седеющий джентльмен из евреев, узнав, что это для
Пришвина, весь преобразился и сказал, что для Пришвина он сам придет к нему на квартиру и все сделает бесплатно.
В воскресенье он к нам пришел. Поняв, что он мой читатель, я спросил, какие он мои книги читал и что ему больше понравилось.
– Извините, – ответил он сконфуженно, – я вашего ничего не читал.
– Как же вы про меня знаете?
– У меня, – ответил он, – двое сыновей, оба погибли на фронте. И я помню, как часто они о вас говорили, как они любили вас.
– Писателей-то совсем нет, – сказал N.
– А маршалов? – ответил я. – Но пришла война – пришли и маршалы. Так будет и с литературой: начнется истинно мирное строительство, откроется внимание к жизни народа – явятся и писатели.
Писатели, тоже как грибы, растут при подходящей погоде.
Писатель – это стрелочник времени.
* * *
История человечества начинается жертвоприношением Богу баранов и приходит к жертве себя самого за друзей своих. Какое же это движение вперед человека!
Так можно ли унывать даже во время самой жестокой войны?
Рожь хорошо выколосилась, и отдельные колоски зацветают. Великаны-колосы маячат на высоких соломинах, и маленькие жмурятся в тени. Равных по точности не увидишь в поле ни одного колоска, ни одной соломины. Но все поле ровное, и у высоких нет упрека малым, и у малых нет зависти к высоким.
Каждый колос, каждая соломина, такие все неравные, показывают нам свою великую всеобщую борьбу за жизнь, за свое лучшее, но все ровное поле высокой зацветающей ржи свидетельствует нам о победе.
Смотрю на рожь и вижу поле новых людей, и нет у меня в душе особенной жалости к слабым, и нет зависти к высоким. Мне только очень хочется самому подняться повыше и стать свидетелем победы нашего дела на всем человеческом поле.
На войне природный человек в каждом открывается, каков он есть: храбрый делается трусом, робкий – героем. Так что война это что-то вроде Страшного суда. И хорошо, если, отменяя войну, человечество найдет себе иную, более отвечающую времени форму суда и непременно «страшного», в котором вскрывается внутренний человек. Без такого Страшного суда невозможен мир во всем мире и движение к лучшему.
В конце концов, думаю, люди выйдут из нынешней беды, пусть даже и с большими жертвами. Но кому удастся увидеть новый свет, то первое, что ему представится, это быстрота движения человечества в деле преодоления пространства и времени.
Давно ли и войны, и радости мира происходили на пятачке, а теперь весь мир человеческий кругом состоит в войне двух половин и произносит цель войны – мир во всем мире. Такой великий прогресс в преодолении пространства и времени!
Второе, что откроется будущему человеку и поразит его совершенно, – это что, очевидно, существует какой-то мир, независимый от пространства и времени, и в нем человек остается таким же неизменным, как и тысячи лет назад. У нас сохранились памятники, свидетельствующие о том человеке, и мы видим в них нечто неизменное, и в них поклоняемся вечности независимого духа, заслоненного от нас страшно быстрым движением внутри пространства и времени.
Мы на пороге какого-то нового синтеза этического сознания.
Есть ли это новое время начало конца света или начало жизни без войн – в этом сейчас и определяется каждый из нас.
Почему Шекспир так долго живет среди нас после себя? Многие говорят, будто он провидел наше время. А мне кажется, он не вперед глядел, а просто видел что-то возле себя, был современником душевного потока, подобно тому как мы являемся современниками идеи торжествующего социализма. Не в том ли секрет всех художников, побеждающих время: не вперед они видят, а здесь, возле себя самого, и это хватает им надолго.
Мне даже кажется так, что во всяком настоящем таланте содержится особое чувство современности.
Может быть, даже в состав таланта включен какой-нибудь особый орган и посредством его они, художники, ориентируются во времени, подобно тому как перелетные птицы определяются в своих огромных пространствах.
Вот сейчас, по-видимому, на всем земном шаре человек идет против человека войной… Но мы чувствуем, напротив, что в настоящей современности на всем земном шаре не война – там жизнь, и, напротив, на всем земном шаре, как никогда, человек идет к человеку.
…Пусть даже сейчас восторжествует не мир, а война. Современным останется путь к миру, и останется в творчестве своем тот Шекспир, который укажет путь к миру…
И возможно, я, скромный писатель, тоже перехожу какой-то великий путь, и где-то сзади издалека глядят на меня, и тоже за мной идут, и тоже, сами того не зная, за собой ведут?
Глава 32
Мать-Родина
Значение этих повторяемых и стираемых слов: мать родная земля… В сущности, как все переберешь в себе, земли тут и нет никакой, это не земля сама, а любовь к человеку, как бы приподнимающая на воздух все эти родные елки, березки, овражки и яблоньки. Это материнская любовь делает землю родной и прекрасной. Можно тоже родиться поэтом, и тогда родную землю можно найти в любой земле, и родиной сделать себе стратосферу, и там на воздушных шарах утвердить любовь как дело родственной связи со всем живущим.
Моя любовь к родине больше любви к искусству, и в этом все.
…Так-то оно, конечно, лучше бы работать гражданином мира, но как перешагнуть через родину, через самого себя? Ведь только я сам, действительно близкий к грубой материи своей родины, могу преобразить ее, поминутно спрашивая: «Тут не больно?»
Если слышу «больно» – ощупываю в другом месте свой путь. Другой-то разве станет так церемониться, разве он за «естественным богатством» железа, нефти и угля захочет чувствовать человека?
По правде сказать «я» можно лишь на родном языке.
Родина. Что скажет о ней дитя ее, что откроет, – не откроет чужой, прохожий человек. И то, что увидит чужой, не знает рожденный на ней.
* * *
Мое чувство родины исходит от слова, которое унаследовал я через мать мою от русского народа, – это наследство и есть моя родина. Но в любви своей к русскому слову я приложил много своего личного труда, и как бы я мало ни сделал, но в меру своего таланта и усердия оно представляет собой нечто отличное от всего полученного мною наследства: там в чувстве родины я вместе со всеми едино тело и един дух, здесь в отечестве я представляю собой, как и каждый поработавший честно на пользу своей родины, личность единственную, неповторимую и незаменимую.
Чувство родины неизъяснимо, мы связываем его с чувством материнства, родина – это мать моя, а собрание дел моих (сочинений) есть мой паспорт в отечество
Наконец-то дожил до понимания «Капитанской дочки» и тоже себя: откуда я пришел в литературу. Утверждение мира в гармонической простоте («мечта и существование» сходятся).
Пушкин отсылает своего Онегина и вообще «героя нашего времени» к Пугачеву (Швабрин) и оставляет себе то простое, что есть в капитанской дочке. И теперь читаешь – и как будто у себя на родине…
Моя родина не Елец, где я родился, не Петербург, где наладился жить, – то и другое для меня теперь археология; моя родина, непревзойденная в простой красоте, в сочетавшейся с нею доброте и мудрости, – моя родина – это повесть Пушкина «Капитанская дочка».
Природа, как и жизнь, не поддается логическому определению, и спросите любого, что он понимает в слове природа. Никто не даст всеохватывающего определения: одному это дрова и стройматериалы, другому – цветы и пенье птиц, третьему – небо, четвертому – воздух, и так без конца В то же время каждый из этих потребителей знает, что это не все.
Недавно это нечто большее, чем свой личный интерес, мы по– чувствовали к природе во время войны, и как мы это почувствовали, общий интерес: это родина, дом наш.
Природа явилась нам как родина, и родина-мать обратилась в отечество.
Родина, как я ее понимаю, не есть что-то этнографическое, неподвижное, к чему я теперь прислоняюсь. Для меня родина – все, что я сейчас люблю и за что борюсь, родина – это я сам как творческий момент настоящего, создающего из прошлого наше будущее.
Чувство родины в моем опыте есть основа творчества.
* * *
Мое направление. Материал у меня под ногами – моя родная земля, а направление мне дает каждое дерево своим ростом вверх прямо к свету. Все остальное – борьба.
У меня тоска бывает чаще всего от прихода в свое внимание чего-нибудь избитого, повторенного много раз, пошлого. Есть, однако, избитое, например, выбитая ногами людей тропа – никогда не вызовет тоски, есть травка-муравка на дворе, всю жизнь смотришь – и ничего…
Деревенские задворки – самое чудесное место на земле: среди молчаливых сараев полукруг полей завершается лесами.
Солнце после дождя. Иду без шляпы в задворках по тропинке между сараями, трава на тропе подбита, примята ногами, и земля виднеется. А по сторонам тропы поднимается та самая трава-мурава, которая, кажется, была со мной от рождения, – это пырей, одуванчики, просвирки.
– Так вы тут стоите! – сказал я… И правда, стоят, а тропа – я иду, иду, и эта тропа есть моя самая близкая родина.
Аромат истории. Сказать, какой запах у черемухи сам по себе, невозможно: этим пахнет только черемуха, и нюхали этот аромат еще и те русские, кто слушал Баяна, певшего свою былину о полке Игореве, и много раньше того, в те времена, о которых мы и не догадываемся.
И когда понюхаешь, то присоединяешься ко всему этому прошлому, я – по-своему, другой – по-своему, третий, каждый по-своему присоединяется к одному и тому же. И так из всего этого: каждый по-своему и все – к чему-то одному: так и складывается родина.
* * *
Моя наука есть наука родственного внимания своеобразию каждого существа. Эта наука привела меня к искусству слова, а искусство слова – к родине. И я понял, что природа есть родина.
Лучшее, что я храню в себе, это живое чувство к хорошим людям, от которых я произошел, замаскированное словом «природа». Это и есть живое чувство родины.
Тема о хороших людях, как чувство родины, в сущности, и есть содержание понятия «природа».
Если бочка под капелью полна и вода все льется из водосточной трубы, то нужно ли раздумывать воде, чтобы перелиться из бочки и свободным ручьем радостно, с говором бежать по земле в реку, в море и, может быть, в океан?
Так и я тоже мало думал о мастерстве строительства русской речи, а всегда помнил о той «бочке», откуда сам теку, и эта память о бочке определяла мое поведение.
* * *
В моей борьбе вынесла меня народность моя, язык мой материнский, чувство родины. Я расту из земли, как трава, цвету, как трава, меня косят, меня едят лошади, а я опять с весной зеленею и летом к петрову дню цвету.
Ничего с этим не сделаешь, и меня уничтожат только, если русский народ кончится, но он не кончается, а, может быть, только что начинается.








