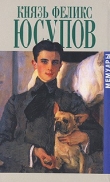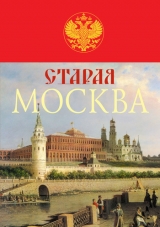
Текст книги "Старая Москва. История былой жизни первопрестольной столицы"
Автор книги: Михаил Пыляев
Жанры:
История
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 31 (всего у книги 35 страниц)
Из потомков его первый известен комнатный стольник царя Алексея Михайловича, Иван Богданович, отличавшийся необыкновенною силою и охотничьею удалью: он неоднократно вступал в единоборство с рассвирепелым медведем, и раз, когда на охоте царю Алексею Михайловичу угрожала опасность, он в одно мгновение заслонил царя, принял зверя на рогатину и распорол ему живот ножом.
Этот Сумароков носил прозвище Орла – за свою лихость. Во время правления царевны Софьи мятежники, заговорщики против Петра, посадили Сумарокова в казематы в Девичьем монастыре, истязали там пытками, желая склонить его на свою сторону, и, подстрекая тайно убить брата Петра, царя Иоанна, говорили: «Орел, убей ты нам того орла, который часто летает на Воробьевы горы». У царя Иоанна на Воробьевых горах был любимый летний дворец, который он очень любил и часто живал там.
Измученный пытками, верный присяге, Иван Сумароков не вынес страданий и под истязаниями скончался в одном из застенков Девичьего монастыря.
Меньшой его брат, Панкратий, был вызван впоследствии Петром из каширского имения и записан в «потешные». По преданию, Панкратий был такой же красавец, как и его брат, и не было той красавицы на Москве, которая не сходила бы с ума от любви к нему.
Женитьба последнего отличалась романическою подкладкой: он увез у богатого и гордого боярина Зиновьева единственную его дочь-красавицу. На этот увоз сам царь посмотрел вначале грозно, но, залюбовавшись на красоту новобрачных, простил их и вдобавок еще подарил им богатые пензенские вотчины.
Когда родился сын у Сумарокова, Петр, то он уже не числился в «потешных», а был по документам стряпчим с ключом. Петр Панкратьевич Сумароков с самого младенчества был облагодетельствован царем – Петр Великий сам крестил его и пожаловал ему на зубок тысячу душ. Он служил в гражданской службе и умер действительным тайным советником.
Крестник царя, Петр Панкратьевич, жил в своих богатых имениях по-барски; он был женат на П. И. Приклонской, у него было три сына и четыре дочери. При разделе их богатое имение отца распалось на семь частей и потом пошло дробиться до бесконечности. Над потомками его тяготел какой-то несчастный фатум.
Две его дочери были очень несчастливы в замужестве. Муж одной из них был в свое время известный всей Москве скряга, которого родной брат жены его, Александр Петрович, заклеймил именем Кащея и осмеивал в своих комедиях и сатирических песнях, нанимая фабричных петь эти песни под его окнами. Муж другой был тоже крайне недобросовестный человек. Две другие дочери также были очень несчастливы, и одна из них с горя даже помешалась.
Но особенно преследовала судьба потомков старшего сына, Василия. Сам он еще пользовался почетом и хорошим достатком; чин его был генеральский, и занимал он должность президента Московской Берг-коллегии. По делам службы он жил постоянно в Москве и имениями занимался мало, поручив управлять ими ловкому и хитрому мошеннику, при котором соседями, от которых он брал взятки, и было отрезано имение по частям при генеральном размежевании.
В то время, по рассказам, отрезку земли от прежнего владельца делали очень нехитро, закормив и задарив землемера. Помнившие генеральное размежевание описывали его так: выедет, бывало, богатый помещик в поле вместе с землемерами, в длинной линейке в шесть лошадей, с двумя форейторами да с вершниками в охотничьих кафтанах, и едет он вокруг своей дачи по смежным землям, которые задумалось ему захватить. Остановится где надо. Народ и смежные владельцы собраны. Землемер и закричит: «Слушайте, господа и народ православный, вот эта вся земля, по которой мы едем, принадлежит этому владельцу», т. е. тому, с кем он сидит. «Помилуйте, батюшка! – плачут крестьяне, – эта земля исстари наша или такого-то помещика». – «Вздор! – закричит землемер, – это неправильно, я вижу по писцовым книгам, что земля принадлежит ему, и, как мне закон велит, так я отрежу». Бедный человек, у которого отрезали землю, идет домой и кулаком утирает слезы, а богатый, на той же меже с землемером и своими приспешниками, задает пир горой. Часто случалось, что какой-нибудь сильный вельможа, отрезавший землю у бедняка, дарил землемеру за это только какого-нибудь иноходца или немудреного рысачка своего завода.
У этого Василия Сумарокова был сын Платон, служивший в Межевой канцелярии; последний был пристрастен к крепким напиткам и впоследствии сошел с ума; в числе его пяти детей известен по своей печальной судьбе Панкратий Платонович, поэт и издатель многих журналов в свое время. Панкратий Сумароков до двенадцати лет жил в деревне, потом был взят в Москву, в дом своего родственника, генерал-майора И. И. Юшкова, проживавшего в приходе Флора и Лавра на Мясницкой улице; здесь он получил блистательное образование с полным знанием нескольких языков. Когда ему исполнилось 18 лет, его отвезли в Петербург и записали в Конный гвардейский полк; через год он был уже корнетом гвардии, что в те времена составляло огромный шаг; через два года после того в Петербурге разнесся слух, что гвардейские офицеры подделывают ассигнации; слух этот возник вследствие обыска, сделанного в квартирах трех офицеров. Фальшивых ассигнаций при обыске не было найдено, но один из них признался в сбыте фальшивой бумажки.
Наряженная военно-судная комиссия нашла, что это не была подделка ассигнаций, а простой рисунок бумажки, набросанный пером на обыкновенной почтовой бумаге. Началось разбирательство, и вот подробности этого дела. Сумароков сидел больной дома и скуку развлекал рисованием копии с гравюры пером, в это время пришел к нему товарищ по полку, Куницкий, и долго любовался его мастерской работой, наконец сказал:
– Что за страсть марать бумагу и портить глаза?
Между тем как они разговаривали, вошел человек просить денег на покупку провизии. Сумароков достал бумажник, в котором было несколько ассигнаций, и дал ему одну из них.
– Вот, – сказал Куницкий, – если бы ты рисовал ассигнации, тогда бы ты точно придавал цену бумаге, и я бы согласился, что ты делаешь дело. Впрочем, я готов биться об заклад, что, несмотря на все твое искусство в рисовании, у тебя недостанет искусства нарисовать ассигнацию.
– Похожее на ассигнацию сделать легко, – сказал Сумароков, взял ассигнацию и принялся ее срисовывать, желая доказать своему товарищу, что это не так мудрено для него, как он думает.
Роковая ассигнация была готова. На дворе стало смеркаться. Куницкий зашел опять к Сумарокову, и тот показал ему нарисованную им ассигнацию.
– Неужели это ты нарисовал? – спросил Куницкий, подойдя к окну и рассматривая подделку. – Натурально, очень натурально, признаюсь, я от тебя не ожидал этого, и теперь согласен, что ты большой мастер рисовать.
– Подай же ее назад, – сказал Сумароков, – я сейчас велю зажечь свечку, и мы сожжем ее.
– Нет, братец, позволь мне ее рассмотреть получше на дворе: там светлее, я здесь хорошо не вижу, – и, не дожидаясь ответа, Куницкий вышел из комнаты.
Проходит десять минут – он не возвращается; Сумарокова начинает брать беспокойство. Он посылает человека на двор поискать Куницкого. Проходит час, Куницкого нет. Сумароков приходит в отчаяние; наконец, часа через два является Куницкий, завернутый в лисий мех. Сумароков спрашивает, где он взял эту обновку.
– Не правду ли я говорил, – говорит Куницкий, – что гораздо выгоднее рисовать ассигнации, чем картинки?
Тут он рассказал, что был в Гостином дворе, где, купив лисий мех, воспользовался темнотою лавки и отдал за него ассигнацию, которая была нарисована совсем не для такого употребления. Легко себе представить испуг Сумарокова: он бранил товарища, просил его, чтобы он указал ему лавку, в которой он обманул купца, но товарищ, наскучив его упреками, ушел, сказав, что это все пустяки и об этом не надо думать.
На другой день пришел к Сумарокову другой его товарищ, Ромберг. Сумароков рассказал ему, как было все дело, и пошел вместе с ним к Куницкому, чтоб уговорить его идти выкупить ассигнацию.
Но Куницкий боялся показаться купцу и сказал, что он положительно отказывается его отыскать, так как за ночною темнотою наверно не может отыскать лавку.
Несколько дней прошло в нерешимости и беспокойстве; но, наконец, беспечность юности и время уменьшили первый ужас. Тайна осталась между троими, и, казалось, в самом деле нельзя было опасаться, чтобы она когда-либо открылась.
Купец, продавший мех Куницкому, тотчас по выходе его, запер лавку, и ассигнация, которую он положил в ящик, осталась наверху прочих денег, полученных им во время торговли того дня.
Темнота не позволила ему хорошенько рассмотреть бумажку, но на другой день он ее узнал. Лицо последнего покупщика у него хорошо врезалось в памяти. Недели через две после этого происшествия Куницкий раз очень спокойно шел по улице; вдруг на повороте, выйдя из-за угла, столкнулся нос с носом с обманутым им купцом. Тот останавливается, всматривается, узнает его, кричит: «Караул!» Куницкий струсил и пускается в бегство; его схватывают, спрашивают, кто он, и ведут к Михельсону, который в то время командовал полком.
Там он во всем признался. Посылают за Ромбергом и Сумароковым, и они подтверждают сказанное им, и их всех троих отправляют на гауптвахту. Судившая их комиссия не взяла в оправдание их молодость и не оправдала их, а приговорила к лишению всех прав состояния и ссылке на жительство в сибирские города: первого – как сбытчика фальшивой ассигнации, другого – как ее рисовальщика, третьего – как укрывателя преступления.
История эта наделала много шума в Петербурге. Местом жительства ссыльных был назначен Тобольск, где в то время был губернатором А. В. Алябьев. Последний взглянул на молодых офицеров не как на преступников, а как на странников, занесенных несчастием в край чужой и далекий; он доставил им полную свободу, а Сумарокову дал возможность заниматься науками и литературой, в которой последний еще в Петербурге делал стихотворные опыты.
При обыске квартиры Сумарокова в числе некоторых его литературных произведений были найдены сатирические стихи на одного из начальствующих лиц – командира полка. Эти-то стихи, как носились тогда слухи, много повредили исходу его дела. Сумароков в Тобольске стал издавать журнал «Иртыш», превратившийся в «Ипокрену»105, и потом «Библиотеку ученую, экономическую, нравоучительную, историческую и увеселительную»; она состояла из 12 довольно объемистых книг.
В 1799 году он выпустил первый том своих стихотворений. Но, несмотря на все эти занятия, родина все мечталась невинному изгнаннику. В 1801 году он написал Александру I просительное письмо и получил прощение. Возвратившись в Россию, он поселился в деревне своей в Тульской губернии, где не покидал своих литературных трудов и в 1803 году издавал «Журнал приятного, любопытного и забавного чтения», а в 1804 году начал было издавать с Карамзиным «Вестник Европы», но вскоре занемог и бросил его. Панкратий Сумароков умер в 1814 году, на 49 году от рождения.
Средний сын крестника Петра был известен в летописях нашего театра. Александр Петрович родился в 1718 году в городе Вильманстранде, в Финляндии. Драматические произведения Сумарокова теперь преданы забвению, но было время, когда смотрели на них, как на гениальные произведения.
Александр Петрович Сумароков был горд, раздражителен и самолюбив до крайности; самолюбие его происходило не от пустой самоуверенности в своем таланте, но от успехов, какие он имел тогда на театре, от внимания самой императрицы и от похвал Вольтера.
Трудно обвинять в самолюбии и гордости человека, которому рукоплескали образованные люди тогдашней эпохи.
Он жил в Москве, на Кудринской площади, и часто его видели, как он отправлялся пешком в кабак через Кудринскую площадь в белом шлафроке, а по камзолу через плечо – Анненская лента.
Современники видели в нем только человека беспокойного и неуживчивого и смешного. Невозможно было удержаться от смеха, говорит один из них, видя перед собою высокого, стройного мужчину, довольно приятной наружности, щегольски разодетого, беспрестанно суетящегося, готового из-за всякой безделицы рассердиться до невозможности.
В обоих карманах камзола у него лежал нюхательный табак: он то из одного, то из другого вынимал его горстями, поспешно нюхал и обильно посыпал им свой щегольской наряд и в особенности тонкие кружевные манжеты.
Трудно было также удержаться от смеха, как этот господин из пустяков выходил из себя, топал ногами, кричал и проч. Особенно недолюбливал Сумароков подьячих и полицейских чиновников.
Раз, на подмосковной даче Волынского, в Троицын день, простой народ веселился, пел и гулял. Полиция вздумала вмешаться и унимать развеселившихся мужичков, и грубо расталкивать их. Сумарокова это сильно раздосадовало; он вскочил на какую-то скамейку и закричал полицейским:
«Наша матушка бережет народ, а вы что тут вздумали озорничать!»
Приятели еле могли его увести.
Он долго не мог успокоиться и все твердил: «Да разве можно позволять полиции так расталкивать народ! Ведь это такие ж люди, как и мы». Он, например, не мог хладнокровно слышать, если в каком-нибудь доме прислугу называли «хамовым отродьем». Стоило только сказать эти два слова, как он весь краснел и, забывая в досаде проститься с хозяевами, бежал вон из дома.
Сумароков не боялся сильных вельмож тогдашнего времени. Он много перенес от своего бешеного, неукротимого, но при всем том доброго и великодушного характера. Сумароков умер в бедности в Москве; никто из родных его не пришел отдать ему последнего долга, за исключением только одного дальнего родственника, Юшкова; похоронили его московские актеры на свой счет; могила его на кладбище Донского монастыря – ее отыскать нельзя, в ней лежит другой покойник.
Женат Сумароков был два раза: в первый раз – на бывшей фрейлине Екатерины, когда последняя была еще великой княгиней; второй раз Сумароков был женат чуть ли не на своей кухарке.
В сочинениях Сумарокова есть сторона очень важная и любопытная: это взгляд на любовь и женщину. Женщина русская, только что выпущенная из терема, была в XVIII веке еще странным явлением в обществе, несмотря на стечение многих благоприятных обстоятельств. Каковы были, по большей части, женщины того времени – мы можем судить по современным запискам, например, хоть по письмам леди Рондо. Преобладающих типов было два: щеголиха и не совсем еще освободившаяся от идей XVII века женщина.
Оба типа выводимы были много раз Сумароковым, например, Деламида (в «Пустой ссоре») и Минодора («Мать – совместница дочери»), щеголиха и Хавронья (в «Рогоносце по воображению») – совершенно старорусская барыня.
Так представлял Сумароков отрицательные женские типы; но у него есть стремление представить и положительный тип.
Такой тип он представлял в своих трагедиях и, разумеется, создал тип идеальный, в котором преобладает нежность и вместе с тем верность долгу, так что часто драма происходит от столкновений этих чувств.
Выводя в трагедиях женщину, Сумароков изображает и любовь. Любовь в его представлении отзывается большою сентиментальностью. Причина понятна, и происходило это, разумеется, большею частью вследствие подражания, а подражать в этом случае приходилось потому, что действительность была слишком далека от идеала.
Поэтому неудивительно, что героини трагедий Сумарокова, как и Озерова, отзываются Расином, а пастушки – Фонтенелем.
Известен в летописях дворцовых событий восемнадцатого века еще Петр Спиридонович Сумароков (родился в 1705 году, умер в 1786 году). В начале своей карьеры он служил камер-юнкером у герцога Гольштинского, после был посылаем в Митаву Ягужинским и врагами Долгоруких уведомить герцогиню Курляндскую Анну Иоанновну, что она может принять условия верховников, а при восшествии на всероссийский престол их уничтожить. Сумароков хотя и успел исполнить поручение, на обратном пути был, однако, задержан князем Василием Лукичом Долгоруким, закован в кандалы и чуть ли не наказан батогами, и освобожден был только прибывшею в Москву императрицею Анною Иоанновною. Несмотря на свое усердие, он не был любим императрицею.
Эта нелюбовь объясняется тем обстоятельством, что Сумароков служил при ненавистном ей Гольштинском дворе. Сумароков был впоследствии обер-шталмейстером при Елизавете и Екатерине II и, кроме этого, состоял директором Шляхетного Кадетского корпуса.
Сумароков был также в вечной вражде с Орловыми и в силу этого обстоятельства жил всегда, как недовольный двором, в Москве. Дом его в Москве был невдалеке от Лубянской площади и отделан был роскошно; владелец его обладал очень хорошим минералогическим кабинетом, в числе редкостей которого был огромный кусок магнита, державший двухпудовый якорь. Магнит этот был подарен ему Никитой Акинфиевичем Демидовым. По смерти Сумарокова эта диковинка была поднесена императрице Екатерине II.
ГЛАВА XXIII
Бульварная Москва допожарной эпохи
В первых годах XIX столетия в Москве появились сатирические стихотворения, написанные на тогдашнее общество; обыкновенно стихи эти, или, вернее, вирши, затрагивали излюбленные места прогулок москвичей: «Вокзал», Тверской бульвар и Пресненские пруды. Тогда в Москве существовал только один бульвар – Тверской, насаженный березками. Позднее березки заменили липами и устроили другие бульвары уже после нашествия французов.
На бульвар и в другие места в то время являлись москвичи каждый день. Гуляли они, держа шляпы под мышкою, потому что высокая прическа, пудра, помада и шпильки, особенно у дворян, следовавших законам моды, так отягчали и парили головы, что невозможно уже было, особенно летом, ходить с накрытой головой. Купцы и нечиновный люд стояли рядами по бульвару, не сближаясь с аристократиею; у купцов, ходивших в немецком платье, на шляпах были темные кокарды, у дворян с такими же пуговками светлые. Вельможи носили чванливо звезды на плащах, камзолы их были по большей части красные, с позументами, с раззолоченными ключами на спинах. Орденские знаки и ленты в то время не покидали, даже когда ездили в баню.
Встречались тогда на улицах во множестве и бригадиры в своих белоплюмажных шляпах; отставные военные носили панталоны из трико в обтяжку и высокие гусарские сапоги с кистями; на фраках были пуговки золотые, воротники торчали высокие, жабо тоже большое, часовые цепочки две, со множеством огромных печатей; у некоторых были кожаные перевязи, а у большей части франтов виднелись в ушах серьги.
Молодежь ходила обыкновенно в очках, нередко сильно набеленная, нарумяненная и с насурмленными бровями; у некоторых из военных были приделаны искусственные плечи, чтобы казаться молодцеватее.
Чтобы прослыть модником, тогда нужно было иметь своих собственных лошадей с рыдваном, в котором иной повеса и катался целый день:
С кладбища на сговор, с крестин на погребенье,
С бульвара на пруды, с прудов в дворцовый сад и т. д.
В описываемую нами эпоху прекрасный пол появлялся на улицу одетый в очень короткие платья, почти открытые, на зарукавьях были змейки, пояса находились очень высоко, почти у самой груди; косы в то время были обрезаны, головы завиты барашками. Некоторые модницы попадались с гребенками в курчавых волосах, величиною до полуаршина; у пожилых дам волосы были взбиты башней и на лбу виднелось несколько мушек.
В первый раз уличная сатира коснулась москвичей в девяностых годах прошедшего столетия. В это время в Москве вошел в большую моду «английский вокзал». Последний стоял близ Рогожской заставы и Дурного переулка.
Место это теперь застроено домами после пожара 1812 года. Вокзал содержал иностранец Медокс, происхождением грек или англичанин.
В вокзале был устроен красивый летний театр; тут играли небольшие комические оперетки и такие же одноактные комедии. За представлением на театре следовал бал или маскарад, который заканчивался хорошим ужином; за вход в вокзал платили один рубль меди, а с ужином – пять рублей.
По обыкновению, сюда стекалось до пяти тысяч человек и более. Вокзальный театр был приготовительным для молодых артистов; здесь они учились и испытывали свои способности перед публикою. Для открытия вокзала В. И. Майков сочинил небольшую оперу «Аркас и Ирика», к ней написал музыку Керцелли. Этот капельмейстер и композитор, как уже говорено было раньше, был глухой, но знал свое дело превосходно.
В этом вокзале часто гулял пленный шведский адмирал граф Вахтмейстер, взятый адмиралом Грейгом 6 июля 1788 года близ острова Гохланда вместе с 70-пушечным кораблем «Принц Густав».
Присутствие на гуляньях Вахтмейстера возбуждало самое нескромное любопытство. За ним бегали толпами женщины. На это неизвестным обличителем было написано следующее стихотворение:
Умы дамски возмутились,
У всех головы вскружились,
Как сказали, что в вокзал
Будет шведский адмирал.
Далее зоил пел:
Дочерей и внук толкают,
Танцевать с ним посылают:
«Пошла, дура, не стыдись,
С адмиралом повертись!»
В песне также говорилось, что шведский адмирал весьма неосторожно сделал какой-то даме глазки. Здесь пиит уже впадал в оплошность. Граф Вахтмейстер был крив и не мог делать глазки.
Впоследствии императрица Екатерина II, рассердившись на шведского короля, приказала пленного адмирала взять из Москвы и отослать в Калугу.
На этот вокзал была сложена еще другая песенка, в которой была воспета какая-то «знатная и многолетняя богатая барыня», которая мастерски переманивала женихов от невест. В песне говорилось, что «она сперва приголубливала их сама, а потом, скучая то тем, то другим, впоследствии выдавала их за таких невест, за каких хотела, со своим приданым», и т. д.
Автором этих стихотворений в то время называли молодого Мамонова, только не графа М. А. Дмитриева-Мамонова, а служившего под его начальством; тогдашний московский главнокомандующий граф И. В. Гудович посадил Мамонова под арест. Это взорвало Дмитриева-Мамонова, и он в Сенате после заседания наговорил дерзостей Гудовичу; последний пожаловался на него императору. Впоследствии стихи эти приписывали одному молодому военному-красавцу, сатира которого в то время заставляла трепетать многих и отворяла ему двери во все дома, со многими привилегиями.
Тогда считали благоразумнее обезоружить автора гостеприимством, чем мстить или бежать от него. Где появлялся этот красавец, там, по словам современника, и настоящий поэт прижимался к углу.
Всякий боялся попасть в стихи к рифмоплету, который, пожалуй, навяжет ему жену-дуру «Фетинью» или назовет в своих виршах и самого «скотом». Про этого воина-красавца тогда все знали, что он не отличается нравственною чистоплотностью, и что победы его – самого мирного сорта у какой-то пребогатой графини, предавшейся ему и сердцем, и карманом. Тогда не проходило ни одного дня, в который бы этот ловелас не притащил от старухи бриллиантов или денег к зеленому столу и не поставил бы всего этого к ногам карточных дам.
Был у этого молодца и приятель, всегда готовый к его услугам; это был товарищ его по оружию; последний только и знал, что дуэли; вечно зашнурованный рукав сюртука, два больших шрама, один – на щеке, другой – на бороде, свидетельствовали о его подвигах на таком бранном поприще. Кажется, намек о нем находим у графа Л. Н. Толстого в его романе «Война и мир». Затем, позднее, авторами бульварного острословия были два известных тогда в высшем обществе молодых человека, А. Д. Копьев и С. Н. Марин.
Первый из них был сын пензенского вице-губернатора Д. С. Копьева; говорили, что последний был еврейского происхождения, но верно только то, что он принадлежал к числу благородно мыслящих людей.
Про сына Копьева, которого тогда знала вся Россия, пишет князь Долгоруков106, что он славился необыкновенным пострельством, был умен, остер, хороший писец, «ну, просто сказать, петля». Кто не помнит его бесчисленных проказ? Славиться такими проказами он стал почти в юношескую пору своей жизни.
Про него существует рассказ, что раз, в бытность свою в карауле во дворце, он побился об заклад с товарищами, что тряхнет косу императора Павла за обедом. И однажды, будучи при нем дежурным за столом, схватил он государеву косу и дернул ее так сильно, что государь почувствовал боль и гневно спросил, кто сделал. Все были в испуге. Один он не смутился и спокойно отвечал:
– Коса вашего величества криво лежала, я позволил себе выпрямить ее.
– Хорошо сделал, – сказал государь, – но все же мог бы ты сделать это осторожнее.
Тем все и кончилось107.
Князь Вяземский рассказывает: в другой раз Копьев бился об заклад, что он понюхает табаку из табакерки, которая была украшена бриллиантами и всегда находилась при государе. Однажды утром подходит он к столу возле кровати императора, почивающего на ней, берет табакерку, с шумом открывает ее и, взяв щепотку табаку, с усиленным фырканьем сует в нос.
– Что ты делаешь, пострел?! – с гневом говорит проснувшийся государь.
– Нюхаю табак, – отвечает Копьев. – Вот восемь часов уже дежурю; сон начинал меня одолевать. Я надеялся, что это меня освежит, и подумал лучше провиниться перед этикетом, чем перед служебною обязанностью.
– Ты совершенно прав, – говорит Павел, – но как эта табакерка мала для двух, то возьми ее себе.
Вигель говорит про Копьева, что он принадлежал к числу тогдашних молодых людей, которые щеголяли безбожием и безнравственностью, но более в речах, чем в поступках, и это давало им вид веселого, но нестерпимого бесстыдства: Копьев же старался и их превзойти. Будучи офицером в Измайловском полку, он прославился насмешками над честным и довольно строгим, но не отличавшимся умом начальником своим – Арбеневым. Ему все сходило с рук по доброте этого начальника.
Репутация его, как остряка и балагура, дошла до князя Зубова; последний, по примеру князя Потемкина, имел свиту огромную, составленную из адъютантов, ординарцев и т. д. Он поместил при себе и Копьева, который в продолжение последних лет царствования Екатерины, пользуясь безнаказанностью, проказил немилосердно; Копьев был еще довольно молод, а молодости многое прощается. Проказничал же он более речами.
По вступлении Павла на престол Копьев остался без опоры со своими пресловутыми фарсами. Все тогда роптали на перемену мундирной формы по старинному прусскому образцу, и Копьев выкинул штуку: заказал себе в преувеличенном виде все – ботфорты, перчатки с раструбами, прицепил уродливые косу и букли, и в этом шутовском наряде явился к императору, который, впрочем, удовольствовался тем, что виновного посадил на сутки под арест и велел отправить в драгунский полк, который стоял в Финляндии.

А. Васнецов. У водоразборного фонтана на Сухаревской площади в конце XIX в.
Анекдотов про Копьева была куча; он не унимался: по старой привычке, не переставал врать и проказничать. Это ему даром не прошло, и он вскоре был разжалован в рядовые и записан в гарнизонный полк в Финляндии.
В бытность рядовым он влюбился в дочь одного богатого помещика; впоследствии император Павел сжалился над ним и приказал его отставить от службы с его прежним подполковничьим чином, но оставить его на жительстве в Финляндии.
В первые месяцы царствования Александра I он был возвращен из ссылки и сравнен с чинами его сверстников; ему прямо был дан чин генерал-майора.
В пожилых годах он отличался необыкновенною скупостью; как сам он, так и его люди были оборваны, в заплатках и засалены. Он век проходил в зеленом фраке; тогда уверяли, что последний был сшит из остатков с бильярдов и что заметны были даже пятна, напоминающие места, где становились шары.
Рассказывали, что он, чтобы убедить крестьян своих внести ему разом годовой оброк, говорил им, что взнос будет последний, а что с будущего года станут они уплачивать все повинности и отбывать воинскую поставку одною клюквою.
Копьев был известен не одними только остротами, но не менее также и худобою своей малокормленой четверни лошадей. Князь Вяземский рассказывает:
«Однажды ехал он по Невскому проспекту, a Сергей Львович Пушкин (отец поэта) шел пешком по тому же направлению. Копьев предлагает довезти его.
– Благодарю, – отвечал Пушкин, – но не могу: я спешу».
Копьев был очень смугл, с черными выразительными глазами, которыми поминутно моргал; говоря, он несколько картавил и вместе с тем отчеканивал слова свои с каким-то особенным ударением. Он любил, как говорили тогда, «русить» иностранные слова; он выдумал слово «апропее»; про лифляндских помещиков говорил он, что у кого из них более поместьев, тот и «фоннее».
Вигель говорит, что он всегда острил над семейными и супружескими добродетелями, и для красного словца не щадил ни отца, ни матери, ни сестер, к которым, впрочем, как и к детям своим, был нежно привязан и жене своей верен и предан.
Особенно много доставалось от Копьева графу Хвостову; последний его иначе не называл, как «с позволения сказать». Копьев умер 5 июля 1846 года. Помимо множества сатирических стихотворений, которые писал он не для печати, известны его комедии: «Обращенный мизантроп, или Лебедянская ярмарка», в 5 действиях, СПб., 1791 год, и «Что наше, таво нам и не нада», в 1 действии, СПб, 1794 год, затем «Княгиня Муха» и другие. Все эти пьесы были играны в свое время на театре с успехом. Брат его, М. Копьев, известен как переводчик многих романов.
Другой такой же светский шутник, веселый товарищ и образованный человек, владевший стихом очень бойко, хотя писал довольно небрежно и мало для печати, был Сергей Никифорович Марин, преображенский офицер.
В бытность в Преображенском полку портупей-юнкером, Марин как-то на вахт-параде, на площади Зимнего дворца, проходя мимо императора Павла, сбился с ноги; государь прогневался и разжаловал его в рядовые. Спустя некоторое время, стоял он на часах у проезда императора, государь заметил молодца-солдата, который отдал ему честь.
– Кто этот молодец?
Тогда ему доложили, что это разжалованный дворянин.
– Марин, – сказал государь, – поздравляю тебя прапорщиком, – и ударил его по плечу.
Марин оставался в роте его величества в Преображенском полку до смерти Павла. Впоследствии он был флигель-адъютантом Александра I и играл блистательную роль в кругу петербургской молодежи.
Еще в конце царствования Екатерины II и при Павле I стали появляться разные шуточные стихотворения его, по большей части пародии на известные тогда оды Ломоносова и Державина. Большая часть его сатирических стихотворений посвящена описанию разных личностей; из числа таких стихотворений в свое время большою известностью пользовалась его ода на учителя истории в Кадетском корпусе Гаврила Васильевича Геракова108. Марин был другом А. Л. Нарышкина, в доме которого и жил почти безвыездно. Марин скончался 36 лет от роду и похоронен в Невской Лавре, на Лазаревском кладбище.