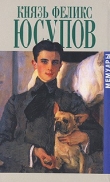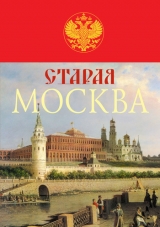
Текст книги "Старая Москва. История былой жизни первопрестольной столицы"
Автор книги: Михаил Пыляев
Жанры:
История
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 35 страниц)
А сколько при царских смотринах бывало происков, интриг! Вспомним несчастную судьбу Хлоповой – невесты царя Михаила, и Всеволожской – невесты царя Алексея.
От брака царя Алексея Михайловича с Натальей Кирилловной родился Петр Великий. Веселое житье Натальи Кирилловны продолжалось только пять лет; в январе 1676 года Алексей Михайлович, пользовавшийся, по-видимому, хорошим здоровьем, скончался неожиданно. Нового царя Феодора Алексеевича окружили враги Нарышкиных и Матвеева, близкие люди его матери.
Царь Феодор был здоровья очень слабого, его переехали санями, и он страдал цингою. Матвеев был сослан, Нарышкиным была объявлена опала, а один из Нарышкиных, по свидетельству Желябужского, был наказан публично батогами перед Холопьим приказом.
Смуты, последовавшие по смерти слабого Феодора, честолюбивые замыслы царевны Софьи и возбуждаемые ею крамолы стрелецкие подвергли кроткую царицу Наталью, мать Петра, и весь род Нарышкиных жесточайшим преследованиям буйных стрельцов.
Иван Кириллович Нарышкин, родной брат царицы Наталии и дядя Петра, носивший звание боярина и оружничего (чин, соответствующий званию генерал-фельдцейхмейстера), невинно погиб мученическою смертью на копьях разъяренных стрельцов, которые отсекли ему ноги, руки и голову, потом, разрубив туловище на мелкие части, топтали ногами останки неповинного страдальца в глазах старика-отца его. Самого боярина Кирилла Полуектовича злодеи заставили принять монашество, сослав его в Кириллов монастырь.
Н. Полевой52 говорит, что он там и умер, но это неверно; в Высоко-Петровском монастыре, в Москве, находится его могила. По году его кончины видно, что после мученической смерти сыновей он прожил еще девять лет. Любопытно знать, где он провел эти девять лет и точно ли был пострижен, чего не видно в надписи на могиле.
Жизнь самой царицы также была в опасности. Наталья укрылась в Троицко-Сергиевском монастыре; Петр здесь чуть-чуть не погиб от отравы.
Царицу Наталью Кирилловну за введение при Кремлевском дворе музыки и театральных представлений фарисейски набожная тогда партия Милославских называла еретицей. Но какую же злобу и ненависть вызвала вскоре жена царя Феодора Алексеевича, Агафья Семеновна, взятая из польского рода Грушецких.
Она была выбрана царем не по-старинному, на смотрах в верховых опочивальнях, а приглянулась просто на улице во время крестного хода. Эта царица, по преданию, уговорила царя снять с себя и с бояр женские охабни, стричь волосы, брить бороду и ходить по-польски, с саблей, и носить кунтуш. Царь все это исполнял в угоду царицы и только одного не делал – не брил бороды, и то потому, что у двадцатилетнего монарха борода еще не показывалась.
Царица Наталья прожила только 39 лет. В день кончины ее Петр писал к архангельскому воеводе Апраксину:
«Беду свою и последнюю печаль глухо объявляю, о которой подробно писать рука моя не может, купно же и сердце».
В стенах древнего Высокопетровского монастыря до бывшего в Москве морового поветрия погребались все члены фамилии Нарышкиных.
Монастырь этот основан при Дмитрии Донском; первый игумен был Иоанн, известный установитель общежития монахов в Москве. По смерти Алексея митрополита Иоанн в свите известного Миняя отправился в Царьград и после смерти митрополита безуспешно искал себе сана митрополита, соперничая с переяславским архимандритом Пименом.
В 1505 году монастырь Петровский был перестроен и назван Высокопетровским; так говорит Амвросий в своей «Истории Российской иерархии». В «Степенной книге» сказано:
«На месте, где построен монастырь, прежде было одно из селений боярина Кучки, называвшееся Высоцкое, отчего и монастырь назван Высокопетровским. В той же «Степенной книге» говорится, что великий князь Иван Данилович Калита, проезжая близ этого местл, узрел над ним видение: белый, как бы снеговой столб, и, в память этого видения, Калита основал на этом месте храм во имя Божией Матери».
Петр I, вступив на престол, приказал в 1690 году в память убиенных стрельцами дядей своих, погребенных здесь, построить каменную колокольню и кельи для монахов.
Нарышкины погребены в холодном храме Боголюбской Богоматери. Здесь по обеим сторонам стоят ряды каменных, соединенных между собою памятников, точно таких, как в Архангельском соборе, с поставленными на них черными дощечками.
На эти дощечки перенесены в сокращении старинные надписи, иссеченные на памятниках внизу в головах. Всех рядов шесть, памятников восемнадцать: по правую сторону – три ряда, или девять памятников мужского рода, по левую также три ряда – девять памятников женского рода.
Один из Нарышкиных, генерал-поручик Петр Кириллович, был погребен около храма в 1770 году. До нашествия французов в Москву 1812 года все эти памятники были покрыты красным сукном, но в приход французов сукно было похищено.
Некогда в ризнице монастыря находились парадные покровы – всех таких было девять; покровы были малиновые и зеленые бархатные, обшитые серебряными тонкими круглыми бляхами, величиною с большое яблоко.
В тридцатых годах нынешнего столетия на каждом памятнике стояли образа святых, соименных погребенным в могиле. В 1812 году французы, думая найти сокровища в гробах, разломали памятники и осмотрели могилы. Надписи на некоторых памятниках тоже истреблены французами.
Каменные палаты Нарышкиных в Москве были в Белом городе, на берегу Неглинной, там, где теперь дом Горного правления. Родовой дом Нарышкиных продал племянник Натальи Кирилловны Александр Львович Нарышкин жене генерала Н. С. Свечина; последняя в 1818 году продала его уже Горному правлению.
Племянник царицы и двоюродный брат Петра Великого А. Львович был очень любим императором; Петр его иначе не называл, как «Львовичем». В молодых летах он путешествовал по Европе, где обучался морской науке. Петр его хотел отправить в Испанию для склонения короля к войне со Швецией; в изготовленной грамоте государь называл его «графом». С 1723 года он управлял Морскою академиею и школами. При императрице Екатерине I он был президентом Камер-коллегии и директором Артиллерийской конторы и числился еще тогда капитаном от флота.
Его врагом был тогда всесильный Меншиков; он уговорил впоследствии императора Петра II лишить его чинов и сослать в дальние деревни. Опала его продолжалась недолго; с удалением Меншикова он снова приехал ко двору, где по-прежнему стал посещать юного монарха и смело укорял его за праздность и охоту.
Долгорукие опять уговорили Петра II удалить Нарышкина в его подмосковное село Чашниково. Это еще более раздражило Нарышкина, и он еще смелее стал укорять императора и роптать на правительство.
Когда его сосед Козлов уговаривал Нарышкина выехать к государю, забавлявшемуся охотою близ места ссылки Нарышкина, и испросить у него прощение, он отвечал: «Что мне ему с чего поклониться? Я и почитать его не хочу, я сам таков же, как и он, и думал на царстве сидеть, как он; отец мой государством правил, дай мне выйти из этой нужды, я знаю, что сделать»53.
Это неуважение к императору, переданное государю, подвергло его суду по законам (1729). Он был в опасности попасть розыску или пыткам, но милостивый император велел допросить его не в полном собрании Верховного Совета, а только двум членам – Остерману и князю В. Л. Долгорукову.
Нарышкин был отправлен в свое Шацкое имение, в Тамбовскую губернию. Долгоруковы велели объявить ему через своих агентов: если он отдаст им две вотчины – Покровское и Кунцово, то будет по-прежнему в Москве.
Он с негодованием отверг это предложение и оставался в опале до самой смерти Петра II. Императрица Анна в числе разных отличий, дарованных ему, сделала его директором Императорских строений и садов.
Императрица Елизавета по восшествии на престол пожаловала его кавалером ордена св. Андрея Первозванного и произвела в действительные тайные советники. Он умер в 1745 году на 51 году от рождения.
В своем Покровском он построил церковь и вывез образа из Италии для иконостаса этого храма. В этой церкви хранится в ризнице полотенце, вышитое золотом и шелками царицей Натальей Кирилловной.
Из замечательных лиц рода Нарышкиных нельзя не упомянуть о Семене Григорьевиче Нарышкине, генерал-адъютанте Петра Великого, – он был сын боярина Григория Филимоновича и приходился внучатным братом Наталье Кирилловне.
Служил он вначале комнатным стольником, потом был камергером, капитаном гвардии и, наконец, генерал-адъютантом у Петра Великого. Император удостаивал его особым доверием, посылая за границу с важными поручениями к иностранным державам. Он был замешан в деле царевича Алексея и сослан в дальнюю деревню, откуда был возвращен Екатериною I ко двору. Умер он в 1747 году.
Известен также по дипломатической службе Семен Кириллович Нарышкин, тоже внучатный брат царицы Натальи. Сначала служил он кравчим. Эти придворные чины имели в своем ведении посуду, напитки, столовое белье и в торжественные дни подносили кушанья государю.
Они наблюдали также за столом, охраняли царское здоровье и занимали место непосредственно после бояр. По смерти императрицы Анны этот Нарышкин уехал за границу, где проживал под именем Тенкина.
Вступив на престол, императрица Елизавета отправила его чрезвычайным посланником в Англию, затем он был назначен состоять гофмаршалом при наследнике престола, при Екатерине II был генерал-аншефом и обер-егермейстером. Жил он и умер в Москве, в своем доме, на Басманной. Семен Кириллович был первым щеголем в свое время.
В день бракосочетания Петра III он выехал в карете, в которой везде были вставлены зеркальные стекла, даже на колесах. Кафтан его был шитый серебром, на спине его было вышито дерево, сучья и листья которого расходились по рукавам.
У Нарышкина был очень хороший домашний театр. 8 декабря 1774 года императрица Екатерина II присутствовала у него на спектакле. Давали оперу «Альцеста», соч. Сумарокова. Всех посетителей на этом спектакле было до двухсот человек. До представления оперы играл хор роговой музыки, изобретателем которого он считался. После оперы дан был балет – «Диана и Эндимион». Последний был поставлен более чем великолепно; на сцене бегали олени и собаки, являлись боги и богини.
ГЛАВА XI
Два брата Нарышкиных: Семен и Алексей. – Два царедворца: Александр и Лев Нарышкины. – Дочери Нарышкина. – Граф Северин Потоцкий. – Марья Антоновна Нарышкина. – Анекдоты о Нарышкине. – Мать Нарышкиных. – Графиня Н. К. Соллогуб. – Обер-церемониймейстер И. А. Нарышкин. – Смерть его сына на дуэли. – Толстой, прозванный «Американцем», характеристика его. – Анекдоты и рассказы о нем современников. – Рассказы Новосильцевой о Толстом. – Ек. Ив. Нарышкина. – Исторические сведения о роде Нарышкиных. – Рассказы Кокса. – Граф Л. К. Разумовского. – Графиня Разумовская. – Ее примерная скорбь по мужу. – Страсть к нарядам. – Празднества в Петровском во время Александра I. – Судьба этого имения в последующие годы.
Известны в роду Нарышкиных два брата – Семен и Алексей Васильевичи, сыновья генерал-поручика В. В. Нарышкина; оба брата по летам были сверстники императрицы Екатерины II, образование получили по своему времени отличное и принадлежали к той фаланге молодых людей, которые вслед за Херасковым выступили на поприще юной тогдашней журналистики – оба брата писали стихотворения. Младший из них, Алексей, состоял в 1767 году генерал-адъютантом майорского чина по Инженерному корпусу при графе Г. Г. Орлове и в этой должности сопутствовал ему, когда Орлов сопровождал Екатерину в знаменитом ее путешествии по Волге, во время которого переведен был императрицею и ее свитою Мармонтелев «Велисарий», главы 7-я и 8-я которого переведены А. В. Нарышкиным.
В 1787 году он был избран в действительные члены Императорской Российской Академии. Из других потомков этой фамилии первыми сановниками и приближенными к императрице Екатерине II идут блистательные придворные века этой царицы – Лев Александрович и остроумный сын его, Александр Львович. Судя по запискам графа Сегюра и принца де Линя, неистощимая и непринужденная веселость Льва Нарышкина вошла тогда в поговорку, и, где только требовались развлечения, где только собиралось веселое общество – он был необходимым лицом; при дворе Петра III и императрицы Екатерины II брали Нарышкина во все дальние прогулки, во все путешествия.
Во время торжественных выездов, имея звание обер-шталмейстера, он всегда сидел в императорской карете. Чтобы забавлять императрицу, он, как говорят иностранцы, брал уроки у французского актера Рено. В шуточном описании путешествий императрицы по каналам и в Москву Нарышкин обвиняется иностранными посланниками в колдовстве, привлекается к допросу, и здесь является самая забавная и живая характеристика этого вельможи.
Отношения к Нарышкину Екатерины были самые дружественные: она часто ездила к нему в гости, он же составлял ее вечернюю партию. По характеристике его, сделанной современниками, видно, что, при своем балагурстве, он не мог похвалиться обширными познаниями, над чем Екатерина в веселые минуты любила посмеяться, называя его «невеждой по ремеслу». Особенно забавляли императрицу политические суждения Нарышкина.
Раз она пишет к Гримму:
«Вы непременно должны знать, что я до страсти люблю заставлять обер-шталмейстера говорить о политике, и нет для меня большего удовольствия, как давать ему устраивать по-своему Европу».
В сочиненной Екатериной шуточной поэме «Леониана» в начале рассказывается детство и воспитание Льва Нарышкина, а затем его путешествие сухим путем и морем с разными комическими приключениями и эпизодами, приведшими его в руки алжирских корсаров, откуда жена выкупает его за большую сумму.
Такие шуточные пародии в форме путешествий, во вкусе известий, распространявшихся об императрице и России иностранными газетчиками, были в большой моде тогда при дворе. Эти шутки и аллегории, видимо, очень нравились императрице, и их в ее переписке с Гриммом встречается несколько по разным поводам.
Так, одна такая пародия, написанная Сегюром, изображает приезд в Москву и происшедший там будто бы заговор и бунт, в котором участвуют не только высшие сословия, но и сам митрополит Московский. Окруженная опасностями, государыня спасается из одного дворца в другой и, наконец, в загородные дворцы: Коломенское, Царицыно, и везде искусно и ловко ускользает в минуту опасности.
Обратное путешествие в Петербург, где также готовится восстание, исполнено затруднений всякого рода: общество терпит нужду в припасах, которых никто не дает, причем приведено имя тверского помещика Полторацкого во французском переводе: «Un et demi» («Один с половиной»).
На конец путешественников ожидают опасности на водяном пути, кишащем разбойниками, и проч. Министрам и посланникам отведена при этом каждому своя роль, и шутка продолжается еще и на петергофском празднике.
Более пятидесяти лет Нарышкины состоят при государыне: один служит обер-шталмейстером, другой – обер-мундшенком; у последнего государыня в бытность цесаревной присутствует на свадьбе в Москве и из своего дворца, бывшего в конце Немецкой слободы, в октябре месяце, в мороз и гололедицу делает чуть ли не семь верст до дома Нарышкина.
Свадьба Нарышкина происходила в Казанской церкви, близ Иверских ворот. Екатерина описывает и весь церемониал этой свадьбы. «После ужина, – говорит она, – в передспальной комнате было сделано несколько туров парадных танцев и затем нам сказали с мужем, чтобы мы вели молодых в их покои. Для этого надобно было миновать множество коридоров, довольно холодных, взбираться по лестницам, тоже не совсем теплым, потом проходить длинными галереями, которые были выстроены на скорую руку из сырых досок и где со всех сторон капала вода».
Под конец своей жизни в одном из писем к Гримму императрица припоминает всех своих живых сверстников, в числе которых упоминает и двух Нарышкиных. Грустные ноты звучат в воспоминаниях царицы.
«В четверг, 9 февраля 1794 года, – говорит она, – исполнилось 50 лет с тех пор, как я с матушкой приехала в Москву; из этих прошедших лет я милостию Божиею царствую тридцать два года. Во-вторых, вчера были при дворе разом три свадьбы. Вы понимаете, что это уже третье или четвертое поколение после тех, кого я тогда застала, и я думаю, что здесь, в Петербурге, едва ли найдется десять человек, которые помнили бы мой приезд. Во-первых, Бецкий – слепой дряхлый старик, он сильно заговаривается и спрашивает у молодых людей, знавали ли они Петра I; потом графиня Матюшкина, 78 лет, вчера танцевавшая на свадьбе; потом обер-шенк Нарышкин, тогда камер-юнкер и его жена; затем брат его, обер-шталмейстер; но он не сознается в этом, чтобы не казаться слишком старым, и т. д.».
Государыня щедро изливала на него добро и дружбу и при женитьбе его в 1759 году, на свой счет омеблировала дом, где он должен был поселиться. По вступлении Екатерины на престол, он получил звание обер-шталмейстера, в котором и пребывал до самой своей смерти.
По врожденной веселости характера и особенной остроте ума он присвоил себе право всегда шутить, не стесняясь в своих речах. Во все царствование Екатерины он пользовался большою благосклонностью императрицы.
Впрочем, в своих записках часто она о нем отзывается не с большим уважением, то называет его «арлекином», то «слабым головой и бесхарактерным» или «человеком незначительным», но зато государыня восхищается его комическим талантом, который доставляет ей большое удовольствие, – в нем она находит некоторый ум: «Он слышал обо всем, – говорит она, – и все как-то особенно ложилось в его голове».
«Он мог, – продолжает царица, – произнести, не приготовясь, диссертацию о каком угодно искусстве или науке»; при этом он употреблял надлежащие технические термины и говорил безостановочно с четверть часа или долее; кончалось тем, что ни он, ни другие не понимали ни слова из его, по-видимому, складной речи, и в заключение раздавался общий хохот.
Подчас Нарышкин забавлял императрицу и тем, что самым отчаянным образом спускал перед нею кубари. Принц де Линь в одном из писем своих, писанных из Южной России во время путешествия в Крым с императрицей, рассказывает:
«Намедни обер-шталмейстер Нарышкин, прекраснейший человек и величайший ребенок, спустил среди на. с волчок, огромнее собственной его головы. Позабавив нас жужжаньем и прыжками, волчок с ужасным свистом разлетелся на три или на четыре куска, проскочил между государыней и мною, ранил двоих, сидевших рядом с на. ми, и ударился об голову принца Нассауского, который два раза пускал себе кровь».
Екатерина II дразнила Нарышкина смертью сардинского короля накануне своей собственной кончины. Впечатление, которое Л. А. Нарышкин производил на государыню своею забавною личностью, было так сильно, что она написала на него комедию «L’Insouciant» и два юмористических очерка. Замечателен первый из них, содержание которого мы привели выше, называлось оно: «Леониана, или Деяния и изречения сэра Леона, великого дворянина, собранные его друзьями». Иностранцы, видевшие Нарышкина при дворе Екатерины, были также поражены его чрезвычайною оригинальностью: это свойство находит в нем Сегюр – рядом с умом посредственным, большою веселостью, редким добродушием и крепким здоровьем. Нарышкин умер в 1799 году в своем доме на Мойке, за Поцелуевым мостом, затем Демидовский дом призрения трудящихся.

А. Чернышев. Москворецкий мост и Кремль. 1849 г.
Род Нарышкиных отличался красотою телесною, добродушием и популярностью; у всех их была какая-то врожденная наклонность к изящному, и каждый находил у них приют. Образ жизни вельмож двора императрицы Екатерины II теперь принадлежит к области вымысла, к романам и повестям. В коренном вельможе того времени было соединение всех утонченностей, всех великосветских качеств, весь блеск ума и остроумия, все благородство манер века Людовика XIV и вся вольность нравов эпохи Людовика XV, вся щедрость и пышность старых польских магнатов и все хлебосольство древних русских бояр.
Цель жизни состояла в том, чтобы наслаждаться жизнью и доставлять наслаждение другим и среди наслаждений поддерживать таланты и дарования. В доме, например, Л. А. Нарышкина принимаемы были не одни лица, имеющие приезд ко двору, но и каждый дворянин мог хоть ежедневно обедать и ужинать в его доме. По характерному выражению Грибоедова, у него «дверь была отперта для званых и незваных».
Литераторов, художников и музыкантов Нарышкин сам отыскивал, чтобы украсить ими свое общество. В девять часов утра можно было узнать от швейцара: обедает ли Нарышкин дома и будет ли вечером, и после того без приглашения являться к нему; но на вечер приезжали только хорошо знакомые в доме. Ежедневно стол накрывался на пятьдесят и более персон. Являлись гости, из числа которых хозяин многих не знал по фамилии, и все принимаемы были с одинаковым радушием.
На вечерах была музыка, танцы, мелкие развлечения, но карточной игры вовсе не было. По свидетельству современников, на вечерах Нарышкина в одной комнате раздавались шумные песни цыган, сопровождаемые живою их пляской, в другой – гремела музыка, в третьей – лучшие танцовщицы восхищали толпившихся вокруг них гостей, в четвертой, в кругу посетителей, играли русские или французские актеры. На балах была расточаема азиатская роскошь; званые обеды удовлетворяли самый изысканный гастрономический вкус; но в обыкновенные дни стол был самый простой. Обед состоял из шести блюд, а ужин – из четырех. На обыкновенных обедах кушанье стряпалось, большею частью, из домашней провизии.
С первым зимним путем огромные обозы с домашней провизией приходили из деревень в столицу. На столе в обыкновенные дни стояли кувшины с кислыми щами, пивом и медом, а вино – обыкновенно францвейн или франконское – разливали лакеи, обходя вокруг стола два раза во время обеда. Редкие и дорогие вина подавали тогда только на парадных обедах или на малых, званых.
Державин воспел дом Нарышкина:
Нарышкин! Коль и ты приветством
К веселью всем твой дом открыл!
Где скука и тоска забыта,
Семья учтива, не шумна,
Важна хозяйка, домовита,
Досужа, ласкова, умна,
Где лишь приязнью, хлебосольством
И взором ищут угождать, и проч.
В екатерининское время вся польская знать и с нею лучшая шляхта стала наезжать в Россию, где и находила отличный прием при дворе и в высшем обществе. При короле Станиславе Понятовском в Петербург стекались все польские честолюбцы. Из таких известен граф Северин Потоцкий. Он после отца своего, лишившегося огромного состояния на спекуляциях, остался беден. Граф А. С. Ржевусский рассказывал, что, возвращаясь из Петербурга, он встретил на одной станции Потоцкого, ехавшего в Петербург.
Это было в начале польской революции в 1793 году. Они были приятели и Ржевусский спросил его, зачем он едет в Петербург? «В Польше у меня ничего не осталось, – отвечал Потоцкий, – а теперь человек с именем может все приобрести при Русском дворе. Еду за всем!» – прибавил он, смеясь. И действительно, Потоцкий впоследствии приобрел все в России.
В частной жизни он был весьма оригинален, никогда не заводился домом, жил на холостую ногу, в гостинице (на Екатерининском канале, в доме Варварина), вечера проводил в гостях. В обществе был приятен и остроумен, дома – капризен и брюзга.
Многие из таких знатных поляков были сенаторами и занимали высшие должности. Браки русских с польками, а поляков с русскими стали особенно покровительствуемы Екатериною. Граф Соллогуб, князь Любомирский и князь Понинский женились на трех дочерях Л. А. Нарышкина54. За второй дочерью Нарышкина, Марией Львовной, вышедшей замуж за князя Любомирского, очень ухаживал Потемкин. Она была превосходная музыкантша; Державин написал ей экспромт во время игры ее на арфе и воспел ее под именем Эвтерпы. Потемкин, почти нигде не показывавшийся в обществе, уступал своей прирожденной лени, ежедневно приезжая в дом Нарышкина; у него он чувствовал себя совершенно свободным и сам никого не стеснял – серьезное чувство влекло его к юной дочери Нарышкина, и в тогдашнем обществе никто в этом не сомневался, видя, как он настойчиво ухаживал за нею; посреди всех посторонних он всегда был как будто наедине с нею.
Канцлер Безбородко писал в Англию к своему родичу, Виктору Павловичу Кочубею:
«Князь (Потемкин) у Льва Александровича Нарышкина всякий вечер провождает. В городе уверены, что он женится на Марии Львовне. Принимают туда теперь людей с разбором, а вашу братью, молодежь, исключают». Дмитрий Львович Нарышкин, впоследствии обер-егермейстер, женился на польской княгине Марии Антоновне Четвертинской, знаменитой своею красотой и вниманием императора Александра I. По свидетельству современников, ее сердечная доброта отражалась у ней не только во взоре, но и в голосе, и в каждом ее приеме; она делала столько добра, сколько могла, и беспрестанно хлопотала за бедных и несчастных. Женившись на ней, Нарышкин выделился из родительского дома; это обстоятельство дало другу дома его, поэту Державину, написать грациозное стихотворение «Новоселье молодых», где он молодых хозяев воспевает под именем «Дафниса и Дафны».
Затем у Державина встречается и другое стихотворение, «Аспазии», написанное для Марьи Антоновны Нарышкиной. Она имела гибкий стан, правильные черты лица, большие глаза, приятнейшую улыбку, матовую, прозрачную, неполированного мрамора белизну кожи.
Ф. Вигель, видевший Нарышкину, описывает встречу так: «Разиня рот, стоял я перед ее ложей и преглупым образом дивился ее красоте, до того совершенной, что она казалась неестественною, невозможною; скажу только одно: в Петербурге, тогда изобиловавшем красавицами, она была гораздо лучше всех».
Род князей Четвертинских происходит от русских государей, от Святого Владимира и от правнука его, Святополка, князя Черниговского.
Потомство последнего сделалось подвластно Литве, когда этот край отделился от России. Предки Четвертинских, размножаясь, обеднели. При Петре Великом Гедеон, князь Четвертинский, был православным митрополитом в Киеве, и уже потомки его впали в католицизм и затем возвысились в Польше в почестях. Отец княгини Марии Антоновны был умерщвлен в 1794 году во время варшавского возмущения.
Про брата мужа Марии Антоновны в обществе тоже много ходило анекдотов и рассказов. Так, на каком-то торжественном празднестве в Кадетском корпусе в присутствии великого князя Константина Павловича и многих высших сановников Нарышкин подходит к великому князю и говорит:
– У меня тут тоже есть младший.
– Я и не знал, – отвечает великий князь, – представьте мне его.
Нарышкин отыскивает брата своего Дмитрия Львовича, подводит его к Константину Павловичу и говорит:
– Вот мой младший.
Великий князь расхохотался, а Дмитрий Львович, по обыкновению своему, пуще расшаркался и встряхивал своею напудренною и тщательно завитою головою.
А. Л. Нарышкин был в ссоре с канцлером Румянцевым. Однажды заметили, что он за ним ухаживает и любезничает с ним. Когда просили у него объяснить тому причину, он отвечал, что причина в басне Лафонтена:
Ворон, сидящий на ветке
Держал сыр в клюве, и т. д.
Дело в том, что у Румянцева на даче изготовлялись отличные сыры, которые он дарил своим приятелям. Нарышкин был очень лаком и начал восхвалять сыры его в надежде, что он и его оделит гостинцем.
Император раз, в 1-й день Пасхи, спросил Нарышкина:
– Вы сегодня поцеловали вашего кузена Румянцева?
– Нет, сир, мы всего лишь поцеловались, – отвечал он.
Нарышкин не любил Румянцева и часто трунил над ним.
Последний до конца своей жизни носил косу в своей прическе.
– Вот уж подлинно скажешь, – говорил Нарышкин, – нашла коса на камень. Нарышкин говорил про одного скучного царедворца: «Он так тяжел, что если продавать его на вес, то на покупку его не стало бы и Шереметевского имения».
На берегу Рейна предлагали Нарышкину взойти на гору, чтобы полюбоваться окрестными живописными картинами.
– Покорнейше благодарю, – отвечал он, – с горами обращаюсь всегда, как с дамами: пребываю у их ног.
Сам Нарышкин тоже перед коронацией императора Александра I долго не остригал своей косы.
– Отчего ты не острижешь своей косы? – раз спросил его император.
– Не хочу чтобы обо мне говорили, что у меня ни головы, ни хвоста, – отвечал он.
Нарышкин рассказывал про Всеволожского, известного московского хлебосола, что он живет очень открыто – у него два огромных дома в Москве без крыш стоят.
Раз, когда за придворным обедом подавали грибы, император, зная, что Нарышкин их любит, приказал камер-лакею подать ему это блюдо после всех, восхваляя между тем другим это кушанье. Нарышкину остался только один гриб. Он отказался.
– Отчего ты не жалуешь этого блюда? – спросил его государь.
– Оттого, ваше величество, чтоб не сказали, что я от вас гриб съел, – отвечал Нарышкин.
Когда в 1807 году умер министр финансов граф Васильев, Нарышкин просил для себя это место. Император сперва выразил свое удивление, потом очень смеялся, когда Нарышкин сказал ему:
– Я не только сведущ в финансах, но и перевернут.
Один старый вельможа, живший в Москве, жаловался на свою каменную болезнь, от которой боялся умереть.
– Не бойтесь, – успокаивал его Нарышкин, – здесь деревянное строение на каменном фундаменте долго живет.
– Отчего, – спросил его кто-то однажды, – ваша шляпа так скоро изнашивается?
– Оттого, – отвечал Нарышкин, – что я сохраняю ее под рукой, а вы на болване.
Получив с прочими дворянами бронзовую медаль в воспоминание 1812 года, Нарышкин сказал:
– Никогда не расстанусь с нею, она для меня бесценна: нельзя ни продать ее, ни заложить.
Раз как-то на параде в Пажеском корпусе инспектор, кадет, упал на барабан.
– Вот в первый раз наделал он столько шуму в свете, – заметил Нарышкин.
Нарышкин имел обыкновение часто занимать деньги, которые редко уплачивал в срок; умирая, на смертном одре, он сказал:
– В первый раз я отдаю долг – природе.
А. Л. Нарышкин был женат на дочери Закревского – родной племяннице графа Разумовского, Марине Осиповне. Императрица сама сосватала племянницу Разумовских Закревскую за Нарышкина. Сватовство это началось на балу у Екатерины II, тогда еще великой княгини. Марина Осиповна, молоденькая и ловкая, мастерски танцевала минуэт с Нарышкиным. Великая княгиня, сидевшая между сестрою Нарышкина Сенявиною и невесткою его Анной Никитичной (урожденной Румянцевой), любовалась парою и решила вместе с собеседницами своими, что молодых людей следует непременно женить; ее еще более к этому подстрекало то, что Нарышкина сватали в городе на племяннице Шуваловых, Хитровой. Государыня накануне свадьбы Марины Осиповны сама была на девичнике, который справлялся в Аничковском доме (нынешний дворец).