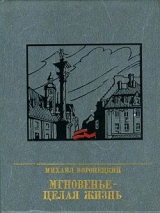
Текст книги "Мгновенье - целая жизнь. Повесть о Феликсе Коне"
Автор книги: Михаил Воронецкий
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 17 страниц)
ГЛАВА ТРЕТЬЯ
Барановский, вступив в тайный кружок Савицкого, сумел убедить себя в том, что оружие ему необходимо для самообороны, что если его попытаются арестовать, то так просто он себя не отдаст. А когда «они» в самом деле его арестовали, он похолодел, вспомнив, что при нем оружие, и всеми силами старался внушить жандармам, что носил его как любитель, а не как человек, способный применить его для каких-то акций…
Янкулио, товарищ прокурора Варшавского окружного суда по делам политическим, к которому Барановского доставили для допроса, именно так и понял, но сделал вид, что считает пана художника опаснейшим террористом.
– Воля ваша, господин Барановский, но меня никто не убедит, что человек может просто так, без всякой преступной цели носить на себе целый арсенал оружия, не расставаясь с ним даже во сне. Я вас понимаю. Я и сам поступил бы так же, то есть стал бы отрицать все как есть. А как же иначе? Ведь вас, как террориста, может ожидать только одно – петля. А в том, что вы принадлежите к этой преступной организации, сомнений не возникнет. Да, да. Tyт все улики, как говорится, налицо. Страшно? Конечно, страшно. Ну да ведь вы не ребенок, знали, на что шли. Знали, что как бы ни благоволила к вам судьба, а впереди всегда будет маячить одно и то же – два столба с перекладиной…
Янкулио высок, широк в плечах, но на длинной и жилистой шее у него несуразно маленькая голова, да к тому же еще и без затылка. Вернее было бы сказать, что головы у прокурора вовсе нет, а просто шея оканчивается лицом с энергичными, впрочем, чертами: нос прямой, глаза со стальным блеском, губы резко очерчены, плотно сжаты, подбородок круто выдвинут вперед…
Барановский сам человек внушительного вида – и высок, и могуч плечами, и лицом тверд, – а на прокурора взглядывал уныло. «Такие вот с маленькими змеиными головами, самые жестокие, самые коварные и всегда беспощадные. Этот прямо поведет к виселице. Неужели так-таки и нет никакого спасения?»
А Янкулио, этот жестокий провидец, умеющий читать чужие мысли, уже протягивает ему конец веревки – не той, из которой палач вяжет петлю, а той, за которую хватаются как за единственное спасение.
– Вы что же, господа террористы (у Барановского заныло в сердце: «Убежден, скотина, что я – террорист!»)… воображаете, что только вы – патриоты Польши? Только вы тревожитесь ее будущим и сострадаете ее настоящему? Неужели вы думаете, что у нас сердце кровью не обливается, когда мы гоним на каторгу нашу прекрасную молодежь… да, да, я не оговорился, именно прекрасную в своих потенциальных возможностях, но смертельно отравленную смрадом западных социалистических доктрин. Славянская душа слишком чистая и нежная, чтобы благополучно переварить западное варево социализма. На Западе у пролетария даже отрыжки не появляется, а у нас молодежь заболевает поголовно. Вот потому-то социалисты для своих преступных экспериментов избрали именно славянские народности, так несчастливо восприимчивые ко всякой социальной заразе…
«Что же это я молчу, – лихорадочно работала мысль Барановского, – почему не опровергну гнусные измышления опричника?»
– Однако, согласитесь, господин прокурор, – сказал Барановский и прислушался к самому себе: голос не дрожит, вполне спокойный голос! – согласитесь, что для этой несчастной восприимчивости слишком уж благоприятно стечение обстоятельств. Нищета, голод, бесправие работников, забитость крестьянства, задерганность интеллигенции…
– Да кто же спорит? – Янкулио даже всплеснул руками. – Кто ж этого не видит? Разве у нас самих душа не болит?
– Это возможно, – вздохнул Барановский, как будто и в самом деле поверив искренности товарища прокурора, – даже вполне. Вот только рецепты лечения у нас разные. У вас – виселицы…
– А у вас, – подхватил Янкулио, – у вас – бомбы и револьверы. Всё крайности, господин террорист. А ведь крайности, как известно, сходятся в конце концов. Так давайте же найдем общий язык, и сразу отпадет надобность в наших виселицах и в ваших бомбах. Помогите нам…
– Я? Каким образом?
– Как будто не знаете, – усмехнулся Янкулио. – Чтобы избежать неминуемой трагической развязки, надо выявить подполье сейчас, пока логика преступных деяний не увлекла вас за черту. За ту черту, из-за которой уже не будет возвращения в нормальную жизнь.
– Вы предлагаете мне предать товарищей? – в голосе Барановского послышалась обреченность. Не просто обреченность, а прямо тоска по своей гибели, гибели, как казалось ему, уже недалекой, но все-таки чувствуемой еще смутно. И сквозь эту смутность брезжил трепещущий лучик надежды: все-таки обойти неотвратимое и каким-нибудь чудом выжить…
Дверь без стука отворилась. Вошел жандармский майор и молча уселся на стул у окна. Барановский узнал в нем офицера, к которому привезли его сразу после ареста.
Янкулио, как только вошел майор, взял тон бесстрастно-сухой и деловитый:
– Об аресте ваши друзья не узнают. Это в наших интересах. Господин Секеринский может вам подтвердить (майор молча чуть наклонил голову). От вас нам нужна самая малость. Пустячная информация… Что? Где? Кто? Вам не нужно искать нас – мы вас сами найдем, когда понадобитесь. Может случиться, что вы вообще нам не понадобитесь. От вас же требуется одно – не отклоняться от прежнего образа действий. И помнить, мы с вами делаем одно общее дело… в интересах Польши.
Барановский уходил, низко и печально склонив голову, безвольно опустив плечи.
Товарищ прокурора и майор с минуту сидели молча. Легкая победа над Барановским вроде бы и не радовала, а, напротив, даже как будто повергла в уныние… Где же бомбы? Где адские машины? Где взрывы, убийства начальствующих особ? Ведь только на волне таких громоподобных актов и может сделать себе карьеру полицейский чин!
Майор поднялся, отодвинул стул и, стоя лицом к окну, задумчиво проговорил:
– Не понимаю, чего они хотят добиться революциями?
Янкулио, внимательно наблюдавший за ним, ответил с полуулыбкой:
– Народ не знает истории революций. Если бы узнал, он ужаснулся бы…
– И перебил бы своих революционных вождей, – мрачно усмехнулся Секеринский.
– Да уж это прежде всего, – подхватил Янкулио. – Барин требует от своего вассала любви, а революционный вождь – подчинения беспрекословного. Барин за ослушание отругает и даже может высечь, а революционный вождь – отправит на гильотину.
Опять помолчали. И опять молчание нарушил Секеринский:
– Ты, кажется, придаешь этому аресту какое-то значение? Могу тебя разочаровать. Обыкновенные гимназические посиделки и фатовской треп. Если для суда такого повода было бы достаточно, нам с тобой здесь делать было бы нечего.
Янкулио загадочно улыбнулся и даже потер руки: – Фактов у нас, ты прав, никаких. Но я более доверяюсь предчувствиям, чем фактам…
Декабрь 1881 года в Варшаве стоял теплый, небо хотя и висело над прекрасным тихим, как и обычно с начала зимы, городом низко, но было ясное, синее и глубокое. А когда к середине дня расцветало неяркое солнышко, в Лазенковском парке снова собирались толпы гуляющей публики.
Именно там, в Лазейках, и ждал встречи с Варыньским, только что появившимся в Варшаве, Хенрик Дулемба.
Чтобы не выделяться среди праздной публики, Хенрик приоделся: длинное черное пальто, шляпа, небрежно повязанный галстук, лайковые перчатки, трость… Чем не барин?!
Хенрик вглядывался в подходившего к нему Варыньского и не мог скрыть радостного удивления. От товарищей, тайно приезжавших в Варшаву из Женевы, он слышал, что Людвик чужбину переносил нелегко. Оторванный от живого революционного дела, он похудел, заметной стала сутулость. Но сейчас не это прежде всею привлекало к нему внимание. Он шел легкой, быстрой походкой. Светлые глаза сияли молодой жаждой жизни, Радостью встречи с любимым городом, с друзьями… Чувствовалось, что возвращение в Варшаву он переживал сейчас как самую счастливую перемену в своей жизни.
Хенрик знал по себе, как нелегка судьба нелегала. Без постоянного пристанища, без возможности пройти свободно по той улице, по которой хочется, пройтись, не оглядываясь, не хватаясь за рукоятку револьвера в кармане при каждом пристальном взгляде полицейского или филера. Утром никогда не знать, где тебе придется сегодня ночевать, да и придется ли…
И все это – не день, не два – месяцы и годы.
Он смотрел на приближающегося к нему Варыньского я ставил свой диагноз: не болезнь подтачивала товарища, а сама его неукротимо деятельная натура, оторванная от практического дела, не знала, как одолеть недуг бездеятельности. Жажда немедленного действия, загнанная в глубь души, кажется, превратилась в негасимый огонь, пожирающий молодое тело.
Острым взглядом Варыньский глянул на Хенрика и улыбнулся. Ответив улыбкой, Дулемба взял товарища над руку.
Свернув влево, прошли они мимо Померанцевого павильона с его оранжереей и фресками, изображающими театральных зрителей XVIII века в польских и французских костюмах, на минуту задержались у бронзового всадника в римском одеянии и тяжелом шлеме, вот уже ста лет топчущего Конытами коня поверженных во прах несчастных турок, – памятник Яну III Собесскому.
– Ну что Европа? О ком там теперь больше говорит? – спросил Дулемба, когда они, огибая пруды с плавающими лебедями, рассеянными взглядами отыскивали свободную скамейку.
– Самые интересные люди, правда, относящиеся уже не к нынешнему времени, а к минувшему, как-то скоро и почти разом ушли из жизни. О смерти Бланки ты, конечно, читал…
– Да – сказал Хенрик, – Луи Огюст Бланки истинный революционер…
– Только с одной, но весьма существенной оговорки – добавил Людвик. – Он не верил в революцию. И был убежден, что революционных завоеваний можно добиться без революции.
– Каким образом?
– Заговорами и переворотами, совершаемыми кучкой отчаянных людей.
– Мы разве не похожи на него?
– Никогда! – быстро ответил Людвик и мельком глянул в лицо товарища. Но тот этого не заметил. – Что касается нашего брата, революционера, то я тебе, Хенрик, так скажу… Пока мы действуем, пока боремся – мы что-то значим. Как солдаты в сражении – каждый делает свое дело. А падем – на наше место встанут новые бойцы. В сознании этой непрерывности борьбы – вся наша награда.
– Как тебе ни покажется странным, Людвик, я уже думал об этом, – тихо и задумчиво сказал Дулемба.
– Почему же странным? – возразил Людвик. – Напротив. Мне это представляется логичным.
Лазенки – самый большой и самый красивый парк из всей зеленой зоны Варшавы, занимающей пространство на восток от Уяздовской и Бельведерской аллей вплоть до Вислы и живописными лестницами спускающейся к реке.
Со своими бесконечными тенистыми аллеями, с многочисленной гуляющей публикой парк издавна служил местом встреч не только для влюбленных, но и людей совсем иного, как тогда говорили, сорта – людей, предпочитающих для жилья дома с проходными дворами, для свободного времяпровождения – сады и парки со множеством деревьев и кустарников и многочисленными пересекающимися аллеями…
– Ну, рассказывай, Хенрик, как тут у вас обстоит дело с пропагандой?
– Да хвалиться особенно-то нечем. Вернее даже будет сказать – худо дело. Уцелело несколько кружков человека по три-четыре.
– Уцелело или ты их вновь создал? – улыбнулся Варыньский.
Хенрик смутился:
– Суть-то не в этом. А в том, что руководить некому. Интеллигентов пересажали, а в кружках сплошь наш брат рабочий.
При словах «наш брат рабочий» Людвик опять улыбнулся и подумал: «Молодец Дулемба! Потомственный шляхтич превратился в настоящего рабочего». А вслух сказал:
– Будем создавать кружки на заводах. У Лильпопа, Хандке, Ортвейна, в железнодорожных мастерских, на заводах Островского и Карского. Особенно крепки революционным духом рабочие-металлисты и железнодорожники. Именно отсюда пойдут кадры варшавской револиционной организации.
– Как это понять?
– А так, Хенрик, что необходимо вдохнуть новую жизнь в польское революционное движение. А это не возможно сделать, оставаясь на почве разрозненных рабочих кружков. От постепенной, рассчитанной на годы пропаганды мы должны уйти и начать немедленную агитацию к революционному действию. Для массовой агитации необходима централизованная, сплоченная организация. Одним словом, настало время создать рабочую революционную партию. Для создания партии необходимо прежде всего составить ее Рабочий комитет, который бы взял на себя все вопросы, связанные с организацией.
В этот миг проходившая мимо невысокая кареглазая девушка в коротком коричневом пальто, со свернутым зонтиком в руке, замедлив шаги, тихо сказала:
– За вами следят. Вон тот, у статуи Добродетели. Уходите. Я его задержу. – И, даже не повернув головы, прошла мимо.
Дулемба потянулся было в карман пальто, где у него лежал револьвер, но Людвик удержал его руку.
Девушка в этот миг приблизилась к молодому подтянутому человеку, опершемуся на ограду. Тот зло улыбнулся ей, и она поняла, что он заметил, как она предупредила выслеживаемых им юношей. Вскинув зонтик, девушка ударила шпика по голове. Зеленая велюровая шляпа его упала к ногам, и пока шпик нагибался, чтобы ее поднять, девушка громко крикнула:
– Хам! Нахал! Руки распускать!..
Сидевшие на скамейках люди повскакивали, окружили их и, думая, что человек в велюровой шляпе оскорбил девушку, набросились на него.
– В полицию его!
– Каков негодяй!
– Вот она, сегодняшняя молодежь!
– Господа, – лепетал шпик, – уверяю вас, я здесь ни при чем… Эта пани сама…
Высокий пожилой шляхтич с военной выправкой совал ему в лицо визитную карточку:
– Я граф Радзивилл… мой дом в Краковском предместье. С пяти до семи вечера всегда к вашим услугам. Род оружия предоставляю выбрать вам, хотя я бы предпочел шпагу, чтобы иметь удовольствие насадить вас, как стрекозу на булавку…
Шпик наконец надел шляпу, и гомон вокруг него оборвался пронзительно заверещавшим свистком. Толпа брезгливо отхлынула. От западных ворот послышался топот полицейских. Делать здесь больше было нечего.
Людвик и Хенрик, выхватив из толпы предупредившую их девушку, скрылись в боковых аллеях.
Минут через десять они вышли на улицу Агриколя и вскочили в первую попавшуюся пролетку.
– Куда прикажете, господа? – не оборачиваясь спросил извозчик.
– Гони! – крикнул ему Дулемба.
Извозчик мгновенно оживился, вожжой хлестнул по крупу лошади, и пролетка понеслась.
Пересекли Уяздовскую аллею и, выскочив на Maршалковскую улицу, повернули вправо. Назад убегали стройные ряды лип, которыми с обеих сторон обсажена была эта самая нарядная и богатая в Варшаве улица. Промелькнули упершиеся в небо две высоченные башни с горящими золотом крестами – костел Спасителя… Проскочили Иерусалимские Аллеи, разрезавшие город от Вислы до западных окраин и, только въехав в какую-то тихую под старинными липами улицу, извозчик придержал блестевшую от пота лошадь.
– Молодец! – сказал Людвик, похлопав по плечу возницы. Тот обернулся бородатым лицом с голубыми глазами и широко улыбнулся.
– Разве ж мы не понимаем, с кем имеем дело!.
– Мы хотели бы знать ваше имя, – сказал Людвик, пожимая руку спасшей их от ареста девушке.
– Мое имя вам ничего не скажет.
– Имена ничего не говорят только до тех пор, пока не знаешь, кому они принадлежат.
– Розалия Фельсенгарт.
– А я слесарь Бух.
– А я… Дулемба.
– Я знаю, – улыбнувшись карими глазами, сказала Розалия.
– Откуда? – изумился Дулемба. – Я вас слушала однажды…
– Где?
– В кружке на заводе Карского.
– А чем вы занимаетесь?
– Я учительница.
– Сердечно рады знакомству с вами.
– А вы, очевидно, недавно из Европы? – спросила Розалия, кинув все еще теплый от улыбки взгляд на стоявшего чуть поодаль Варыньского. – И у вас нет квартиры…
Светлые брови Людвика шевельнулись от удивления.
– Да, но как же вы угадали? – спросил он, стараясь скрыть смущение.
– По вашему пальто. Таких в Варшаве еще не носят.
– Вы были в Европе?
– Никогда. Только мечтаю попасть. Я думаю, что и шпик обратил на вас внимание из-за вашего широкого пальто.
Хенрик и Людвик многозначительно переглянулись.
– Я знаю здесь неподалеку одну квартиру, – сказала Розалия, – которая по всем приметам… вне подозрения. Вы можете там укрыться на время. Хозяин будет рад оказать вам услугу.
Осенью 1881 года в Петербурге возникла Польско-литовская социально-революционная партия. В ней состояло около трех десятков человек, но это были опытные бойцы, имевшие серьезные навыки пропагандистской работы в рабочих и интеллигентских кружках, хорошо знакомые с правилами конспирации.
Во главе партии стоял руководящий орган – Секретный совет, избиравшийся тайным голосованием я состоящий из шести человек. Один из них – студент Института инженеров путей сообщения Станислав Куницкий был связан с членами Исполнительного комитета «Народной воли» Верой Фигнер, Теллаловым и Грачевским. Именно через него Польско-литовская социально-революционная партия держала связь с «Народной волей».
В конце 1881 года Секретный совет направил Станислава Куницкого в Варшаву для установления связи с варшавскими революционными кругами. Он встретился с Казимежем Пухевичем.
– Я знаком с программным заявлением вашей партии, – сказал Пухевич, – и считаю его, мягко говоря, далеким от реальных задач сегодняшнего дня. Явно видно влияние «Народной воли».
– Но мы этого и не скрываем, – сдержанно сказал Куницкий, горячо разделявший идеи «Народной воли» и находившпйся под обаянием героической судьбы этой партии. – Мы открыто заявляем не только о солидарности с «Народной волей», но и о союзе с ней, разумеется, на федеративной основе. Впрочем как и со всеми революционными группами всех национальностей. И наша цель – политическое, национальное и социальное освобождение трудящихся.
– Да, но пути к его достижению разные. Я лично считаю, что прежде чем стремиться к политическому освобождению трудящихся, их необходимо закалить в терпеливой многотрудной экономической борьбе с капиталом. А в немедленном политическом столкновении с самодержавием мы неминуемо потерпим поражение и тем самым только отдалим достижение главной цели.
Трудно было найти двух более противоположных по характеру людей: пылкому, увлекающемуся и постоянно воспламеняющемуся Куницкому противостоял человек осторожный, раздумчивый, рассудительный. Они и внешне-то резко отличались друг от друга. Стась Куницкий – стройный, порывистый, с очень подвижными большими черными глазами, унаследованными от матери-грузинки.
Пухевич – сутуловат, суховат, серые глаза за стеклами пенсне глядели на собеседника пристально, как бы остановившись…
– Вы сказали… «я лично считаю»… стало быть, есть и другие точки зрения у ваших товарищей? – поинтересовался Куницкий.
– Нет, в основном мы солидарны, но подход к одним тем же проблемам у различных людей может быть разный. Это естественно.
– И все-таки я, – настаивал Куницкий, – хотел бы побеседовать и еще кое с кем из товарищей.
– Хорошо. Завтра я вас сведу с Варыньским. Он недавно нелегально вернулся в Варшаву.
Но Варыньский, которому этот черноглазый пылкий юноша сразу же понравился своей страстностью и горячей преданностью делу, не стал с ним спорить по программным вопросам.
– А знаете что, Станислав… – предложил он, – у меня сегодня назначена сходка рабочих в предместье Воля, – пойдемте туда со мной. А?
– Я готов, – не раздумывая, ответил Куницкий, всегда готовый куда-нибудь идти и что-нибудь делать. – Но мой польский! Он не будет шокировать твоих карбонариев, Людвик? – не то в шутку, не то всерьез спросил Станислав, незаметно перейдя на «ты».
– У пролетариев всего мира, Станислав, как и у нас, социалистов, один язык – революционный. Правду революции рабочий понимает больше сердцем, чем на слух, – ответил Людвик и дружески тронул Куницкого за плечо.
Они посмотрели друг другу в глаза и одновременно поняли: с этой минуты они товарищи. Что бы ни случилось, как бы ни сложились их личные судьбы, в революции они пойдут вместе до конца!
Вечером, когда Куницкий снова встретился с Пухевичем, Казимеж спросил:
– Ну, как вам Варыньский?
– Вы не можете себе представить, как я вам благодарен за это знакомство! – пылко воскликнул Куницкий.
– Нет, почему же?! Очень даже представляю. Я сам глубоко уважаю этого человека, хотя…
– Нет, нет, это не те слова! – прервал Куницкий Казимежа. – У меня к нему иное чувство, нежели уважение. Людвик приковал меня к себе навсегда. Ведь он первый социалист, который изложил мне свои идеи так, что я с ним почти целиком согласился.
Пухевич добродушно улыбнулся.
– Однако, – сказал он, – вы же не оговорились, сказав, «почти целиком»?
– Нет, не оговорился. Знаете, в чем я поначалу но согласился с ним? С утверждением о близости революции. Но и в этом он потом убедил меня.
– Каким же образом?
– Он пригласил меня побывать с ним на двух рабочих собраниях.
Пухевич, почти не появлявшийся среди рабочих и все свои контакты ограничивавший связями со студенческими и интеллигентскими кружками, с нескрываемой завистью смотрел на возбужденное смуглое лицо Куиицкого, на котором светились огромные черные глаза. Он хотел было что-то сказать, но передумал и только пошевелил губами.
– Таких рабочих, – возбужденно говорил Куницкий, – я увидел первый раз в жизни!
– Чем же они так поразили вас? – тихо спросил Пухевич.
– Понимаете, они совершенно трезво смотрят на свою жизнь, понимают причины своего угнетенного, униженного существования и полны абсолютной веры, что скоро настанет конец такому положению. Я был ошеломлен. Ни одна студенческая сходка, ни одна книжка политического характера, ни одна прокламация не производили на меня такого впечатления. Теперь я верю, что партия, о создании которой хлопочет Варыньский, будет создана в Польше.
Янкулио и без майора Секеринского видел, что дело о кружке Савицкого не стоит выеденного яйца. Во всяком случае, оно мало принесет радости и жандармскому управлению и прокуратуре: ни повышения в чинах, ни даже прибавки к окладу… Барановского заагентурили на всякий случай – так, как рачительный мужичок несет в свое хозяйство всякую железку и палку: авось, да и пригодится на что-нибудь.
Но через некоторое время ситуация изменилась. Майор Секеринский положил на стол Янкулио агентурные сводения, полученные от Заграничного бюро русской охранки. Сведения были настолько ценны, что товарищ прокурора даже присвистнул.
Эти два так непохожих друг на друга человека, вынужденные тесно общаться по службе, в душе ненавидели друг друга. Но жизнь поставила их в такое положение, что служебное благополучие и карьера одного зависели от успеха деятельности другого. Майор умел расставлять сети, но не обладал достаточным умом, чтобы правильно анализировать факты. Этим качеством был наделен Янкулио. Более того, имея добытые Секеринским сведения, он очень скоро замыкал цепь, безошибочно угадывая недостающие в ней звенья.
– Что я говорил! – воскликнул товарищ прокурора, потирая худые и белые, как у покойника, руки. – В нашем деле предчувствие превыше всего. До сих пор оно никогда меня не обманывало – не обмануло и на сей раз. Пока только разрозненные факты, но из них уже можно делать кое-какие обнадеживающие умозаключения.
– Какие же? – не сумел скрыть Секеринский возникшего любопытства.
– А вот какие. Из Женевы исчез ускользнувший от нас в Варшаве Варыньский. Ни в Париже, ни в Лондоне он не появлялся. Значит…
– Ты полагаешь, – перехватил мысль майор, – что он непременно должен объявиться в Варшаве?
– Именно так! И думаю, что я прав, если, конечно, за последнюю ночь я не превратился в идиота, – позволил себе пошутить товарищ прокурора.
– Но почему именно в Варшаве? – добивался Секеринский, хотя уже уловил направление мысли Янкулио. – Почему, скажем, не в Кракове? Там у него надежная база для деятельности…
– Нет, в Кракове ему делать нечего. Явки провалены. Опытный зверь по старым следам, где он попадался в капкан, не ходит. В Варшаве ему удалось обвести нас вокруг пальца один раз – почему бы не попытать счастья снова. Стань на его точку зрения! Да учти, что он свою веру обретал в стенах Технологического института, этого революционного очага в Петербурге. Кто мы для них? Два недалеких провинциальных чиновника. Но вот на этом-то мы их и возьмем. И тогда – прощай, варшавское захолустье! Здравствуй, столица империи! Здравствуй, славное и высокое поприще!
У товарища прокурора дух захватило – настолько отчетливо он увидел открывающуюся перед ним перспективу… Он на мгновение умолк – этой-то паузой и воспользовался майор Секеринский:
– Но позволь… каким образом… ведь нет никаких даже мало-мальски серьезных обстоятельств?
– Но нам достоверно известна и другая информация. В Варшаве действует прибывший из Петербурга известный подпольщик по кличке Черный.
– Его нетрудно обезвредить.
Янкулио прихлопнул по столу ладонью, стараясь этим жестом особо подчеркнуть смысл своих слов:
– Вот этого ни в коем случае нельзя делать. Это будет роковой ошибкой, которая зачеркнет все наше будущее. Напротив, надо дать полнейшую свободу действий этому Черному, дать ему возможность не только встретиться с Варыньским, но и сойтись как можно ближе. У Варыньского старые связи, кружки, люди… У Черного – нетерпение: действовать быстро, эффективно и как можно громче. А уж остальное будет зависеть от нас – сделать этот гром таким громким, чтобы он не только достиг петербургских ушей, но и оглушил их!..
Секеринский недоверчиво покачал головой.
– Откуда ты знаешь, – спросил он, – что они обязательно должны сойтись?
– А интуиция для чего? – в свою очередь спросил товарищ прокурора. – Они сойдутся. Обязательно должны сойтись. И тогда все пойдет разыгрываться по нашим нотам. Я это чувствую. Думаю, что в этой игре найдется роль и для пана Барановского.
В сентябре 1882 года в революционных кружках Польши появилось Воззвание Рабочего комитета социально-революционной партии «Пролетариат», в котором было объявлено о создании партии польских рабочих. Ее программу горячо одобрили в рабочих кружках, потому что она объявляла главной целью борьбу пролетариата с капиталистической эксплуатацией и подчеркивала самостоятельность рабочего класса в политической и экономической борьбе за свои права. В программе упоминалось и о терроре, но не как о методах борьбы, а как о средстве самообороны партии от возможных провокаций в собственных рядах.
За четыре месяца после опубликования воззвания партия создала несколько своих организаций на заводах и фабриках Варшавы, Лодзи, Ченстохова и Белостока, других промышленных городах.
В январе 1883 года в Вильно состоялся съезд польских социалистов, на котором было принято решение об объединении партии «Пролетариат» и Польско-литовской социально-революционной партии. Новая организация приняла название партии «Пролетариат». В избранный на съезде комитет, который потом стал Центральным Комитетом партии, вошли бывший студент петербургского Технологического института Людвик Варыньский, студенты Станислав Куницкий и Александр Дембский, слесарь из Варшавы Хенрик Дулемба, классная дама Варшавского Мариинского института Александра Ентыс, кандидат прав Эдмунд Плоский и другие.
Казимир Пухевич, не сочувствующий террористической деятельности, вышел из партии и создал другую рабочую партию «Солидарность», в которой оказался кружок Людвика Савицкого.
Но уже через несколько месяцев в партии «Солидарность» произошел раскол. Феликс Кон, его однокурсник по университету Станислав Пацановский и еще несколько их единомышленников перешли в партию «Пролетариат».
В середине сентября 1883 года охранка в Варшаве переполошилась: вышел первый номер подпольной газеты «Пролетариат». Во вступительной статье писалось о целях газеты: «Как истолкователь мыслей и взглядов организации она будет защитником эксплуатируемых и угнетенных, обвинителем угнетателей». Другие выпуски публиковали официальные заявления ЦК, воззвания и листовки партии, отчеты о партийных финансах, хронику обысков и арестов, предупреждения об изменниках и провокаторах. Особенная тщательность чувствовалась в подготовке редакционных и программных статей, поясняющих политические акции партии.
28 сентября Варыньского арестовали.
Станислав Куницкий, узнав об аресте Варыньского, тотчас приехал в Варшаву и принял руководство партией.
Среди молодых членов партии Куницкий почти сразу же выделил Феликса Кона. В один из дней он назначил ему встречу в кафе «Шотландское».
С улицы Святого Марка вдоль зданий университета спустился Феликс к Академической площади, со всех сторон застроенной доходными домами. Летом знойная и душная, несмотря на обилие зелени, осенью Академическая выглядела тоскливо: голые деревья на фоне сплошных стен; пронизывающий сквозь студенческую шинель сырой ветер с Вислы…
У входа в кафе Феликс приостановился, чтобы перевести дух.
Он мгновенно и ясно понял, что эта встреча решит его судьбу, и не боялся этого. Рано или поздно, думал он, это должно было случиться. Пусть это случится теперь.
Феликс прошел в заднюю комнату кафе. Там у столика, приткнувшегося к широкому подоконнику, сидел молодой человек и, наклонившись низко к столешнице, что-то писал. Сумеречный свет, струившийся из небольшого глубокого окна, не позволял рассмотреть его лица, и виден был только его профиль: чуть скошенный назад лоб, крупный нос и выдающийся вперед подбородок.
На скрип двери молодой человек обернулся, всмотрелся в вошедшего, шевельнув сросшимися у переносицы бровями, и встал. Коротко и крепко пожал протянутую руку, сказал:
– Для всех я Черный, а друзья зовут меня Стась, Стах, Станислав. Зовите и вы меня Стасем.
– Благодарю, – сказал Кон.
– Присаживайтесь. А я, если не возражаете, буду ходить. Когда я говорю, мне обязательно надо шагать.
Черный свернул вчетверо недописанный листок бумаги и сунул его во внутренний карман сюртука.
– Может быть, сразу перейдем на «ты»? Я думаю, мы сойдемся быстро, так чего же нам обращать внимание на условности?
– Конечно, – сказал Феликс и вдруг почувствовал себя рядом с этим человеком так, как будто они были ближайшими друзьями по крайней мере несколько лет. Черньш сразу заметил перемену в настроении собеседника и впервые за все это время улыбнулся – свободно, широко и настолько располагающе, что Феликс и сам невольно улыбнулся. Черный положил свою широкую руку на руку Феликса, лежавшую на столе, и выразительно сжал, как бы подчеркивая возникшее между ними чувство взаимной симпатии.
И тут же его лицо опять стало озабоченным:
– Я наслышан о тебе. И потому обращаюсь с просьбой… Необходимо создать Боевую дружину. Ты лучше меня знаешь здешнюю молодежь. Подбирай наиболее стойких, преданных нашему делу. Особенно тех, кто может оказать помощь в изготовлении бомб. Они нам скоро понадобятся. Приглядись к ребятам с физико-математического факультета. Я для них имею хороший подарок.








