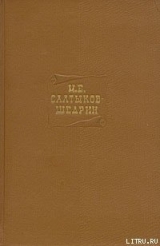
Текст книги "Сатиры в прозе"
Автор книги: Михаил Салтыков-Щедрин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 26 страниц)
Потом помянем воспитателей, охранителей нашей юности! Помянем и профессоров, хотя – помнишь, Сеня? – профессор истории и ставил тебе единицу за то, что ты никогда не мог различить Геродота от Гомера («черт их знает! оба на г… начинаются!» – объяснял ты нам в свое оправдание, и как мы помирали со смеху при этом!).
Помянем Луизу белолонную, помянем Берту чернобровую, помянем Мину светлокудрую, этих истинных, действительных наставниц нашей юности!
Но не забудем и Бертона, у которого мы научились прекраснейшим манерам и обольстительному comme il faut![19]19
обхождению, тону.
[Закрыть]
Выпьем, друзья, выпьем!
И потом отправимся… «туда»!
Однако, стой, Сеня! Я не хочу, чтоб ты меня как-нибудь «там» осрамил: дай-ко я проэкзаменую тебя, не забыл ли ты что из наук, которые нам преподавались?
– А позвольте, милостивый государь, узнать, кто нынче первый портной в Петербурге?
– Лет десять тому назад первым портным почитался Сарра, но вскоре пальму первенства перенял у него Шармер. Платье Шармера легко и удобно; человек, одетый этим портным, нередко впадает в недоумение, действительно ли он одет. Впрочем, в последнее время многие указывают на Дюмигрона, как на достойного соперника Шармеру.
– Bene.[20]20
Хорошо.
[Закрыть] A позвольте узнать, где можно приобрести в Петербурге лучшее мужское белье?
– Все у Лепретра, все у того же несравненного Лепретра, или, лучше сказать, у достойного преемника его гения, Левека. Некоторые указывают на Дюбюра, но, по мнению моему, это парадокс. Рубашки последнего отстают от груди, скоро вытягиваются сверху и вообще так плохи, что могут быть носимы только людьми среднего рода.
– Charmant![21]21
Прелестно!
[Закрыть] Но так как человек не может существовать без сапогов…
– Понимаю вашу заботливость. В этом отношении Эммерман может вполне удовлетворить вас, хотя нельзя не сознаться, что место старого Пэля до сих пор остается еще незанятым.
– Bravo! Но я хотел бы съесть что-нибудь… легонькое этакое что-нибудь…
– Идите к Мартену – vous y trouverez d’excellentes choses![22]22
вы найдете там превосходные вещи!
[Закрыть] Можете прибегнуть также к Донону или к Шотану, но при этом не забудьте погрустить о тех, которые обязываются утолять свой голод у Палкина и Еремеева!
– Shame! Shame![23]23
Позор! позор!
[Закрыть] – восклицают хором Бернгард Форбрихер и Федя Козелков.
– Bravissimo![24]24
Превосходно!
[Закрыть] Я вижу, Сеня, что ты не изменил науке, да и наука не изменила тебе! Идем же с миром и вкусим от уготованных нам сладостей!
Вот тебе старший наш Глупов. Надеюсь, что ты с первого же слова поймешь, что тут ни на Сеню, ни на Федю, ни на Бернгарда рассчитывать нечего. Но если ты настолько наивен, что будешь упорствовать в своих видах на нас, то предупреждаю тебя: будь осторожен, ибо мы как раз на тебя и пожалуемся!
В самом деле, сообрази хорошенько: ведь мы счастливы, счастливы настолько, насколько мыслительная наша сила способна понимать идею счастия, а счастливому человеку что нужно? Счастливому человеку нужно, чтоб его оставили в покое, чтоб его не развлекали ни мысли горькие, ни картины печальные, чтоб весь он мог сосредоточиться в законном наслаждении принадлежащим ему счастием. Счастливый человек не любит даже, чтоб, во время его прогулки, ему попадался нищий, и для ограждения себя от подобной неприятности он или велит убрать назойливого нищего куда следует, или же торопливо сует ему в руку гривенник, и потом целый час улыбается, наслаждаясь мыслью, что сделал одним счастливцем на свете больше. С какой же стати ты заявляешь претензию на наше внимание, ты, который хочешь потревожить спокойное, роковое течение нашей жизни, ты, который ищешь, чтоб жизнь поступилась в твою пользу частью или даже и всем своим историческим достоянием! Mon cher! если хочешь, вот тебе целый полтинник, но не приставай к нам, не вынуждай, чтоб мы велели куда-нибудь тебя убрать!
Что касается до Иванушек, то прежде всего я должен сделать общее, но весьма справедливое замечание. Можно мыслить, можно развиваться и совершенствоваться, когда дух свободен, когда брюхо сыто, когда тело защищено от неблагоприятных влияний атмосферы и т. п. Но нельзя мыслить, нельзя развиваться и совершенствоваться, когда мыслительные способности всецело сосредоточены на том, чтоб как-нибудь не лопнуть с голоду, а будущее сулит только чищение сапогов и ношение подносов («Смотри, подлец! не урони подноса: морда отвечать будет!» – кричит господин, имеющий возможность развиваться и совершенствоваться).
Руководясь этими мыслями, наши Иванушки успокоились. Они не смотрят ни вверх, ни по сторонам, а все в землю и в землю, справедливо рассуждая, что смотреть по сторонам и парить под облаками – дело не ихнее, а Сени Бирюкова, которому на это и крылья даны… И знаешь ли что? я полагаю, что они даже очень рады тому, что у них выработалась под ногами такая солидная историческая почва, потому что, опираясь на нее, они не только освобождаются от тех бесчисленных и горьких тревог, исход которых если не совсем безнадежен, то, во всяком случае, крайне сомнителен, но вместе с тем приобретают для себя всегда готовую и даже весьма приличную отговорку.
Спроси у глуповца: отчего ты не развит, груб и невежествен? Он ответит тебе: а оттого, что тятька и мамка смолоду мало секли. Спроси еще: отчего ты имеешь лишь слабое понятие о человеческом достоинстве? отчего так охотно лезешь целовать в плечико добрых благодетелей? и пр. и пр. Он ответит: а вот у нас Сила Терентьич есть – так тот онамеднись, как его выстегали, еще в ноги поклонился, в благодарность за науку!
В самом деле, что мы за выскочки такие, чтоб учить других! Мы находимся на исторической почве – и знать ничего не хотим. И как ты там ни ломайся, как ты там ни глумись, а глуповец все-таки останется прав, спокоен и доволен… потому что он объяснился, и объяснение это вполне снимает гнет с его совести.
Другое дело, если ты примешься поплотнее, если ты спросишь глуповца, зачем же он не соскочит с этой неудобной исторической почвы? О, в таком случае… в таком случае он несколько сконфузится и покраснеет, и… все-таки постарается свернуть на историческую почву.
А впрочем, он и объясняться-то с тобой не станет! Наш Иванушка вряд ли даже сознает, что под ним есть какая-то историческая почва. Мне кажется, что он просто-напросто носит эту почву с собой, как часть своего собственного существа и даже не подозревает, чтоб тут настояла надобность в чем-то оправдываться, что-то объяснять.
По этому поводу считаю не лишним рассказать тебе некоторый глуповскнй анекдот.
Однажды весной, в самое половодье, подъезжал я к родному моему Глупову. День был базарный, и та часть реки Большой Глуповицы, где была устроена паромная пристань, была буквально усыпана народом. Требовался порядок; а если требовался порядок, то, натурально, ощущалась потребность и в начальстве. Оно и было тут налицо, и на этот раз заблагорассудило распорядиться так, чтоб ни одна из плывущих по реке барок и лодок отнюдь не осмеливалась переплывать за паромный ход, покуда не свалит весь народ. Сказано– сделано; барки и лодки остановились и оцепенели, как очарованные. Однако одна лодка соскучилась; к величайшему своему несчастию, она обладала способностью анализа и на этом основании решила, что рассуждение начальства неудовлетворительно и что, покуда машина нагружается, сотни лодок могут очутиться по другую сторону паромного хода. Но начальство немедленно подняло гвалт и откомандировало своего дантиста для преследования и наказания ослушника. До сих пор все в порядке вещей, и я, конечно, не остановился бы на таком общеизвестном и общепонятном факте, если бы рядом с формальным его проявлением не раскрывался и внутренний его смысл, высказавшийся как в положении, принятом преследуемым, так и в отношении к нему толпы, теснившейся на пароме.
Преследуемый, как только завидел дантиста, не пустился наутек, как можно было бы ожидать, но показал решимость духа изумительную, то есть перестал грести и, сложив весла, ожидал. Мне показалось даже, что он заранее и инстинктивно дал своему телу наклонное положение, как бы защищаясь только от смертного боя. Ну, натурально, дантист орлом налетел, и через минуту воздух огласился воплями раздирающими, воплями, выворачивающими наизнанку человеческие внутренности.
А толпа была весела, толпа развратно и подло хохотала. «Хорошень его! хорошень его!» – неистово гудела тысячеустая. «Накладывай ему! накладывай! вот так! вот так!» – вторила она мерному хлопанью кулаков. Только один нашелся честный старик, который не вытерпел и прошептал: «Разбойники!» – но и тот, заметив, что я расслышал невольный его вздох, как-то изменился в лице и стал робко пробираться сквозь толпу на ту сторону парома.
Разберем этот факт логически.
Ни слова о действии паромного начальства: оно поступило здесь… как бы потемнее выразиться?.. ну, да поступило по соображению с обстоятельствами дела и идеею собственного своего величия…
Исследованию нашему подлежат собственно два предмета: положение преследуемого и отношение толпы к происшествию.
Для чего преследуемый не пошел наутек, для чего он сложил весла? – для того, что он фаталист, что он видит вдали силу и вперед убежден, что от силы не скрыть ему своего тела нигде. Почему он фаталист, почему он верит в вечное, неотразимое торжество силы, он сам этого не объясняет себе, но он чувствует паническое ошеломление при одном появлении силы, но он, как кролик при виде боа, сидит недвижим и как бы очарован до тех пор, пока чудовище не поглотит его.
Однако и он вздумал же однажды протестовать и, несмотря на запрещение, все-таки переплыл по ту сторону паромного хода. Что означает этот факт? А то, и только то, что ему не безызвестно из практики, что не всегда же сила дерется, но иногда и улыбается, что иногда она благодушна и согласна удовольствоваться тем, что обругает непотребно, но до зубов не коснется. Вот на эту-то приятную случайность, на эту-то возможность улыбки он и рассчитывал.
Но для чего же он дает своему телу наклонное положение, и притом такое, чтоб голова, то есть именно та часть тела, которая всего более представляет шансов для смертного боя, была по возможности защищена? Неужели смерть не составляет для него высшего блага? Неужели и он еще дорожит жизнью? Нет, он не дорожит ею с разумной точки зрения, то есть не видит в ней блага, одному ему принадлежащего, блага, которым никто посторонний не имеет права располагать по своему произволу; но он дорожит ею инстинктивно, дорожит, потому что жил вчера, живет нынче, надо же и завтра жить. Он трус и не пойдет открыто навстречу смерти, но встретит смерть равнодушно, когда она сама придет к нему, откуда бы и почему бы она ни пришла (время ли тут справляться, когда умирать надо!), и еще равнодушнее, или, лучше сказать, ходчее, натуральнее встретит, если она придет к нему как логическое последствие целого ряда фактов, каковы, например, побои. Возьмем хотя настоящий случай: здесь преследуемый укрывает от ударов свою голову, но почему? – потому, и только потому, что он еще не знает, потребуется ли она. Потребуйся эта голова – ничего, он и ее вытащит и будет только охать да взывать к батюшкам и матушкам, но защищаться не станет ни под каким видом – слишком учтив! И выйдет тут умертвие – и больше ничего!
От преследуемого перейдем к толпе.
Скажите, бога ради, благосклонный читатель, отчего ее не прорвало при виде этой гнусной расправы с одним из своей среды? Ужели она не доросла, по крайней мере, до того сознания, что нельзя же наказывать не только смертным, но и никаким боем, и не только такое преступление, как, например, нарушение бессмысленного приказания паромного унтер-офицера, но и всякое другое преступление, хотя бы оно было во сто раз тяжеле, хотя бы отданное приказание было не бессмысленно и отдал его не унтер-офицер, а сам Удар-Ерыгин? Положа руку на сердце, я полагаю, что именно оттого ее и не прорвало, что она не доросла даже до этого понятия. Опять-таки повторяю: такого рода понятие доступно вам, любезные читатели, вам, которые занимались самоусовершенствованием в тиши кабинета, в сообществе книжек или сочувственных вам людей, под условием взаимного обмена мыслей и чувств, но недоступно грубой толпе, которая из-за куска насущного хлеба потела и выбивалась из сил, вскидывая вилами навоз на телеги и потом раскидывая его по полям.
Но, сверх того, толпа имеет ту же непреклонную веру в роковую неизбежность силы, как и сам преследуемый. Она живет не под влиянием умозрений, но под влиянием действия эмпириков и шарлатанов, которые научили ее горькому житейскому опыту.
Один утешительный факт – это старик, который вздохнул: «Разбойники!» Но нет, и он безобразен. Как он подло стушевался, как только заметил, что вздох его кем-то расслушан! как робко, с каким наивно-гнусным видом стал он и подмигивать, и подсмеиваться, и тишком-тишком пробираться на другую сторону парома, чтоб не обвинили его в христианском сочувствии к ближнему! Положим, что в его понятиях я был одним из тех, против которых он осмелился протестовать – что ж из этого? Или протестовать можно только втихомолку? Или уж такая печать роковая положена, в силу которой самое праведное негодование разрешается лишь кукишем в кармане?
Вот тебе младший наш Глупов, вот тебе наш Иванушка!
По этому случаю мне вспомнился другой анекдот, рассказанный мне когда-то некоторым глуповским старожилом. «Жили да были в нашем Глупове два соседа: Иван богатый да Иван бедный. Много было добра всякого у Ивана богатого, а еще больше было у него зависти; у Ивана же бедного только и богатства было, что лошадь пегая. Вот только и полюбись Ивану богатому этот пегашко; пристал к соседу: продай да продай своего живота. Однако Иван бедный заупрямился: не размыслил, стало быть, поначалу, что если сильному да богатому чего захочется, так уж, значит, так тому и быть. «Ладно же, – говорит Иван богатый, – не хочешь за деньги отдать – отдашь даром; не хочешь честью разделаться – разделаешься бесчестьем!» И возненавидел он его, сударь мой, пуще ворога лютого и стал с тех пор наше общество на него напущать. Соберемся, бывало, на сходку – сборщика или там добросовестного выбирать – кого выбрать? «А чего ж лучше Ивана бедного?» – говорит Иван богатый. «Катай Ивана бедного!» – вопят глуповцы. Случится ли воровство по соседству (уж и лихи наши глуповцы воровать!) – на кого подозрение положить? «Уж это беспременно Иван бедный украл! – говорит Иван богатый, – потому он человек неимущий, и, кроме его, некому промеж нас этим ремеслом заниматься!» Одно слово: тошно стало жить Ивану бедному; прежде был он неимущим, а теперь и вовсе разорился. Выйдет, бывало, за ворота, лохматый да испитой, глазами вперед упрется, словно сам дивуется, как это еще жизнь в нем держится. Наши глуповские ребята про все это знали и очень Ивана бедного жалели. И сколько раз жалеючи ему говаривали: «Поди ты, Ванюшка, к своему ворогу: простит он, это верно – простит!» Однако он все еще крепился; скажет, бывало, советчикам: «Подлецы вы!» – и отойдет прочь. Хорошо. Вот только пала однажды к нам весть о рекрутчине; собралась это сходка, и, натурально, прежде всех за недоимщиков принялись. Горланил больше Иван богатый. «Эти недоимщики, говорит, всему нашему обществу поношение: от Ивана-то бедного, поди, лет за пять уплаты никакой нет!» Стали судить да рядить и приговорили Ивана бедного, как гражданина нерадивого и порочного, отдать в солдаты без очереди. Узнал это наш Ванюшка, словно с колокольни спрыгнул. Прибежал это на сходку: и прощения-то просит, и обзывает-то непотребно; однако ребята наши на своем стали: «отдать да отдать Ивана в солдаты!» – твердят. А у Ивана жена в истопленной избе голосом голосит, у Ивана малые дети верезгом верезжат… Смирился-с. Не только пегашку Ивану богатому на двор свел, а, сказывают, даже не мало в ногах у него убивался. И вот, сударь, живет теперь наш Иван припеваючи, и стал он даже Иванычем. Иван-то богатый за смиренство не токма что продерзость его прежнюю простил, а даже заместо благодетеля ему сделался… Ан и выходит, что ласковое-то теля две матки сосет, а гордому-то да строптивому и одна сосать не дает»…
Ан и выходит… выходит, что ли, достойный сын Глупова?
А может быть, ты скажешь мне, что при таких условиях жить невозможно. «Невозможно» – это не совсем так, а что, «противно» жить – это верно.
. . . . . .
Вот, однако ж, до чего мы договорились с тобой. Мне стало грустно, да и читателю, быть может, не совсем весело. А между тем мне не хочется оставлять читателя в мрачном расположении духа, мне хочется во что бы то ни стало развеселить его.
И в самом деле, из-за чего тебе мучиться, благосклонный мой читатель! И без того слишком одолевают тебя мелочи и дрязги жизни, мелочи и дрязги действительные, дающие себя знать и пощипываниями, и покалываниями, чтоб к ним прибавлять еще дрязги воображаемые, какие-то дрязги будущего. Ты берешь книгу в руки, чтоб развлечься, чтоб отогнать от себя жизненный кошмар, который так аккуратно давит тебя, а тебя потчуют новыми кошмарами, тебя приглашают о чем-то побеспокоиться, над чем-то задуматься, а пожалуй и помучиться…
Итак, будем смеяться.
Передо мной вереницей проходят мимо мои отставные герои: Фейеры, Живновские, Чебылкины, Порфирии Петровичи – то-то смешные люди… Ха-ха!
Передо мной проходит Аринушка, но уже без сумы, потому что ее украл Фейер, чтоб воспользоваться объедком пирога, который кинула в нее рука нищелюбивого купца Хрептюгина… Ха-ха!
Передо мной проходит скитник, бежавший от мира прелестного в пустыни и расседины земные и мирно оканчивающий свой подвиг в остроге… Ха-ха!
Передо мной проходит мой глубокомысленный критик, который обвиняет меня в том, что я вывожу наружу плутни становых (как будто я что-нибудь вывожу, как будто я кого-нибудь обличаю, или обрываю, или упрекаю, или бью по щекам, а не просто описываю и изображаю… о, милый Глупов!), а не вывожу наружу плутней повыше… Ха-ха!
Передо мной проходит моя собственная персона, возражающая вышеупомянутым критикам: «Кто же вам мешает, друзья, прикидывать, сравнивать и прилагать? дерзайте, дети, дерзайте!»… Ха-ха!
Глупов! милый Глупов! отчего надрывается сердце, отчего болит душа при одном упоминовении твоего имени? Или есть невидимое, но крепкое некоторое звено, приковывающее мою судьбу к твоей, или ты подбросил в питье мое зелье, которое безвозвратно приворожило меня к тебе? Кажется, и не пригож ты, и не слишком умен; нет в тебе ни природы могучей, ни воздуха вольного; нищета да убожество, да дикость, да насилие… плюнул бы и пошел прочь! Ан нет, все сердца к тебе несутся, все уста поют хвалу твою! Странная какая-то творится тут штука: подойдешь к тебе поближе, вкусишь от винограда твоего– тошнит: чувствуешь, как въяве дураком делаешься; уйдешь от тебя – плачешь: чувствуешь, что вдруг становишься словно не самим собою!
Отчего же несутся к тебе сердца? отчего же уста сами собой так складываются, что поют хвалу твою? А оттого, милый Глупов, что мы все, сколько нас ни есть, мы все плоть от плоти твоей, кость от костей твоих. Всех-то ты прикормил, всех-то ты воспитал, всех-то ты напоил от многообильных вод реки Большой Глуповицы, – как же нам не любить тебя? Это нужды нет, что иногда словно тошнит: тошнота-то, милый человек, ведь своя родная, прирожденная, так сказать, тошнота! Ну, потошнит-потошнит, да и пройдет! Это нужды нет, что временем словно обухом по голове тебя треснет: обух-то ведь свой, глуповский обух, тот самый обух, который действует по пословице: «кого люблю, того и бью», – бери же его благоговейно в руки и целуй! Свое и бьет как-то не больно, и смердит не совсем чтоб неестественно! А все оттого, милый ты человек, что любовность везде в-очию присутствует, что и сечем-то мы не зря, а тоже приговариваем: «Не груби, не балуй, сударь, сиди смирно, будь послушлив!»
Многим это не нравится; многие предпочли бы, пожалуй, чтоб было поменьше любовности да побольше расчетливости в действовании обухом; для многих обух даже вовсе не составляет прелести… Дивлюсь развращенности вкусов и не возражаю! Но не могу, однако ж, умолчать, что я, с своей стороны, признаю мой Глупов всецело, со всеми его особенностями и даже с его собственным запахом. Какой же это был бы Глупов, спрашиваю я, если бы обитателей его не тошнило, если бы они не были слегка пришибены? И были ли бы мы, сыны Глупова, так безмятежно благополучны, так отвратительно счастливы, если бы нам предлагали какие-то «проклятые» вопросы, если бы нас заставляли делать сочинения на темы вроде: «восход солнца в Глупове» или «сила любви к Глупову»?
И какие могли бы мы дать ответы на вопросы, кроме того, что «ответов, по тщательному розыску, в городе Глупове не оказалось», или: «ответы были, но в пожар, случившийся в таком-то году, сгорели». А сочинения? Возьмем для примера хоть тему «восход солнца» – что такое восход солнца? Мы не знаем, восходит ли солнце и как восходит в городах Умнове и Буянове, а в Глупове это тот самый момент, когда, по преимуществу, сгущаются в жилых покоях ночные звуки – и больше ничего. Коли хотите, это определение голо и как-то пахуче просто, но зато оно наглядно и точно, но зато тут ни одной черты нельзя ни убавить, ни прибавить. Об чем же тут сочинять? Или опять насчет любви – что такое любовь к Глупову? Откуда любовь? где ее седалище? за что любовь? почему любовь? А кто ж его знает, откуда, где, за что и почему! Любим – и все тут! Глупов, высиживая нас, не говорил, люби меня за то, что я, дескать, —
Хорош,
Пригож,
Прекрасен суть, —
а приказывал:
Ах, люби меня без размышлений…
(да и «ах» не говорил, а попросту выражался: «люби не люби, а подплясывай!») – вот мы и любим без размышления: родители любили, и мы любим!
Что тут думать! я твоя, ты мой!
Какие же тут могут быть еще сочинения?
Повторяю: Глупов нравится мне всецело, со всеми особенностями. Я открыто, перед лицом целой вселенной, признаю себя гражданином Глупова и ничего-таки не стыжусь, потому что это дело уладили papa и maman, a я только с благодарностью принял его последствия. Я знаю Глупов, и Глупов меня знает, и мы любим друг друга, и мы счастливы! Мы взглянем друг на друга – и рассмеемся. «Ты чему, дурашка, смеешься?» – спросит меня Глупов. «А ты чему, тятька, смеешься?» – спрошу и я, в свою очередь. И оба удовлетворимся, и оба вздохнем легонько.
Или опять: Глупов покажет мне палец – я зарадуюсь; я покажу Глупову палец – он зарадуется. «Ну, чему ты, дурашка, радуешься?» – спросит меня Глупов. «А ты чему, тятька, радуешься?» – спрошу и я, в свою очередь. И опять оба довольны, и опять вздохнем легонько. Нет, воля ваша, а я именно счастлив, что papa и maman вздумалось в лице моем подарить Глупову лишнего гражданина!
Und ich war in Arcadien geboren…[25]25
И я в Аркадии родился…
[Закрыть]
Да, и я сын Глупова, и я катался как сыр в масле, что, как известно, и составляет настоящую, неподдельную глуповскую Аркадию. Я жил этою жизнью, я упивался производящим сгу-стение крови вином ее; нет того места в моем организме, которое не было бы всладце уязвлено тобою, о Глупов!
Не верьте же, добрые мои сограждане, не верьте тому супостату, который станет внушать вам, будто я озлоблен против вас, будто я поднимаю вас на смех! Во-первых, я столько раз повторял вам: люблю, люблю и люблю, что сомнение в истинности моих чувств было бы даже обидно: не лгу же я в самом деле? А во-вторых, откуда возьму я злобы против того, что составляло и составляет основу моего существования? Откуда возьму я силы отречься от прошлого, которое, как коррозивный меркурий, проникает все поры моего настоящего? Успокойтесь же, глуповцы, и внимайте мне с благодушием!
Если я посвящаю вам досуги свои, если я подношу вам свои сочинения, я делаю это потому, что желаю порадовать вас моими успехами, желаю, чтоб вы погладили меня по головке, чтоб вы сказали: вот, мол, какой у нас сынишка шустрый растет, книжки сам сочиняет! А если в этих книжках вы заметите что-нибудь… то, бога ради, не останавливайтесь на этой горькой мысли! верьте, отцы мои, что это только от усердия, что, в сущности, все мои усилия направлены только к тому, чтоб пощекотать у вас брюшко! В этом заключается вся моя претензия, и дальше ее я не иду.
Да если бы я и хотел идти – кто меня пустит? Вы, глуповцы, народ хоть и смирный, но, с другой стороны, и упрямый. Вы охотно допустите, чтоб кто ни на есть (разумеется, тот, кому на это право дано) собственноручно в вашей физиономии симметрию поправил, но не очень долюбливаете, когда кто-нибудь вам очень близко в душу заглянет, да, пожалуй, еще посягнет на ваше лучшее достояние – на ваш сон. Чего доброго вы соберетесь с силами, да и пожалуетесь!
Итак, примите меня благосклонно и не думайте, что я домогаюсь чести быть вашим учителем! Я только заношу, что между вами происходит, я описываю ваши нравы и обычаи, ваши горести и увеселения, ваши досуги и сновидения, – сделайте же милость, почивайте себе с миром и не фискальте на меня!
Я отнюдь не упрекаю вас за то, что вы не заводите в среде своей общества трезвости, и отнюдь не настаиваю на том, чтоб вы прониклись духом благодетельной устности! Я только заявляю, что в вас нет ни трезвости, ни устности, и даже не прибавляю от себя, нахожу ли этот факт печальным или радостным (откупщик находит его радостным). Сделайте же милость, не считайте меня зараженным каким-то новым духом и не фискальте на меня!
О новом духе, признаюсь вам, я даже понятия не имею. Слышал я, правда, как генерал Зубатов кому-то из приближенных говорил:
– Толкуют там: новым духом веет! новым духом веет! Каким это новым духом, желал бы я знать! Только лакеи стали грубить, а то все остается по-старому.
Итак, будем жить в мире и добром согласии. Пусть младшие уважают старших, а старшие утешаются младшими. Пусть старшие, взирая на младших, говорят: «Кость от костей моих», а младшие пусть отвечают: «Как прикажете-с!» Да не будет между нами ни раздоров, ни распрей, да не будет ничего подобного тому, что случилось намеднись за морями, в городе Буянове, где сын отцу в глаза сказал: «Не дури, тятька! разобью зубы!» Да не будет!








