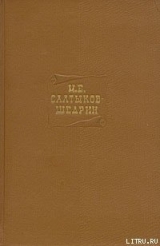
Текст книги "Сатиры в прозе"
Автор книги: Михаил Салтыков-Щедрин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 26 страниц)
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Итак, мы не завтракаем, не обедаем и не ужинаем. Хотя я сам отчасти делаю то же самое, но порою, когда голод уже слишком настоятельно дает себя чувствовать, в голову мою невольно закрадывается сомнение, действительно ли мы правы, поступая столь самоубийственным образом?
Действительно ли нам угрожает опасность?
Действительно ли мир погибает под гнетом новых идей, утопает в разврате реформ и преобразований?
Действительно ли в воздухе пахнет фиалками, а не скотным двором?
Оглядываюсь кругом себя – и с удовольствием примечаю, что все обстоит благополучно. Те же попечения, та же ревнивая заботливость о благе обывателей, те же благонамеренные усилия, направленные к водворению между ними нравственности и смиренномудрия. Правда, что появилось множество неслыханных прежде промышленных обществ, но действия их ограничивались доселе только невыдачею дивиденда простодушным акционерам. Правда, что появилось множество разнообразнейших комиссий и комитетов, которые как будто намереваются перевернуть вверх дном вселенную, но действия их доселе даже и не ограничивались, а как-то лезли все вширь да вглубь да ввысь, так что вряд ли когда-нибудь и насладишься плодами их. Правда, что заварилась какая-то каша насчет трезвости, устности и гласности, но каша так и осталась кашею. Правда, что старики вымирают или кротко стушевываются, но молодые, которые взлезают на упраздненные места, отнюдь их не хуже. В них тот же запах, тот же вкус, та же закваска. Собственно, отечество нисколько от того не теряет.
Скажу более: отечество даже много выигрывает.
Мы, старики, смотрели на божий мир слишком простодушно; мы не строили систем, не добивались принципов; мы жили и действовали сплеча. Решаясь на что-либо, мы справлялись только о том, так ли было поступаемо в подобных случаях прежде; но почему поступалось именно так, а не иначе, почему Петр всегда оказывался правым, а Иван всегда виноватым, почему добродетель и смирение служат украшением простолюдинов, а пороки и непокорливость, не украшая их, служат лишь к огорчению начальства – все эти вопросы, вся эта философия жизни ускользала от нас. Мы благодетельствовали единственно по доброте сердца, и если были у нас под руками рецепты на различные административные случаи, то это были рецепты, механически списанные из домашнего лечебника, без исследования причины целительности их свойств. Напротив того, молодое поколение успело привести все это в ясность, и там, где мы говорили: «Видно, так богу угодно», – сумели доискаться до системы, а там, где мы говорили: «Сам черт не разберет», – дорылись до принципов. Таким образом, хотя сущность осталась та же, что и прежде, но Иван уже знает, почему он должен оставаться виноватым, а простолюдины не оставлены в неведении насчет того, что именно должно считаться их украшением и что посрамлением. Ясно, что жизнь сделалась несравненно более приятною.
Конечно, наш милый полковник Стопашовский и грек Лампурдос справедливо выразились, что без системы нельзя, но они ошиблись, сказав, что именно в настоящее время мы живем без системы. Удостоверяю их, что никогда «система» не сказывалась столь настоятельно, как в настоящую минуту. Прежние системы были не что иное, как младенческий лепет перед теми, которые воздвигаются ныне. Легко выговорить: мы масоны! но не легко доказать это. Разумеется, нельзя отрицать, что в полковнике, как и во всех нас, было нечто масонское, но это было масонство, если позволено так выразиться, нелепое, носящее на себе признаки галиматьи. Спрашиваю полковника: имел ли он таинственные совещания насчет постепенного и неторопливого развития человечества с другими масонами-полковниками? Был ли составлен у них руководящий кодекс чернокнижия? Усматривали ли они связь явлений, чувствовали ли необходимость дисциплины, и не действовали ли единственно в силу личных ощущений? На все эти вопросы он сам, конечно, не дает иного ответа, кроме отрицательного: скажите же на милость, какая тут может быть система?
Я не говорю уже о том, что у каждого из нас, старых масонов, были правители канцелярий и секретари, которые также в своем роде были масонами; важнее всего то, что мы не имели понятия о том, что такое дисциплина, что такое корпорация. Мы думали, что всякий из нас может дуть в свою дудку, как ему угодно; мы свободно якшались с суетными и непосвященными; мы охотно прохаживались с ними по хересам, отнюдь не подозревая, что это общение приучает их смотреть на нас как на простых смертных и поселяет в них вредную мысль о возможности кормить нас со временем подзатыльниками. Напротив того, истинный масон всегда живет особняком и сохраняет гордую неприступность; подобно идолу, он стоит где-нибудь в углу, одетый сумраком; жрецы (правители канцелярий) сметают с него пыль, а обыватели только кадят и славословят – и ничего более.
Истинные масоны только теперь нарождаются на Руси и, надо отдать им справедливость, понимают свое дело отлично. Несмотря на молодость и неопытность, они сразу постигли, что галиматья, взятая сама по себе, есть вещь отличная и что вся штука заключается в том, чтоб возвести ее в перл создания. Вот они и возводят; собирают воедино разрозненные клочки, сдабривают их принципом законности, подправляют и упрощают принципом формальности, освещают принципом неприступности и наконец скрепляют все это особою меркуриально-административною подболткою. Какое выходит из этого кушанье, про то знают обыватели. Что нового произошло? – Ничего.
Какие вторглись в нашу жизнь новые идеи? – Никакие.
Какие такие реформы гложут нас и заставляют ежечасно бледнеть? – Никакие.
Итак, галиматья осталась, но галиматья, возведенная в перл создания. Отчего же мы испугались, отчего потеряли аппетит, составлявший доселе лучшее украшение нашей жизни? Я вам скажу – отчего.
Несмотря на дряхлость и истощение сил, мы желаем жить. «Послужил бы, ей-богу, еще послужил бы!» – повторяем мы беспрерывно: до такой степени слова «жить» и «служить» сделались в понятиях наших синонимами. Привыкнув действовать всегда во имя личных ощущений, мы и на все происходящее в мире смотрим в силу этих же ощущений. Если бы мир разрушался, но нас это разрушение не коснулось, – мы не почувствовали бы его, мы не ощутили бы ни озлобления, ни негодования. Но худо то, что мир стоит, а мы разрушаемся. Это мы уже считаем дерзостью, и на все, что не валится кругом нас, смотрим как на посягателей, отнимающих наши лакомые куски. Отсюда стоны, раздирающие воздух, отсюда вопли о вторжении новых идей, угрожающих будто бы смертью старым порядкам.
История эта не новая. Всякий раз, как какой-нибудь Иван Петрович сходит с деятельного поприща и на смену его является Петр Иваныч, мы уже трясемся и надсаживаем себе грудь, крича, что послезавтра имеет быть революция. Кто нашептывает нам эту мысль, кто внушает нам такое обидное мнение о Петре Иваныче – мы и сами затруднились бы объяснить это, но несомненно, что явление это повторяется без ошибки каждый раз, как на горизонте восходит новое светило. Нам и в голову не приходит, что светило это вовсе даже не светило, а просто-напросто новый милостивец, что ни сущность дел, ни течение их нимало от того не изменяются и что вся штука ограничивается тем, что на место Ивана Петровича, покровительствовавшего многочисленной династии Трифонычей, поступил Петр Иваныч, покровительствующий не менее многочисленной династии Сидорычей. А кто же и в какие времена мог уловить политические признаки, характеризующие эти две разновидности?
Трифонычи сменяют Сидорычей, Сидорычи сменяют Трифонычей – вот, благодарение богу, все политические перевороты, возможные в нашем любезном отечестве. Если такая перетасовка королей и валетов может назваться революцией, то, конечно, нельзя не согласиться, что она совершается и на наших глазах. Пожалуй, можно сказать даже, что в настоящее время она совершается сугубо, потому что на место старых и простых Трифонычей поступили Трифонычи молодые, сугубые, махровые.
Но вопрос не в этом; вопрос в том, следует ли из этой перетасовки заключать, что на том месте, где ныне стоит любезное отечество, будет завтра дыра? Следует ли полагать, что те куски, которые нынче, по естественному ходу вещей, попадают нам в рот, с завтрашнего дня начнут попадать в рот Иванушкам? – Отнюдь! Напротив того, я даже уверен, что благодаря усугубленной деятельности нео-Трифонычей, у нас будет со временем не одно, а полтора отечества, и что в наши рты попадут даже те куски, которые, по всем правам, следовали бы Иванушкам…
Соображая все вышеизложенное, я нахожу, что мы имеем более причин радоваться, нежели унывать. Что нужды, что нас оттирают, а отчасти и умерщвляют? Подобно полковнику Стопашовскому, мы обязаны в этом случае позабыть о себе и иметь в виду одно отечество. Если оно довольно, если преемники наши не только не отступают от мудрой политики своих предков, но даже видимо оную совершенствуют – этого достаточно для успокоения уязвленных сердец наших!
Итак, забудем наши горести и станем жуировать жизнью в надежде, что доблестные потомки не посрамят имен и дел доблестных отцов своих. Благо тому, кто в этой сладкой уверенности может встретить тихий закат жизни своей! Благо тому, кто, взирая на резвящуюся юность, может без озлобления сказать: «Да, и я был молод! и я в свое время проказничал!»
ЛИТЕРАТОРЫ-ОБЫВАТЕЛИ
Пчелка златая!
Что ты жужжишь?
Все вкруг летая,
Прочь не летишь?
Конечно, вам случалось, читатель, пробегать в газетах и журналах последнего времени различные «голоса» из всевозможных концов России: и из Рязани, и из Елабуги, и из Астрахани, одним словом, отовсюду, где только слышится человеческое дыхание. Вы, вероятно, заметили также, что характер этих «голосов», «заметок», «впечатлений» и проч. совершенно не тот, каким отличались подобные же литературные произведения, еще столь недавно находившие себе убежище в «Московских ведомостях». В них уже не идет речи о том, что вчерашнего числа в городе N выпал град величиною с голубиное яйцо, но повествуется преимущественно о предметах, близко касающихся нашего умственного и гражданского развития, о граде же хотя иногда и упоминается, но вскользь, и единственно для того, чтоб заявить, что при единодушных усилиях местных полицейских властей и этот бич не мог бы иметь тех пагубных для земледельца последствий, с которыми он сопряжен в настоящее время. Не говорится в них даже и о том, что такого-то числа в городе Б., на бульваре, играла музыка белобородовского пехотного полка, а господа офицеры наслаждались благоприятною погодой и очаровывали дам своим благонравием; напротив того, если порою и встречается рассказ о каком-либо происшествии подобного рода, то музыка и самая погода являются здесь делом побочным; главные же усилия автора направлены к тому, чтоб заявить, что во время музыки произведен был скандал, причем прапорщик К*** ущипнул жену винного пристава («не сын ли это вышневолоцкого готтентота?» – спрашивает анонимный корреспондент).
Не знаю, как кого, а меня это явление очень радует. Как человек благонамеренный и современный, я с удовольствием взираю, как любезное наше отечество полегоньку выворачивается наизнанку. И не то чтоб мне нравился собственно процесс этого выворачивания, но я искренно убежден, что только благодаря ему наша изнанка в непродолжительном времени перестанет быть скверною и дырявою, какою была до сих пор, и с помощью соединенных усилий калужских, рязанских и астраханских корреспондентов заменится, хотя неизящною, но зато несокрушимою подкладкою из арестантского холста.
И действительно, многие уже заявленные в этом смысле попытки самым отрадным образом убеждают меня, что если корни гласности горьки, то плоды ее отменно вкусны и сладки. Таким образом, например, следя за «голосами из Рязани», я с удовольствием вижу, что город этот решительными и быстрыми шагами изготовляется к совершенству. Там процветает женская гимназия; там открыты воскресные классы и публичная библиотека; там, в Зарайском уезде, благоденствовали общества трезвости, покуда известный публицист и либерал (по-русски: «свободный художник») Василий Александрович Кокорев (он же и местный откупщик) своими очаровательными манерами вновь не приковал мужичков к кабаку; там в недавнее время устроен бульвар в таком месте, где со времен Олега сваливался навоз («куда же мы теперича навоз валить будем?» – спрашивают друг друга смущенные обыватели – не литераторы); там имеет быть выстроен, стараниями откупщика, каменный театр, и носятся даже слухи об устройстве водопровода… Отдыхая сердцем на этих утешительных известиях, я живо представляю себе и обывателей города Рязани, спешащих принесть свою лепту на общественное устройство, и душку-откупщика, устремляющегося выстроить не питейный дом, как бывало прежде, а храм искусств, в котором будут приноситься посильные жертвы Талии и Мельпомене! И все это без малейшего подзатыльника, без самоничтожнейшей административной затрещины; по одному только искреннему убеждению, что пора и нам… тово… тово воно как оно! И я невольным образом восклицаю: «Ах! если бы можно было умереть в Рязани!»
Но если хороша Рязань, то не дурна и Калуга. И в ней с большим рвением принимаются за анализирование отечественных нечистот, и в ней болезненно звенит в воздухе вопрос о женской гимназии, и в ней идет усердная очистка улиц и деятельно освобождаются площади от наслоившегося на них навоза. Одним словом, все шло бы хорошо, если бы, несколько месяцев тому назад, не подпакостили шесть или семь молодых прогрессистов, которые, явясь пообедавши в театр, неизвестно почему вообразили себе, что пришли в баню и начали вести себя en conséquence.[108]108
соответственно.
[Закрыть] «Не дурно умереть и в Калуге!» – размышляю я, ибо надеюсь, что упомянутые прогрессисты потому только действовали столь бесцеремонно, что были пообедавши и что перед обедом они парни смирные.
Меня до слез трогала полемика между селом Ивановом и Вознесенским посадом. «Коварные вознесенцы!» – восклицал я, читая статейку ивановского обывателя. «Да куда же, однако, вы лезете, ивановцы!» – думал я, с другой стороны, смакуя возражение обывателя Вознесенского. И я до сих пор не мог уяснить себе, в чем заключаются обиды и язвы, которыми преисполнен этот знаменитый спор двух муниципий, но лицам, имеющим чувствительное сердце, не советую читать относящиеся до него документы, так как чтение это может довести до идеи о самоубийстве.
Вот сладкие плоды гласности! Подобно лире Орфея, она приводит в движение утесы, в гранитности которых никто доселе не сомневался, и заставляет плясать бессловесных, которые до настоящей минуты паслись по привольным равнинам обширного нашего отечества. Под влиянием тихого ее веянья умственные тундры наших бюрократов населяются цветами проектов и предположений, а сердца обывателей воспламеняются неутолимою жаждой просвещения и добровольных пожертвований. Под сенью ее весело засыпают все «Ивановы», «Батраковы», «Калужане», «Угличане», «Проезжие», «Прохожие» в сладком убеждении, что и они не бесполезные члены общества, что и им удалось пролить капельку в обширную лохань родного преуспеяния.
И если противники гласности указывают мне на какой-то Краснорецк, где будто бы и до сих пор, подобно ветру пустынь, рыскает по улицам Рыков, сокрушая зубы попадающимся навстречу обывателям, то я отнюдь не смущаюсь этим обстоятельством. Во-первых, рассуждаю я, свету истины не суждено проникать с одинаковою легкостью во все закоулки земного шара, и если существуют на свете целые страны, погруженные в скверну исламизма, то почему же Краснорецку не быть погруженным в скверну зуботычин? Во-вторых, если Рыков и действительно не внемлет спасительным уветам гласности, то это составляет лишь частный случай, доказывающий, что голова Рыкова подобна каменоломне, для разработки которой потребен железный лом, а не гласность. И в-третьих, наконец, что значит мрачный скрежет зубов одинокого Краснорецка перед радостными кликами, раздающимися в пользу гласности в Пензе, Тамбове и других центрах отечественного просвещения?
И, не обращая более внимания на унылый Краснорецк, я с сердечным замиранием жду каждого нового нумера «Московских ведомостей». Из них я узнаю, во-первых, что у нас, в городе Глупове, городничий совсем от рук отбился; на главной площади лежит кучами навоз; по улицам ходят стаями собаки, готовые растерзать всякого indiscret;[109]109
слишком любопытного.
[Закрыть] в трактирах вонь и мерзость; торгующее сословие продает втридорога и притом дурной товар; в довершение же всего, на днях виден был на небе метеор, но никто не заблагорассудил обратить на него внимание, ибо купцы и мещане в это время уж спали, а городничий и прочие аристократы играли в карты. «Да, брат, плох ты! совсем, старик, плох! – обращаюсь я мысленно к глуповскому городничему, – пора бы тебе в отставку да с женой на печку спать!» Во-вторых, я узнаю, что в городе Нововласьевске был предложен обществу вопрос о женском училище, но общество оказало при этом не только равнодушие, но даже невежество, соединенное с тупоумием; городничий, как урожденный насадитель просвещения, простер было десную свою, чтоб учинить бородотрясение одному из ревнителей тьмы, но должен был остаться при одном намерении, ибо общество единодушно оскалило зубы. «Да, брат! – обращаюсь я мысленно и к нововласьевскому городничему, – лет шесть тому назад попытки твои, всеконечно, увенчались бы успехом: и бороды были бы вытрясены, и Нововласьевск не остался бы без просвещения, а теперь вот… ахти-хти-хти!» И еще, наконец, узнаю, что в окрестностях города Ляказина ухает в болоте какая-то птица; что крестьяне в один голос говорят, что это ухает леший и предвещает войну, а исправник и не думает об истреблении этих предрассудков, как будто бы это и не его дело!
Прочитавши все это, я ощущаю спокойствие во всем моем организме. Я убеждаюсь до очевидности, что нет уголка на Руси, который не имел бы своего песнопевца, карателя пороков и оградителя чистоты и невинности; что десница его оградит меня в моих странствиях и удержит станционного смотрителя от отказа мне в лошадях, если сии последние действительно находятся налицо, а не в разгоне. Я сознаю себя безопасным; я чувствую, что могу жить и дышать свободно; что если кровожадный откупщик отпустит мне скверной водки, то не останется без обругания; что если ночью на улице нападут на меня собаки, то бдительный градоначальник выскочит из-за угла и не допустит растерзать меня; что если у меня в доме случится пожар, то местная пожарная команда распорядится мною и моим имуществом прежде даже, нежели я о том проведаю.
Вот сладкие плоды гласности! – снова восклицаю и, полный прочитанного, спокойно засыпаю себе с «Московскими ведомостями» в руках, а во сне между тем бесчисленными группами восстают передо мной все новые и новые родные срамоты!
Не могу до сих пор позабыть то ужасное, потрясающее действие, которое произвело в нашем родном городе Глунове получение первой обличительной статьи, направленной против нашего градоначальника. Погода в этот день стояла тихая и радостная; дороги были в самом исправном положении, и почта по этому случаю пришла необыкновенно рано, как бы сговорившись с редакцией «Московских ведомостей», чтоб сколь возможно неотложнее поразить наш город скорбью. Почтенный наш градоначальник, как нарочно, встал утром с постели правой ногой и, будучи в отличном расположении духа, отправился обрезывать сухие сучья у недавно посаженных им яблонь; супруга его, сидя на крылечке, варила варенье из только что поднесенной ей сочной и крупной клубники; маленький Коля и крохотная Ляля прыгали и резвились, поминутно перебегая от нежно любимой баловницы-матери к строгому, но справедливому отцу.
– Мамаса! эту кубнику купец пьисьяй? – пищала суетливая, от природы наделенная замечательным хозяйственным взглядом Ляля.
– А вцеласнее сено папасе Иван Фомич пьисьяй! – задумчиво рассуждал Коля, заглядевшись на вкусные пенки, накипавшие на варенье.
– Мамаса! это за то, стоб папаса Андьюску ихнего высек? – допытывалась резвая Ляля.
– Цыц, пострелята! – отозвался наш градоначальник, вслушавшись в долетавшие до него отрывки невинного детского разговора, – уйми ты их, сударыня! этак они, пожалуй, при губернаторе сдуру ляпнут!
Одним словом, все здесь дышало идиллией, но не той приторно-сладкой идиллией, в которой действующими лицами являются разрумяненные пастухи и пастушки, а нашею родною, отечественною идиллией, которая преимущественно избирает себе убежище в самом сердце полиции (по пословице: «невинное к невинному льнет») и в которой замечается полное отсутствие барашков (барашки эти, в виде брюхастых купцов и изворовавшихся мещан, обыкновенно пасутся там, где кончается картина, а именно в глуповском гостином дворе), – одним словом, идиллией, в которой нередко слышатся доносящиеся с пожарного двора крики: «Ай, батюшки, не буду!»
Но в мире всегда так бывает, что чем чище и непорочнее невинность, тем менее она приобретает прав наслаждаться плодами своей безукоризненности. Невинный ягненок едва успел подойти к ручью, чтоб утолить жажду, как на него уже наскакивает хищный волк и самым наглым образом придирается к нему, что он мутит воду («а я совсем и не мутил!» – пищит ягненок). В реке Ниле беспечно купается бедный мальчик, а из-за камышей уже стережет его крокодил. В городе Нововласьевске некоторый фабрикант, благодетельствуя своим меньшим братьям, деятельно выкупает их на волю, как вдруг налетает на него бюрократ и как дважды два – четыре доказывает, что товаром сим спекулировать воспрещается («Ваше превосходительство! позвольте мне двадцать тысяч на общеполезное устройство пожертвовать!» – как белуга ревет фабрикант, силясь освободить попавшую в капкан лапу. «Изволь, братец», – отвечает его превосходительство). Тем менее должен был ожидать себе от судьбы пощады наш градоначальник, который, несмотря на чистоту своих побуждений, все-таки был менее невинен, нежели упомянутые выше ягненок, купающийся мальчик и нововласьевский благодетельный фабрикант. И действительно, царствовавшая в городническом доме с утра идиллия была возмущена самым неожиданным образом, и крокодилом на этот раз явился уездный стряпчий.
Стряпчий вбежал прямо в сад, как говорится, словно с цепи сорвался.
– Необыкновенная вещь! удивительная вещь! – во все горло кричал он, еще издали махая только что полученным нумером газеты.
У градоначальника во рту сделалось горько: ему представилось, что в руках у стряпчего указ губернского правления о предании его за невинность суду, и вдруг, не более как в несколько секунд, он пережил всю прежнюю жизнь свою.
– Что такое? что такое? – мог он только проговорить, устремляясь навстречу гостю.
– Вот уж подлинно гость хуже татарина! – ворчала между тем градоначальница, которая от испуга чуть-чуть не выронила из рук тазик с вареньем.
– А вот-с, прочтите-с! – отвечал стряпчий, тыкая пальцем в одно место развернутого листа.
В этом месте было изображено:
«Что сказать вам о нашем городе? Несмотря на всеобщее стремление к преуспеянию, у нас оказывается полное равнодушие к общественным интересам, а в кругу наших аристократов только и слышатся что толки о вчерашнем преферансе. Грустно! За доказательствами, впрочем, ходить не далеко. В недавнее время был в нашем городе пожар; сгорели холостые постройки при доме мещанки Залупаевой, и как бы вы думали, кто последний явился на пожаре? Стыжусь за свой город, но из уважения к истине (amicus Plato, sed magis arnica veritas) должен во всеуслышание объявить, что последнею прибыла наша пожарная команда, и притом прибыла в то время, когда пожар был окончательно потушен усилиями частных лиц. Говорят, будто городничий был в то время на пульке у одного из наших аристократов и не мог оторваться от интересной игры; говорят, будто и пожарная команда была занята совсем другим делом… Мало ли что говорят! Поневоле вспомнишь описанный в вашей многоуважаемой газете пожар в городе А**, во время которого начальник губернии действовал лично, и притом с таким самоотвержением, что у него обгорели фалды! А пора бы, кажется, и нам!
Туземец».
Когда наш градоначальник прочел эту рацею, окружающие предметы внезапно исчезли из глаз его, и воздух наполнился зелеными струистыми кругами, которые то отделялись друг от друга, то снова сплывались. За ними, словно сквозь дымку, виднелась черная пропасть, из которой грозилось губернское начальство. Уничтоженный и ошеломленный, стоял он, выпустив газету из рук и ухватясь за фалды. Конечно, в эту минуту он ничего так страстно не желал, как того, чтоб глупые его фалды сгорели дотла и он уподобился бы тому герою, который прославил собою город А**.
– Что там за глупость еще написана? – вступилась градоначальница. – Ляля! подай-ка сюда газету!
– Да-с, пощелкивают-таки нашего брата! – задумчиво заметил стряпчий, – эта гласность, доложу вам, словно тля: раз заведется, так и съест поедом человека дотла!
– Да и вы хороши! разбежались с маху, точно и бог знает радость какую принесли! – колко отозвалась градоначальница. – Это все, я думаю, учителишки пакостят!
Голос дорогой супруги возвратил градоначальника к сознанию горькой действительности, но этот возврат выразился в нем как-то беспорядочно.
– Желал бы я! желал бы я! – вдруг вскрикнул он таким неестественным голосом, что стряпчий затрясся и побледнел как полотно, а дети в испуге заметались и, в довершение всего, разразились самым неистовым плачем.
Вероятно, он имел намерение выразить этим восклицанием, что желал бы знать, кто был неизвестный составитель пасквиля, но по стиснутым кулакам можно было догадываться, что восклицание имело и другой смысл.
– Я тебе говорю, что это учителишкп пакостят! – отозвалась градоначальница, которая одна не потеряла присутствия духа.
– Жив не хочу быть, коли не изуродую! – вопиял градоначальник.
– А я бы на вашем месте презрел-с! – заметил стряпчий.
– Нет, уж это аттанде![110]110
увольте!
[Закрыть] Истинным богом клянусь, что зубы в пепел обращу.
– Еще неизвестно, как губернское начальство посмотрит! – благоразумно увещевал стряпчий, – с следующей же почтой запросца надо ожидать-с!
– Ну что ж, я так и отвечу, что распоряжение сделано!
– Ну да-с… а все-таки будто сомнительно! Нынче, Федор Ильич, пасквилянты-то не долу смотрят, а больше взодравши нос ходят! Я с своей стороны полагал бы не горячась, а исподволь… домашними средствами… через час по ложке…
– А что ты думаешь? ведь Иван-то Пахомыч правду говорит! – заметила градоначальница.
– Сквозь строй жизненных обстоятельств пропустить, – задумчиво пояснил свою мысль стряпчий, – чтоб человека сего, так сказать, постепенными и неторопливыми мерами огня и воды лишить… так-то-с!
– Понимаю, – отвечал градоначальник.
– Например, если человек этот имеет привычку прогуливаться, можно неизвестных людей на него напустить, которые, будто пьяные, могут легонько бока ему помять, а потом скрыться-с!
– Понимаю, – сказал градоначальник.
– Ах, это бесподобно! – воскликнула градоначальница.
– Или, например, Яшку-вора научить, чтоб он у того человека в квартире пошарил!
– Понимаю!
– Или, например…
– Понимаю! – воскликнул градоначальник, переходя от уныния к восторгу и благодарно сжимая в руках своих обе руки стряпчего. – Анна Петровна! водки и закусить!
– Так-то лучше будет! – задумчиво заключил стряпчий.
Выпивши и закусивши, градоначальник наш, по обычаю, отправился пешком осматривать город, и глуповские мещане могли собственными глазами убедиться, что в лице его было что-то ангельское. В этот достопамятный день в городе Глупове не было разбито ни одной рожи, а торговля и промышленность внезапно процвели яко крин сельный. Пришедши в лавку мясника Брадищева и увидев, что мясо покрыто не холстом, а грязной рогожей, градоначальник не полез на хозяина, как озаренный, но кротко и учтиво сказал, что говядина, любезный мой, по Своду законов, должна быть чистым полотенцем покрыта. «Это не я, милый мой, говорю, а Свод законов!» – На такую речь Брадищев мог лишь выпучить глаза, как бы говоря ими: «Да что ж ты по зубам-то меня не бьешь?» – но и за всем тем градоначальник не воспользовался своим правом, а только вздохнул и отправился тихим манером в лавку мясника Усачева, где также действовал кроткими мерами убеждения.
На возвратном пути из обзора встретился исправник, который, по всему было видно, поспешал к Федору Ильичу, чтоб поделиться с ним свежею новостью и сообща пособолезновать.
– Скажите, какая новость! – крикнул он ему с дрожек, остановив на минуту ретивую пару кругленьких саврасок.
Но Федор Ильич, не прекращая шествия, лишь улыбнулся кротко и махнул рукой.
– Да стойте же! – закричал ему вслед исправник, – на пульке-то сегодня будете?
Градоначальник остановился и несколько секунд пребывал в мучительной борьбе с самим собою.
– Буду! – сказал он наконец решительно и плюнул при этом в сторону, как бы отбиваясь от дьявольского наваждения.
– То-то же! – присовокупил с своей стороны исправник, – смотреть-то на них нечего!
Вслед за тем встретился судья, который шел пешком и, по причине тучности, до того запыхался, что, ставши лицом к липу с градоначальником, некоторое время разводил только руками. Федора Ильича несколько покоробило.
– Скажите, какая новость! – проговорил между тем судья.
– А вам что за дело? – со злобою отвечал городничий и, отвернувшись от судьи, пошел своею дорогой.
Но не успел он пройти и десяти шагов, как из-за угла вскинулся на него почтмейстер.
– Скажите, какая новость! – кричал он, как-то странно всхлипывая.
– Эк вас, чертей, развозило! – процедил сквозь зубы градоначальник и потом, в свою очередь наскочив на почтмейстера, не без азарта спросил: – Позвольте, Иван Максимыч, вам что от меня угодно?
– Помилуйте, Федор Ильич… я ничего-с… я собственно по чувству христианского человеколюбия-с…
– Ну, так я вам вот что скажу: когда про вас будет в газетах написано, что вы на почтовых лошадях по городу ездите, что вы с почтосодержателей взятки берете, что вы частные письма прочитываете… тогда я вам крендель пришлю! А теперь прошу вас оставить меня в покое!
Сказав это, градоначальник почти бегом добежал до дому, и только тогда отдохнул душой, когда взялся за скобку двери.
Одним словом, в среде нашей уездной аристократии переполох был решительный. Каждый из членов ее счел нужным сойти в глубину души своей и проверить свою служебную и даже домашнюю деятельность. Оказалось, что дело совсем дрянь выходит. Почтмейстер простер свою щепетильность в этом отношении до того, что вдруг почувствовал, будто в квартире его пахнет чем-то кисленьким, и в ту же минуту приказал покурить везде порошками. Окружный начальник сначала храбрился и не прочь был даже посочувствовать неизвестному корреспонденту, но потом, пошептавшись о чем-то с исправником, вдруг побледнел и с этой минуты начал звонить во все колокола, что это ни на что не похоже и что этак, чего доброго, незаметно можно подорвать величественное здание общественного благоустройства. Один исправник остался совершенно равнодушен к общей тревоге и в этот же вечер, обыграв, по обыкновению, своих партнеров в карты, с самым убийственным хладнокровием произнес: «По мне, лишь бы выигрывать, а затем милости просим!.. хоть в каждом нумере!»








