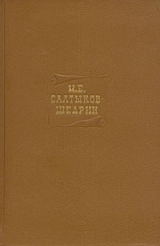
Текст книги "Том 7. Произведения 1863-1871"
Автор книги: Михаил Салтыков-Щедрин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 52 страниц)
Я встретился недавно с одним товарищем по школе. Ребенком он был так себе: не слишком фискалил, подсказывал довольно удовлетворительно и даже по временам курил в печку, хотя никогда не попадался. Идя разными дорогами, мы давно потеряли друг друга из виду, как вдруг я узрел его во всеоружии! Оказалось, что он уже имеет прочное общественное положение, что он заказывает платье у лучших портных, что кокотки в его присутствии пламенеют и что в будущем его, несомненно, ожидает блестящая перспектива. Взгляд у моего друга детства был смелый, светлый, но ничего не выражающий, кроме пронзительности; тон голоса твердый и уверенный.
– Какие же, однако, твои цели, мой друг? – спросил я его.
– А ближайшая моя цель – съесть вот этот кусок ростбифа (дело было в ресторане), – сказал он мне и от предположения тотчас же перешел к исполнению.
– Но потом?
Он взглянул на меня, как будто изумился моему любопытству; однако ж ответил:
– А потом – мы выпьем, если хочешь, по стакану доброго лафита!
– Да… но не вся же жизнь тут… Вероятно, есть цели, есть убеждения…
Он опять взглянул на меня, но на этот раз уже не с изумлением, а с строгостью.
– Убеждения, любезный друг? – сказал он мне, – ты говоришь об убеждениях? Так я отвечу тебе на это, что убеждения могут иметь только люди беспокойные и недовольные. Мы – люди спокойные и довольные, мы не страдаем так называемыми убеждениями, а видим и признаем только долг… ты понимаешь – долг! Мы стремимся и достигаем!
Сказавши эти слова, он величественно встал с дивана, кивнул головой буфетчику и вышел из ресторана, не доевши даже своего завтрака. Я устремился ему вослед, чтобы спросить, что̀ же, наконец, гнусного заключается в слове «убеждение», но он был уже далеко. Я мог любоваться только, как сверкала вдали его круглая, гладкая шляпа и мелькали по тротуару проворные его ноги.
Я уверен, что с той достопамятной минуты он питает ко мне злобу непримиримую и что представься удобный случай – он позабудет все связи прошлого и отомстит-таки мне за свой неудавшийся завтрак.
Но воспоминания увлекают меня. Был у меня и другой товарищ, по фамилии Швахкопф * , по ремеслу барон. Специальность его состояла в том, что он ни на одном языке не имел таланта выражаться по-человечески и всем и каждому жаловался, что у него нет в голове никакой «мизль» (мысль). Встречаю на днях и его – тоже чуть не сплошь изукрашен алмазами общественного доверия; тоже – взгляд светлый, смелый, ничего не выражающий, кроме пронзительности; тоже – голос властный, уверенный, способный выражать твердость и непреклонность.
– Ну, что, как наша «мизль»? – спрашиваю я его, по старой, закоренелой привычке.
– Мой «мизль» – нет «мизль»! – ответил он мне с таким уморительным глубокомыслием, что я не вытерпел и бросился его целовать.
Передо мной воскресло далекое прошлое. Мне вспомнилось, как этот добродушный Швахкопф натуживался и потел в поисках за мыслью, как мы, его неразумные товарищи, издевались над этими потугами и, наперерыв друг перед другом, предлагали к его услугам самые изумительные, самые беспримерные мысли. Стало быть, однако, этот человек чувствовал когда-то потребность мысли! стало быть, он сознавал, что без мысли не жить ему на свете! – И вдруг какой страшный переворот! «Моя мысль – нет мысли!» Сквозь какое горнило сугубых гнусностей должен был пройти этот простодушный субъект, чтобы прийти к такому отчаянному афоризму!
Бесстыдство как замена руководящей мысли; сноровка и ловкость как замена убеждения; успех как оправдание пошлости и ничтожества стремлений – вот тайна века сего, вот девиз современного триумфатора! «Прочь мысль! прочь убеждения!» – на все лады вопиет победоносное комариное воинство, и горе тому профану, который врежется в этот сплошной рой с своими так называемыми idées de l’autre monde! [7]7
потусторонними идеями!
[Закрыть]
Таковы современные властители наших дум.
«Легковесный» встречается всюду, во всех кружках так называемого общества. Вы его можете узнать по наглости взгляда, по искусственной развязности поступи, по плотоядному выражению улыбки, по растленной беззастенчивости речей. Жаргон этой современной jeunesse dorée [8]8
золотой молодежи.
[Закрыть]не просто ничтожен, но посрамителен для человеческого слуха. Это какой-то каскад нескладных слов, не соединенных между собою никакою внутреннею связью и возбуждающих в собеседнике не ответную работу мысли, а поползновения похоти.
«Легковесный» ленив, несмотря на свою юркость; неспособен, несмотря на то что за все берется; невежествен, несмотря на то что никогда не краснеет. И за всем тем он успевает. Он нагл и угодлив в одно и то же время и своею открытой враждой к мысли зарекомендовывает себя с наилучшей стороны. С этим скудным запасом он забирает все вверх и вверх, ничего не видя, ничего не понимая, не имея даже никаких целей, кроме самого процесса забирания вверх. «Ты взялся за дело, – говорите вы ему, – но ведь ты понятия об нем не имеешь, ты даже в первый раз услышал об нем в ту минуту, как взялся за него!» Но он не удостоит вас даже ответом на такую речь; он просто посмотрит на вас с своим простодушным бесстыдством, как бы говоря: «Чудак! да разве нужно понимать дело, чтобы браться за него!»
Единственное ремесло, по части которого «легковесный» искусен, – это ремесло подтягиванья, подбирания вожжей и изготовления ежовых рукавиц. Это ремесло простое, не требующее особенной расточительности умственных богатств, но потому-то оно и оказывается по плечу «легковесному». «Подтягивай!», «поддавай!», «держи наготове рукавицы!» – словно волнами несется из легковесного лагеря, и делается вчуже страшно за эту безграничную пустыню, которая так легко передает из края в край всякие бессмысленные звуки!
– Mon cher! – говорил мне на днях один из самых решительных подтягивателей, – mon cher! все это так расползлось, распустилось, что подтянуть следует непременно.
В этой речи нет ни одного слова, которое было бы не праздно, которое имело бы определенный смысл, а между тем вы слышите ее чуть не на каждом шагу. Она говорится одними, подхватывается другими, и вот в воздухе образуется густой столб подтягивательного смрада, смысла которого вы не можете объяснить, но который потому-то и страшен, что к нему нельзя подойти ни с какой стороны. «Ужели Россия – это и есть та самая скотина, которую следует подтянуть?» – с изумлением спрашиваете вы себя.
Но это-то именно и несносно в «легковесных». Очень уж они невразумительны. Говорят всё какие-то заштатные, упраздненные слова, а объясниться по поводу их не могут. Не столько обидно самое предполагаемое подтягиванье, сколько неопределенность угроз и посулов. Неизвестно оружие, неизвестно требование, неизвестно ни время, ни место – все это опутывает каким-то мраком, все поселяет безотчетное опасение. Пронесет или не пронесет? Помилует ли бог или не помилует? – вот трудные вопросы, над которыми мы ломаем многострадальные наши головы и в зависимость от которых становится человеческое спокойствие.
Само собой разумеется, что подобное положение не может быть названо ни особенно блестящим, ни особенно твердым, ни особенно радостным. Трудно себе представить что-нибудь более уродливое, нежели жизнь, составленную от одних подтягиваний! трудно выдумать нигилизм более бессодержательный, нежели этот диковинный подтягивательный нигилизм! Неужто не все уже достаточно подтянуто? Ужели подтягивательная практика не завершила своего цикла?
Нет зрелища более уморительного и в то же время более жалкого, как зрелище «легковесных», когда они примутся рассуждать о принципах. Да, и у них есть принципы, и даже «великие принципы» – excusez du peu! [9]9
только и всего!
[Закрыть]Что̀ это за «принципы»? – это принципы! что̀ за «великие принципы»? – это великие принципы! – Вот все толкование, которого вы добьетесь в ответ на ваши запросы. Это просто заколдованный круг, в котором подлежащее так же легко ставится на место сказуемого, как и сказуемое на место подлежащего. Это заштатные, упраздненные слова.
– Господа! принципы – прежде всего! – вопиет один «легковесный».
– Господа! надо спасти принципы! – вторит ему другой «легковесный».
– Господа! надо ясно поставить принципы! – приглашает третий.
«Принцип, принципа, в принципе, о принципе» – так и сыплется со всех сторон и изо всех уст. О тайна российского празднословия! Кто разгадает тебя?
Нам не в первый раз встречаться в жизни с упраздненными словами, не в первый раз томиться под игом их. Не мало таких слов произнесли в свое время каплуны мысли, не мало произносится их в настоящую минуту, не мало предвидится этого добра и в будущем. Но странно, что слова эти час от часу становятся глупее, неожиданнее и даже односложнее. Каплуны размазывали фразисто и угнетали с помощью многоэтажных периодов; теперь мы слышим легковесно-отрывистые восклицания: «поддавай! натягивай! подбирай!» и проч. Ужели в будущем мы осуждены на односложные звуки?
Одна из самых замечательнейших способностей «легковесного» – это способность проникновения. Он не изобретателен, не глубокомыслен, не обладает познаниями, и, при всем том, нет профессии, в которую не забрался бы этот духовный недоросль и в которой не оставил бы он легкой погадки. Готовность и развязность заменяет ему всевозможные качества; он ни над чем не задумывается, ни перед чем не останавливается и неуклонною стопой шествует в храм славы с единственною целью сневежничать в нем. Существуют легковесные публицисты, легковесные романисты, легковесные администраторы, легковесные экономисты, моралисты, финансисты и т. д. Сколь разнообразны вольные художества в Российской империи, столь же разнообразны и профессии легковесных.
Призовите «легковесного» и велите ему написать роман на тему: «Она приподняла подол»; он настрочит двадцать печатных листов и ни разу, на всем пространстве этой трудной, многострадальной путины, не сойдет с своей темы. Он не засмотрится в сторону, не увлечется ни умом, ни добродетелями своих героев; он исполнит заказ в точности, и когда принесет свое произведение, то вы, не читав его, уже почувствуете, что от него пахнет подолом.
Призовите «легковесного» и велите ему написать курс астрономии на тему: «Пускай астрономы доказывают» * – он и это исполнит в точности. Он докажет, что существует на свете даже астрономия легковесная, в силу которой солнце восходит и заходит по усмотрению околоточных надзирателей, и когда принесет свое сочинение, то вы, не читав его, почувствуете, что от него пахнет будкою.
Он докажет, что можно быть администратором на тему: «По улице мостовой», финансистом – на тему: «Нет денег – перед деньгами», экономистом – на тему: «Бедность не порок», моралистом – на тему: «Избраннейшие места из сочинений Баркова». Нет для него недоступного, нет той трудной задачи, которую бы он не растлил легковесностью.
Это качество считается у нас драгоценным; на него указывают как на вернейший залог того, что русская земля не оскудеет деятелями. Без сведений, без приготовления, с одною развязностью, мы бросаемся в пучину деятельности, тут тяпнем, там ляпнем… И вот, при помощи этого бесценного свойства, в целой природе нет места, в котором бы мы чего-нибудь не натяпали!
Полюбуйтесь, как играет на солнце эта разноцветная мошкара. Ни на мгновение она не остается спокойною, но все кружится, все жужжит. Если вы думаете, что это мошкара празднующая и бездельничествующая, то ошибаетесь; нет, это мошкара подвижничествующая и занятая, это мошкара, без устали безлепствующая на тему: «По улице мостовой» и неуклонно морализирующая на тему: «Она приподняла немного подол». Поймите, сколько должно быть у нее труда и забот! И какие потребны нечеловеческие усилия, какой нужен кропотливый надзор за собою, чтобы ни разу в продолжение целой жизни не промолвиться ни одним живым делом и не отступить ни на волос от заказной темы!
И после этого выискиваются огорченные субъекты, которые позволяют себе уверять, что у нас недостаток в деятелях! Помилуйте! да у нас их такое обилие, что если всех спустить с цепи, то они в одну минуту готовы загадить все наше будущее!
Пойдите во всякое время на Невский проспект – ка̀к они шаркают и гремят, ка̀к пронзительно испытуют пространство, ка̀к гордо несут свои головы! Кто эти «они»? Это они, это строители нашего будущего!
Загляните в Михайловский театр во время представления «La Belle Hélène» – ка̀к они стонут, ка̀к плещут руками, ка̀к * визжат при малейшем неосторожном движении, обнажающем корпус г-жи Девериа! * Кто эти «они»? Это они, это строители нашего будущего!
Прислушайтесь к жужжанью наших литературных захолустьев – ка̀к они клевещут, ка̀к развязно формулируют всевозможные обвинения! Кто эти «они»? Это они, это строители нашего будущего!
Везде, где пахнет разложением, где слышится растленное слово, – везде «легковесный» является беспримерным трудолюбцем и неутомимым строителем будущего.
Ужели и сего не довольно? Ужели мы имеем повод опасаться, что Русь когда-нибудь оскудеет деятелями?
Нет, этого не будет. Родник, который источает нам «легковесных», так богат ключами и бьет такой сильной струей, что нет ни малейшего повода ожидать, чтоб он когда-нибудь истощился. Это правда, что «легковесные» – плотоядны и в этом качестве охотно поедают друг друга, но, с другой стороны, их наготовлено так много и сами они так легко зарождаются, что возлагать какие-либо упования даже на их плотоядность было бы величайшею опрометчивостью.
Нет никакого сомнения, что один порядочный мороз может разом погубить бесчисленное множество комаров; но это не дает права надеяться, чтобы комариный род изгиб на веки веков. Увы! достаточно одного пасмурного, влажного дня, чтоб воинство восстановилось во всем своем составе, и даже более полном и сильном, нежели когда-либо. Что нужды, что это будут иные, новые комары – все-таки это будут не орлы, а комары, и интересоваться тем, как называются они по имени и отчеству, может только праздное любопытство.
Так точно и «легковесные». Они могут временно пропасть, но изгибнуть не могут. В ту самую минуту, когда вы считаете воздух навсегда очищенным от них, они уже где-то зарождаются, где-то взыграли, где-то роятся. Еще мгновение – и они уже носятся по полям и оврагам, они брыкаются и кусают, и победоносно гремят неизменную песнь о подтягиванье, которую повторяет за ними тысячеустое эхо…
Литературное положение *
Один из самых характеристических признаков современности – это совершенно особенное положение литературы в русском обществе. С некоторых пор наше общество до того развилось и умудрилось, что уже не оно руководится литературою, но, наоборот, литература находится у него под надзором. Завелись соглядатаи, наблюдатели, руководители и вдохновители, но более всего развелось равнодушных, которых нельзя подкупить ни приятным словом, ни даже талантливостью, и в глазах которых литература есть одна из тех прискорбных и жалких потребностей, которые, подобно домам терпимости, допускаются в обществе как необходимое зло.
Было время, когда литература заявляла претензию на монополию мысли – это, конечно, было с ее стороны несколько затейливо; но, по крайней мере, затейливость эта ставила звание литератора на известную высоту. Нынче на литературном рынке оказывается так много продающих и так мало купующих, что прежние высоты у всех на глазах превращаются в несомненнейшие низменности, а бывший горделивый монополист мысли все больше и больше приобретает отличительные качества зайца.
Каких-нибудь четыре, пять лет времени – а как многое изменилось! Сколько умолкло, сколько поникло головами! Сколько, напротив того, выползло на свет божий таких, которые и не надеялись когда-либо покинуть те темные норы, в которых они бессильно злоумышляли!
Не подлежит никакому спору, что ремесло русского литератора вообще не может похвалиться блестящим прошедшим. Мы все еще помним то время, когда мысль находилась под гнетом столь несомненных ограничений, что читателю потребно было не мало усилий и изворотливости, чтобы победить ту темноту и запутанность выражения, на которую осуждено было слово. Это было, конечно, не поощрительно, но, по крайней мере, писатель того времени знал, что у него есть публика, которая ищет его понять, знал, что нет в России того захолустья, в котором бы не бились молодые сердца, не пламенела молодая мысль под впечатлением высказанного им слова. Быть может, это была случайность, но случайность, во всяком случае, благоприятная. Вспомним Грановского, Белинского и других, которых имена еще так недавно сошли со сцены * ; вспомним то движение мыслей и чувств, которому было свидетелем современное им поколение, вспомним увлечения, восторги, споры… Вспомним все это и, взирая на современное умудрившееся общество, скажем: да̀! увлечения бесплодны, увлечения легкомысленны, увлечения больше всего преждевременны!
Современный литератор всего меньше «властитель дум», современный литератор – это пария, это почти прокаженный. Это существо забитое, вечно жмущееся к стороне; существо, коснеющим языком и с бесконечными оговорками сознающееся в своем ремесле. Его терпят, на него смотрят с снисходительным состраданием потому единственно, что литература в целом мире признается как одна из функций общественного бытия. Известно, что когда общество создается, то в основание его, по заведенному порядку, полагается множество разного рода материалов, из коих одни должны служить краеугольными камнями, другие – орнаментами. Предполагается, что общество не может существовать без благоустройства и благочиния, без народного продовольствия и народной нравственности, без справочных и сложных цен * (сии суть краеугольные камни), но, с другой стороны, невозможно также допустить, чтоб общество могло обойтись без наук и искусств (сии суть орнаменты). План начертан и аппробован, и не исполнить его нет никакой возможности. Этот план, разделенный на множество клеток, заключает в каждой из них либо краеугольный камень, либо орнамент, причем строжайше наблюдается, дабы камни не смешивались ни между собою, ни с орнаментами, так как подобное смешение может нанести ущерб отделке плана. Заключенный в свою клетку, со всех сторон окруженный краеугольными каменьями, что может совершить бедный, беспомощный литератор? на какие подвиги он может отважиться?
Очевидно, что подвиги эти не могут быть ни особенно интересны, ни особенно разнообразны. Как бы мы ни украшали клетку, все же из нее ни под каким видом не выйдет вселенной; как бы мы ни уподобляли поэта или публициста, сидящего в клетке, орлу парящему или соловью, в трелях изнемогающему, все же это будет только орел или соловей, то есть в обоих случаях птица, которой и свойственны подвиги птичьи, а не человеческие.
Но это-то несомненно и имелось в виду при устроении общества по предначертанному плану. Предполагалось, что каждая клетка сохранит свою чистоту во всей ее первобытной беспримесности; что поэты, отнюдь не прикасаясь к краеугольным камням, будут воспевать красоты природы, поздравлять с именинами и писать мадригалы, акростихи, триолеты и буриме, прозаики же, ораторы и публицисты предъявят образцы недерзостного красноречия с оттолчкой (одно из соловьиных колен) и усугублением. Затем общество, с своей стороны, за каждую удачную оттолчку, за каждый ловко скомпонованный триолет будет жаловать по двугривенному. Понятно, что задуманная в таком виде клетка литературы и искусств не могла изображать ничего иного, кроме клетки, из которой слышалась по временам трель соловья, а по временам свист скворца. Но, с другой стороны, общество, платившее по двугривенному за мадригал, также не могло не заметить, что, как ни приятны для слуха оттолчки, усугубления и трели, но, во всяком случае, они далеко не столь увесисты, как те булыжники, кои именуются краеугольными. Спора нет, хорош триолет:
Лизета – чудо в белом свете… – *
но, в сравнении с «учреждением губернских правлений» * , он далеко не выдерживает даже снисходительной критики. Смекнув это, общество, естественно, пришло к заключению, что ремесло поэта, оратора и публициста есть ремесло пустое и легкомысленное, необходимое лишь для наполнения праздной клетки, во всех же других отношениях бесполезное.
Этот взгляд на литературу до такой степени укоренился в обществе, что и до сих пор большинство его очень неподатливо на уступки в этом смысле. В сущности, большинство цивилизованное и большинство нецивилизованное разнятся на этот счет очень немного. Если нецивилизованная толпа называет литератора «физиком голландским» * , то толпа цивилизованная видит в нем нечто вроде трактирной арфистки, вечно голодной и потому вечно и умиленно кривляющейся. Это его существенное назначение, это девиз той клетки, в которую он посажен, и, покуда он не выходит за пределы этого девиза, покуда он поздравляет, акростишествует и изнемогает в трелях, толпа терпит его и даже смотрит на его эквилибристические усилия с сострадательною благосклонностью.
Но за пределами девиза начинается ненависть.
Бывают такие минуты в жизни обществ, когда краеугольные камни вдруг приходят в движение и перемешиваются как бы под влиянием волшебства. Для орнаментов это моменты самые опасные и соблазнительные, и благоразумнейшие из них именно так и взирают на это дело. Они еще глубже забиваются в клетку и все старания свои употребляют на то, чтобы как-нибудь пропеть совсем по-соловьиному. Не так бывает с орнаментами юными и неопытными: они не понимают опасности и прельщаются только соблазном. Видя, что большинство краеугольных камней сдвинулось, они уже ни о чем больше не думают, а открыто присоединяют свои голоса к хору обывательских голосов, празднующих победу. Странное зрелище являет тогда природа: птицы, простые, ощипанные птицы начинают изрекать человеческие глаголы, тыкают носами в кучу и извлекают оттуда не червей навозных и прочую благопотребную снедь, а какие-то вопросы! Можно себе представить, какое действие производит это зрелище на толпу, при укоренившемся в ней убеждении о бесполезности и негодности птиц ни к какому разумному делу! *
Надо сказать правду: способность петь по-соловьиному и парить по-орлиному является здесь как нельзя более кстати. Никогда, никакой хор цивилизованных подьячих не пропоет с такою ясностию песенки о значении того или другого краеугольного камня, с какою сделает это любой птице-литературный хор. Там, где подьячий недоумевает и путается в приискивании надлежащих формул, птица-литератор не только отыскивает самую суть булыжника, но тут же начертывает и образ, который наиболее для этой сути приличествует. Это последнее качество в особенности повергает толпу в беспредельное изумление. Толпа всегда и везде лицемерна; она сидит, крепко уцепившись за свои булыжники, и, закрывшись ими, как щитом, думает, что, исполнив этот обряд, она исполнила все, что предписывается законами ходячей нравственности. Сверх того, она убеждена, что ее никто не видит. И вдруг выискивается целый хор лиходеев, который бесцеремонно проникает в самое капище нашего потаенного разврата, который делает подробный инвентарь нравственному хламу, накопившемуся на дне капища, и, совершив все это, начинает беззастенчиво взирать на нас теми самыми глазами, которыми мы, и только мы одни, взирали на себя в те редкие минуты, когда в нас пробуждалась совесть. И кто же эти лиходеи? Кто эти бесстрашные исследователи нашего домашнего хлама? Это птицы, простые, ощипанные птицы! *
Толпа протирает глаза и не может прийти в себя. Ей некоторое время кажется, что она слышит все те же поздравительные стихи, но только в новой, не совсем привычной для нее форме. Это время для птиц самое льготное. Они щелкают, заливаются и свистят на все лады и на всей своей воле; они оперяются – оперяются, вспархивают, машут крыльями и вдруг взмывают вверх, очаровывая зрителей смелостью полета и обширностью описываемых в воздухе кругов. Ничто не удовлетворяет их: ни конопляное семя, ни манная каша, ни жеваный хлеб; «мало! еще!» – свистят они, разыгравшись. О, незабвенное зрелище! о, сладкие минуты птичьих надежд! *
Но вот в толпе начинается говор и слышится сдержанный ропот. Ее будущее казалось так светло – и вдруг она усматривает в нем только птиц, без толку наполняющих воздух щебетанием. Она начинает совещаться, переговариваться и злоумышлять; она знает, что птицы бесхитростны и беспечны, что они никогда не умели отличить корм вольный от корма, рассыпанного кругом силков. В надежде на эти птичьи качества, она ждет…
И действительно, случайно напущенный птицами мрак мало-помалу рассеивается, и свет снова и безвозбранно вступает в права свои. Случая, простого случая достаточно толпе, чтобы по-прежнему занять те позиции, с которых она была временно сбита. * И чем дряннее этот случай, тем радостнее хохочет толпа, тем неистовее плещет руками. «Птица-то! птица-то! смотри, какого напустила туману!» – вопиют современные фарисеи, все еще ощупывая себя и не веря глазам своим, что бока у них невредимы.
– Ату его! ату-у-у-у! – вдруг раздается победный глас по всей линии.
С той минуты, как раздался этот зловещий клик, скоротечное торжество литературных птиц уже кончилось. Захваченные врасплох, светозарные одежды падают сами собою, и перед изумленными взорами любопытствующих предстоит простая птица, в том виде, в каком она должна быть в самый цветущий период линяния, с слегка пораженной головой и с надломанными крыльями. «Ты не оправдал моего доверия! ты злоупотребил моим добродушием!» – тычет в укор толпа, и как ни темно подобное обвинение, но на сей раз обыватели достаточно остроумны, чтобы не только постичь его, но и развить во всей ужасающей полноте.
Нет ничего горчее и в то же время нет ничего комичнее, как положение бедной, ощипанной птицы, которую упрекают в том, что она не оправдала доверия.
– Помилуйте! да я кружился, играл… я… – лепечет смущенный зяблик-литератор.
– Врешь! ты не оправдал моего доверия! ты злоупотребил моим добродушием! – продолжает кричать толпа, не внемля никаким оправданиям.
И вот, на помощь этой толпе, из самой среды зябликов, отделяются опытные охочие птицы и помогают управиться с злополучным пернатым воинством. «Мы не литераторы, – кричат они бойко и весело, – мы не имеем с литературой ничего общего! Мы пели и свистали в то время, когда литература сочиняла поздравительные стихи; теперь же мы просто благонамеренные обыватели, приобретшие некоторую опытность в формулировании обвинений!»
Для толпы подобные охочие птицы – сущий клад. В самом деле, возьмите любого из наших обывателей; пойдите во всякое время на Невский проспект и отделите от этого праздношатающегося стада какого хотите субъекта, – что вы получите? – вы получите извозчика по убеждениям, извозчика по развитию, извозчика по надеждам и стремлениям! Какое дело извозчику до литературы, до умственного труда вообще? Может ли интересовать его что-нибудь, находящееся вне самого простого брюшного материализма? Могут ли эти первоначальные организмы, эти сектаторы брюхопоклонничества, чем-нибудь тревожиться, особливо в те ликующие минуты, когда двери ресторанов отворены настежь, а камелии и кокотки так и шмыгают по торцовой мостовой? Ежели они и подозревают, что в движении мысли скрывается нечто для них зловредное, то подозревают это смутно, формулировать же и даже изглаголать свои опасения не могут. Понятно, как кстати являются тут на выручку охочие птицы. Иные из них за двугривенный, другие – просто за сладкий пирожок, одни – с сугубым ехидством, другие – просто по неведению, но, в окончательном результате, каждая и во всяком случае может подать деловой совет, каждая укрепит и наставит, каждая сумеет сформулировать против чего угодно и какое угодно обвинение.
И вот начинается спешная и деятельная работа; охочие птицы устраивают гласные и негласные гнезда и, засевши в них, с прилежностью и азартом приступают к делу обстреливания литературы…
. . . . . . . . . .
Но отвратим взоры от этого плотоядного зрелища и спросим себя: ужели в самом деле двугривенный или сладкий пирожок имеют столь значительную внутреннюю ценность, чтобы за сию мзду стоило отдавать на поругание дело мысли?
И виновата ли мысль в том, что она не останавливается, что она обладает способностью проникновения, что она ищет постичь и усвоить себе явления жизни?
Или забыты все предания? или понятия о литературной честности и приличиях до такой степени упростились, что нет более ни препятствий, ни преград для подвигов благоустройства и благочиния * ?
Ужели и с каких именно пор мысль приобрела свойства разрывной бомбы? Ужели, не шутя, от нее следует ожидать не обновления, а обветшания и смерти общества?
Ужели, наконец, охочие люди не понимают, что, ругаясь над мыслью, отдавая ее на пропятие, они косвенным образом ругаются над самими собою, ибо и они, хоть в прошедшем, хоть в детски-поздравительных формах, а все-таки были причастны делу мысли?
Ужели все это не сказка, не безобразный сон, а горькое свидетельство голой действительности?
Но будем снисходительны к двугривенному; эта монета, хотя и малая, все-таки доступна для понимания, ибо представляет собою известное число фунтов хлеба. Для здоровенного соглядатая, которого желудок снабжен жерновами, требующими беспрерывной работы, и который, сверх того, обязан моционом, это обстоятельство очень важное. Бедность и сила аппетита одни могут в этом случае определить меру человеческих подвигов, одни могут провести ту черту, за которою начинается вменяемость. Но что̀ сказать о тех износившихся, но сытеньких старичках, которые каверзничают и предают из-за сладенького пирожка? Ужели они не понимают, что у них даже зубов нет, чтобы съесть этот лакомый кусок?
Повторяем, толпа не имеет надобности в обвинительных органах – их в достаточном количестве выделяет сама литература. Подвижники этой нового рода благонамеренности в совершенстве понимают свое ремесло и приступают к нему с осмотрительностью и знанием дела, заслуживающими лучшей участи. С одной стороны, они вполне знают, чего именно хочет толпа и какого рода обвинения соответствуют мере ее роста; с другой стороны, им небезызвестны и некоторые провинности литературы, которые, будучи приведены в соответствие с ростом толпы, могут дать пищу свойства несомненно уголовного * . И так это удобно устроивается, что толпе остается только изрекать приговоры и приводить их в исполнение.
Насытившись зрелищем поднимания ног, посрамивши слух соответственною беседою, толпа любит поговорить о нравственности, о том, какой она представляет важный рычаг в обществе и ка̀к она в особенности необходима… в простом классе.








