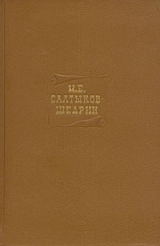
Текст книги "Том 7. Произведения 1863-1871"
Автор книги: Михаил Салтыков-Щедрин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 26 (всего у книги 52 страниц)
С другой стороны, я отнюдь не хочу утверждать, что акклиматизируемый человек непременно представляет собою высший организм относительно тех существ, с которыми свела его судьба. Но я был бы неправ, если б умолчал, что это человек иных привычек, иных взглядов на вещи. И если бы кто-нибудь предложил мне вопрос: совершеннее ли эти привычки, чище ли эти взгляды, нежели те, которые выработались в среде провинциального захолустья, – я поступил бы недобросовестно, если бы дал другой ответ, нежели: да̀, совершеннее, чище. В этом заявлении нет даже ничего такого, что ставило бы акклиматизируемого человека на пьедестал, ибо относительное совершенство, которым он пользуется, принадлежит не столько ему лично, сколько той иной среде, воздух которой он заносит вместе с собою.
Сверх того, я ни слова не говорю о тех «высших соображениях», которые играют в этом случае очень немаловажную роль. Я не призван быть судьей этих соображений и потому прохожу мимо них молчанием, констатируя лишь голый факт.
Затруднения, которые неизбежно сопрягаются с отыскиванием «хороших людей» в провинции, бывают двоякого рода. Первое заключается в том, что при настоящих условиях дело покорения человеческих сердец возможно только тогда, когда оно ведется в формах самых сдержанных и уклончивых; второе – в том, что человек, занимающийся покорением сердец, волею или неволею обязывается прежде всего открыть какое-нибудь посредствующее звено, которое связывало бы его личные идеалы с теми, которые стоят у него на пути. Что акклиматизируемый человек обязывается вести свои поиски в формах до крайности уклончивых – это ни для кого не тайна. Невозможно отрицать, что каждое его действие, каждое слово подвергаются комментариям, в которых предвзятая мысль и подозрительность играют роль очень видную. Исключительный характер положения ставит его открытым для всех взоров и предположений. «Может быть, он и в самом деле какой-нибудь смутьян?» – невольно спрашивает себя обыватель, сбитый с толку загадочной внешностью, облекающею факт появления акклиматизируемого человека; а наблюдающая власть даже и вопросами не задается, а прямо говорит: «Да̀, смутьян». Хоть это нимало не вредит жалению, разлитому во всех сердцах (обыкновенно этот предполагаемый смутьян – молодой человек, а кто же смолоду не был молод? * ), но не вредит лишь под условием строгой выдержки и смотрения в оба. Этого мало: угрозы, которыми действительно окружено существование акклиматизируемого человека, в весьма значительной степени усиливаются еще угрозами несуществующими, но возможными. Предположим, что акклиматизируемый человек настолько благоразумен, что уже не ждет особенных ласк от судьбы, но легкость, с которою он на каждом шагу рискует подвергаться всевозможным ущемлениям и уязвлениям, невольным образом должна наводить его на соображения далеко не светлого свойства. Очень может быть, что никто не воспользуется этою легкостью, но она существует как возможность, и этого достаточно, чтобы мысль самую смелую привести в смущение. А отсюда следствие ясное: или необходимость уйти в себя, или же не менее горькая необходимость взвешивать каждое слово, обесцвечивать его и сообщать ему двойной смысл. Понятно, какою неясностью и запутанностью должны страдать отношения, которые завязываются при подобных условиях.
Второе затруднение еще важнее. Звено, которое связывает идеалы акклиматизируемого человека с идеалами аборигена, так длинно, что невозможно утилизировать его иначе, как укоротивши его, а это – по крайней мере, для начала – возможно сделать только с явным ущербом для первых. Человек, отдающий себя делу воспитания * , весьма редко принимает в расчет ту силу сопротивления, которую оказывает сторона воспитываемая, но суровая действительность не замедлит напомнить ему об этом, и напомнить самым разочаровывающим образом. Тут дело не только в терпеливом повторении задов, но и в ниспровержении лжей и фантасмагорий, накопленных эмпиризмом и суеверием. Тут дело идет не с tabula rasa [69]69
чистой доской.
[Закрыть], а с доскою, исписанною сверху донизу каракулями очень определенного свойства. Каждая из накопленных лжей отстаивается тем с большим упорством, чем меньше имеется разумных оснований для поддержания ее. И в большей части случаев самое прикосновение к лжи считается дерзостью, почти что святотатством.
– Нет, ты это оставь, – говорит обыкновенно обыватель, – это так уж от бога положено.
И заметьте, таким образом говорит обыватель, который считает себя снисходительным; менее же снисходительный даже разговаривать не будет, а просто вытаращит глаза и пойдет строчить втихомолку просьбицу * . Спрашивается, насколько же должен ума̀лить себя человек, отыскивающий хороших людей, насколько он должен поступиться, обезличиться, покорить самого себя, чтобы провести какой-нибудь уровень между собою и этими искомыми людьми?
Сверх того, человек, который предпринимает работу сближения в провинции, должен сказать себе заранее, что это совсем не та работа, которую он вел в то время, когда он жил в своем месте. Возможность определенного формулирования мысли, спокойная постановка возражений и спокойное же обсуждение их – вот характеристические черты того взаимовоспитания, которое там, в этой иной, более благоприятной среде, зрело и упрочивалось. В этом минувшем процессе самовоспитания, несмотря на его недоконченность, уже существовало множество положений, совершенно выработанных и бесспорных, а это, в свою очередь, устраняло с арены споров так называемые азбучные истины и дозволяло мысли сосредоточивать все свои усилия на главной задаче. Ничего подобного не найдет акклиматизируемый человек в новой деятельности, которая предстоит ему в провинции. Прежде всего на него градом посыплются возражения, и притом возражения торопливые и требующие столь же торопливых разъяснений. Малейшее колебание в этом случае надолго подрывает репутацию популяризатора и ставит его в ряды легкомысленных людей, о которых, как известно, в провинции сложилось множество самых смешных поговорок, вроде: «Не сули журавля в небе», «Не хвались, идучи на рать», и проч., и которые в каждом колебании находят себе подтверждение.
– На посуле-то ты, как на стуле, – подсмеивается обыватель над замявшимся популяризатором, – а как до дела дошло – тут и нет тебя!
Что̀ же касается до бесспорных подготовительных положений, которые так облегчают дальнейшую работу мысли, то их нет вовсе. Тут все спорно, все надо начинать сызнова, над всем останавливаться, все разъяснять. А так как это труд дробный и утомительный, то время уходит без остатка, и в конце концов популяризатор не без удивления замечает, что в деле собственного развития он не сделал ни шагу вперед, в деле же развития ближних достиг лишь того, что приобрел право гражданственности для таких бесконечномалых крупиц, которые он предполагал уже с колыбели присущими каждому человеку.
Ничтожество этого результата действует тем поразительнее, что всякий акклиматизируемый человек непременно до мозга костей проникнут любовью и сочувствием к массе. Работа, которая велась им еще там, в своем месте, никогда не имела в виду ничего, кроме массы и ее кровных интересов. Но вот является случай сделать массу участницею этой работы, и с первого же шага возникает бесчисленное множество преткновений. Масса не только не обладает ни одною из элементарных истин, составляющих необходимый отправный пункт для дальнейших обобщений, – она не знает даже, от кого и как получить эти истины, где ее друзья, где ее враги. Те тонкие, невидимые нити, которые связывают с нею человека, живущего в обстановке вполне отличной от ее обстановки, совершенно ускользают от ее понимания. Кто этот человек, который упал в среду ее, подобно аэролиту? С какой стати он предпринимает работу сближения? Не вернее ли предположить, что, благодаря особенностям воспитания и всему складу прошлой жизни, у него не должно быть ни малейшего интереса для поисков «хорошего человека» между ними, бедными тутошнымилюдьми?
Все эти сомнения невольным образом закрадываются в массу и заставляют ее с недоверчивостью относиться к воспитательным попыткам. Масса, конечно, и сама чувствует, что она страдает и терпит лишения, но чтобы этими ее страданиями страдал человек, который всеми условиями жизни поставлен вне необходимости страдать и терпеть лишения, – это для нее непонятно ни с какой стороны. Никогда она не видала подобных примеров; никогда не было у нее ни ревнителей, ни печальников, а ежели таковые и были, то она, конечно, ничего не знала о них. Все ревнительство ограничивалось случайно брошенным словом, которое тут же и замирало, а вслед за ним и сами ревнители исчезали в пучине. Масса ни разу не испытала на себе ни одного отголоска этого ревнительства и продолжала протестовать против своих страданий единственным оружием, которое было у нее в руках: страданиями же или – много-много – частными нарушениями некоторых обязательных для нее правил. И вдруг она видит этих ревнителей воочию, видит их проникающими в самое сердце ее… Зачем? Зачем эти сравнительно изнеженные, набалованные люди прикасаются к ее страданиям, к тем страданиям, которые не суть их страдания, но составляют исключительный удел лишь масс?
Вот каким образом рассуждают «хорошие люди» провинции, «хорошие» не в ироническом смысле, а в действительном. Предоставляю читателю самому решить, насколько подобные рассуждения благоприятны для акклиматизируемого человека.
Но, кроме поверья о том, что хорошие люди везде живут, есть еще другое поверье, утверждающее, что и для масс возможны минуты прозрения. Против этого поверья возражать нельзя. Минуты прозрения не только возможны, но составляют неизбежную страницу в истории каждого народа. Однако для человека, взятого изолированно, дело заключается не в одной возможности подобных минут, но и в его личном отношении к ним. Когда наступят эти минуты? Для кого расступится мрак, окутывающий лицо масс, и даст увидеть это лицо просветленным, носящим печать сознания и решимости? Слова нет, что даже отдаленная возможность чего-либо подобного может поддержать в человеке героизм; но ведь герои не растут на свете, как грибы в лесу, а сколько же есть людей не героев, а просто честных, полезных и наклонных к добру, для которых эти вопросы суть вопросы утешения или отчаяния?
Во всяком случае, разрешения этих вопросов покаместь еще не предвидится. В громаде убиенных, которую представляет собой масса и для которой, по-видимому, нет в настоящем никакого просвета, существует какое-то неисповедимое тяготение к обседающему ее со всех сторон злу, какой-то непреодолимый страх ко всему, что̀ не разом, не по манию волшебства устраняет его. Сбитая с пути разумных отношений к окружающей природе, загнанная в мир чудес, эта громада от чуда ждет избавления своего из земли египетской, и никакие пророки в мире не убедят ее, что это избавление зависит от нее самой. И что̀ ж это за пророки! Добро бы это были пророки, являющиеся на вершине горы, среди блеска молнии, а то пророки, ютящиеся в самой низменной низменности города Некасытя, – пророки, набравшие в рот воды, озирающиеся по сторонам и объясняющие склады! «Да дайте же пинка этому пророку!» – резонно замечает капитан-исправник. «Накаливай его!» – словно эхо перекатывается из края в край в массе убиенных.
Существуют, однако ж, вопросы, к которым масса не может относиться иначе, как с возбужденным интересом. Это вопросы ближайших нужд, из совокупности которых слагается жизнь коренного обывателя и возделывателя земли. На сцене – изнуряющая мысль о гроше; на сцене – вечная забота, вечная сутолока, имеющая в предмете завтрашний день. Мы знаем, что земля наша изобильна, а между тем все статистики свидетельствуют, что в цивилизованном мире нет страны, которая потребляла бы так мало мяса. Мы знаем, что земля наша велика, а между тем нигде коренной житель не живет так тесно, так сперто. Это не жилища, а логовища. Ночью в избе русского мужика невозможно полчаса выдержать, – до того она преисполнена всякого рода миазмов; а он настолько обдержался, что векует тут целую жизнь. Нигде работа так не тяжела, не безотдышна, как у нас. Рабочий человек каждый шаг берет с бою, каждую минуту борется с препятствиями, потому что все стихии в заговоре против него. В этом странном шалаше, называемом избою, он не защищен ни от чего. Он ест пищу, лишенную питательности, и притом ест без соли; он спит на голых досках, покрываясь собственною одеждою. Ученые свистуны, рыскающие по России с целью различных экономических исследований, уверяющие, что русского человека тошнит от еды, и указывающие на громадные цифры заграничного отпуска, утверждают самую бессовестную неправду. Их поражает не изобилие, а перспектива суточных, подъемных и прогонных денег. *
Такого рода вопросы были бы, конечно, понятны и в Патагонии * , но не надо забывать, что покуда они представляются уму обнаженными от применений и выводов, то самая удобопонимаемость их может принести мало пользы. А в том-то и заключается действительное несчастие масс, что они не имеют досуга для развития, что они живут только настоящею минутой и что для ограждения настоящей минуты им выгоднее признать зло застывшим или, в крайнем случае, что̀-нибудь временно выторговать у него, нежели начать его прямое обличение.
– Враг силен, враг горами качает! – говорит обыватель, изнуренный не борьбою со злом, а подчинением ему, – как бы только вконец не убил!
И только. Затем, с какой стороны ни подойдите к провинциальному патагонцу, вы встретите его до такой степени вооруженным афоризмами, что во всем его организме не найдется ни одной точки, которая была бы чему-нибудь доступна, кроме безотчетного страха.
Таким образом, искание «хорошего человека», переходя от сомнения к сомнению, почти всегда разрешается полнейшим фиаско. Но ежели фиаско вообще нигде не проходит даром, то тем менее прощает ему провинция,
Для обеих сторон наступает минута разочарования. Акклиматизируемый человек замечает, что каждая новая минута общения приводит за собой только новый повод для недоумений. Азбука, которую он вынужден безнадежно повторять, до такой степени раздражает его нервы, что в глазах его даже затемняется смысл окружающей действительности. Рождается вопрос: к чему начата вся эта комедия? растет жгучее желание покончить все разом, сию минуту; вырываются движения, которым лучше было бы остаться под спудом. Хотелось бы сделать так, чтобы вся эта история забылась и порвалась сама собою; хотелось бы приютиться где-нибудь особняком, запереться, уйти… Но простой разрыв уже оказывается невозможным, потому что и абориген, в свою очередь, подметил борьбу, овладевшую акклиматизируемым, и следит за нею с интересом тем живейшим, чем слабее развита в нем потребность следить за своим собственным внутренним миром.
Как ни непосредственно чувство жаления, оно никогда не остается надолго чувством вполне бескорыстным. «Жалеющий» любит, чтоб «жалеемый» ценил это чувство, чтоб он отвечал ему любезностью и, во всяком случае, готов был разводить с ним тары да бары. Непрошеный глаз врывается в жизнь акклиматизируемого и наполняет ее бестолковейшею путаницей самородных миросозерцаний. Затем являются попытки приручнить, оседлать и оболванить. Образуется убеждение, что «хоть барин-то и прыток, однако поживет с нами – авось и упрыгается». Самолюбия становятся чуткими до болезненности, а мысль о совершенной неприкрытости акклиматизируемого не только не укрощает охоты к нетрудным подвигам, но разжигает ее больше и больше.
– Вся-то цена тебе грош, – плюнуть да растереть! – а ты еще ломаешься!’
Я не стану изображать здесь ни дальнейшего хода этого странного процесса превращения жаления в ненависть, ни картины оскорблений и преследований, которые являются неразлучными его спутниками. Трудно винить кого-нибудь в таком факте, который основывается исключительно на недоразумении. Обе стороны действовали добросовестно. Благодушно подали друг другу руки, еще благодушнее старались насиловать свои естественные влечения и привычки, и только тогда догадались, что им вовсе не следовало сходиться, когда уже были перепробованы все мотивы общения и ни один не оказался достаточно жизненным, чтобы сделаться действительно скрепляющим звеном. Понятно, что чем больше приносится жертв, тем живее чувствуется горечь неудачи; но нельзя не прибавить, что главнейшие уязвления этой горечи все-таки обрушиваются лишь на одну сторону: на акклиматизируемого.
Таким образом, в покалываньях и уязвлениях (их можно бы назвать бессовестными, если б они не были вполне бессознательны) уходят дни за днями, покуда всеисцеляющее время не умирит вражды и не изгладит самого воспоминания о выеденном яйце, которое послужило ей основанием. Что̀ принесет с собой это умирение акклиматизируемому человеку?
Предположите, с одной стороны, что человек настолько покорил себя, что сделался тише воды, ниже травы. Посмотрите, как он ежится, как он каждоминутно то расцветает, то увядает, как беспокойно он прислушивается и засматривает в глаза, как торопливы и, так сказать, укорочены все его движения! Но когда этот человек остается один на один с самим собою, когда в нем вдруг пробуждается сознание проведенного дня, сколько должен он послать проклятий себе и судьбе! Какое мучительное чувство тоски, унижения, безвыходности должно овладеть им? Вот он быстрыми шагами ходит по своему тесному логовищу; он думает, и не знает сам, о чем думает; он беспрестанно хватается за голову, как бы желая собрать свои мысли воедино. Но одна только мысль держит его крепко; это мысль: все кончено! Благотворное дело! какое возможно благотворное дело, когда в голове свила гнездо только одна реальная мысль: все кончено! «Возьмите! вырвите! прекратите!» – вопиет он в тоске, и бесследно замирает этот вопль среди внимающих ему четырех стен.
С другой стороны, предположите, что человек, еще не приступая к процессу общения, уже решил, что одиночество есть единственная форма существования, возможная в его положении. Он прав: одиночество избавляет его от назойливости и дает возможность сохранить неприкосновенным хотя тот запас, который приобретен им в прошедшем. Тем не менее все это нимало не утоляет горечи, которою переполнено его существование. Не говоря уже о том, что потребность общественности сама по себе есть живейшая потребность человека, не следует забывать, что тот умственный запас, который заготовлен в прошедшем, необходимо должен глохнуть и засыпать по мере того, как прекращается процесс освежения и возобновления его. При отсутствии живой проверки мысли человек ставится в странное положение своего собственного оппонента и своего собственного защитника. Этот недостаток мог бы быть отчасти устранен, если б была книга, но в наших провинциальных мурьях очень много навозу и всего меньше книг. Остается, стало быть, один выход: переваривать и припоминать прошлое.
Но когда прошлое уже повторено и перебрано во всех подробностях, когда мало-помалу ослабевают и стираются даже мотивы, вызывающие эти воспоминания, тогда на арену выступает все та же всесильная мысль: все кончено! Все кончено; жизнь прекратилась; будущее исчезло.
Я не говорю: жертвы бесполезны; я говорю только, что дозволительно изумление. Люди и даже дела их исчезают на наших глазах поистине беспримерно. Точно в яму, наполненную жидкой грязью, нырнут, и сейчас же над ними все затянет и заплывет. Вчера еще был человек, а сегодня его уже нет. Не только из жизни, но даже из хрестоматий и курсов словесности исчезают люди. И за каждым исчезновением – молчок * . Грады и веси продолжают процветать: некоторые из них постепенно познают пользу употребления картофеля * , другие – постепенно же привыкают к мысли о необходимости оспопрививания и проч. Но нигде, наверное, не скажется потребность освобождения мысли, того освобождения, без которого немыслимо никакое умственное и материальное совершенствование.
В этом отношении везде, куда ни обратитесь, – молчок.
Для детей *
Годовщина *
Сегодня мне сорок лет. * Помню, ровно двадцать лет тому назад я, точно так же, как и теперь, сидел дома – и вдруг кто-то позвонился в мою квартиру.
– Пожалуйте, ваше благородие! лошади готовы! – сказал, входя, унтер-офицер.
– Что такое? куда? зачем?
Он назвал мне одну из далеких северных трущоб, о которой никак нельзя было сказать, чтобы там росли апельсины.
Мне очень не хотелось ехать, но я поехал. Дети! когда вы умудритесь, то поймете, что иногда слово «не хочу» совершенно естественно превращается в «хочу» и что человек, существо разумно-свободное, есть в то же время и существо, наиболее способное совершать такие движения, которые совершенно противоположны самым близким его интересам.
В то время я был очень добронравный, скромный и безобидный молодой человек. Я мечтал о «счастии», но не повторял вместе с Баратынским:
«О счастии с младенчества тоскуя * ,
Все счастьем беден я…», —
а был счастлив действительно. В том полуфантастическом, но прекрасном и светлом мире, в котором я жил, не было ни становых, ни квартальных, ни исправников, ни даже губернаторов. То есть не было именно тех станций, на которых слишком расскакавшееся «счастье» обязано останавливаться и поверять себя, действительно ли оно «счастье», а не посягательство, не безумие и не злоумышление. Впоследствии опытные люди удостоверили меня, что идея о «счастии» может по временам оказываться равносильною злодейству * , но тогда я ничего этого не понимал. Сказанные выше станции казались мне какими-то туманными точками, при встрече с которыми внимание мое скользило, как будто бы их совсем и не было. Я помню: я уже был тогда на службе и даже писал бумаги, но впечатление, которое оставило во мне это писание, было чисто механическое, или, лучше сказать, меня занимало не содержание бумаг, а те неведомые мне, полуфантастические личности, к которым они были адресованы. Живо представляется мне некоторый Григорий Козмич, которого фигура, как живая, стояла всегда перед моими глазами, фигура маленькая, с армянским типом, с длинным, согнутым крючком носом, с очками на глазах (в то время я его и в глаза не видал, но впоследствии, когда мне на него указали, он действительно оказался точь-в-точь таким, каким рисовало его мое воображение)…
Милостивый Государь
Григорий Козмич!
писал я к нему ежедневно и постоянно заканчивал мое писание словами: «С истинным почтением и совершенною преданностью имею честь быть» и проч. О чем я ему писал, в том я и доныне не могу дать себе отчета, но помню, что мой добрый начальник отделения нередко призывал меня к своему столу и разъяснял, в каких случаях следует писать: «о последующем прошу не оставить меня уведомлением», и в каких – «об оказавшемся имею честь покорнейше просить почтить меня уведомлением». Середины, которая несомненно существовала между «милостивым государем» и «совершенным моим почтением», я никак не мог себе усвоить; она улетучивалась, как улетучивается сон, немедленно, вслед за пробуждением. Повторяю: я жил не личною, а какою-то общею жизнью, которая со всех сторон так и плыла и плыла на меня, так и затопляла своим светом, теплом и гармонией.
Так было и в ту минуту, когда добродушный унтер-офицер объявил мне, что необходимо ехать в отдаленную северную трущобу. Я ничего не понял, кроме того: кому и на что надобно, чтоб я ехал? А так как разрешения на этот вопрос не могло быть, то я машинально оделся, машинально вышел из квартиры и машинально же сел в тарантас. Я помню, что я не спросил даже, что это за трущоба и на слиянии каких именно рек она находится…
Дети! если вам случится встретиться на улице с русским унтер-офицером, спешите снять шапку и поклониться ему! Знайте, что это добрейшее и благороднейшее существо в целом мире, что это неиссякаемейший источник незлобивости, нежной предупредительности и всяческого унтер-офицерского баловства!
По мере того как городской шум заглушается стуком колес тарантаса, по мере того как остаются назади городские здания, суровые глаза унтер-офицера, везущего вас в трущобу, смягчаются, а густые, преднамеренно нахмуренные брови постепенно разглаживаются, делаются обыкновенными, редковолосыми бровями, приличествующими всякому человеку, не наторевшему в ремесле театрального разбойника. Если в городе вы еще носили в глазах его характер казенной поклажи, то тут, на лоне загородной природы, в виду уходящей в безграничную даль почтовой дороги, характер этот исчезает совершенно. Вы становитесь просто несчастным, вы делаетесь заблудшею, но все еще дорогою, все еще желанною овцою, для которой охотно отверзаются все сокровища заботливого унтер-офицерского сердца!
Я не шутя говорю: если за доблести и военную опытность признается справедливым постепенно производить из унтер-офицеров в генералы, то было бы столь же справедливо за благодушие и сердечную мягкость с тою же постепенностью производить из генералов в унтер-офицеры.
Я помню, как мы приехали в Шлюссельбург, или, по местному названию, Шлюшин, и как расходившееся Ладожское озеро заглушало не только говор, но даже крик наш. Я помню, как около «Сясских Рядков» сломалась подушка у нашего тарантаса и мы вынуждены были остановиться часа на два, чтоб сделать новую; как станционный писарь смотрел на меня, покуда мы пили чай, и наконец сказал:
– Да, нынче «несчастных» довольно провозят!
Я помню, как мы приехали в недавно выгоревшую тогда Кострому; с каким остолбенением рассказывали нам о бывшем там пожаре; я помню, как мы перевалились наконец за Макарьев (на Унже), как пошли там какие-то дикие люди, которые на вопрос: нет ли что поесть? – отвечали: – сами один раз в неделю печку топим! Помню леса, леса, леса…
Помню, что когда мы въехали в эту непросветную лесную полосу, я как будто от сна очнулся, и в голове моей ясно мелькнула мысль: да! это так! Это иначе и быть не должно! Одной этой мысли достаточно было, чтоб я вышел из моего нравственного оцепенения и понял мое положение во всем его объеме.
Я понял, что все это не сон. Что я сижу в тарантасе, что передо мной дорога, по которой куда-то меня везут, что под дутой заливается колокольчик, что правая пристяжная скачет и вскидывает комьями грязи… Не таинственным миром чудес глянули на меня леса макарьевские и ветлужские, а какою-то неприветливою пошло-отрезвляющею правдою будничной жизни.
– Что это, ваше высокоблагородие, уж не плакать ли выдумали! – утешал меня добрейший мой спутник, – а посмотрите-ка, птицы-то, птицы-то в лесу сколько! а рыбы-то в реках – даже дна от множества не видать!
Но, несмотря на это, я продолжал плакать. Мне казалось, что здесь, на этом рубеже, я навсегда покинул здание мысли, любви и счастия, к которому так безрасчетливо привязалось мое молодое воображение, и что затем я уже бесповоротно вступаю в область рябчиков, налимов и окуней.
Я давно простил. Быть может, мне скажут, что с моей стороны очень смешно изрекать прощение, которого никто не добивается, о котором никто не думает. Я знаю: действительно, никто не добивается, никто не думает, и тем не менее факт прощения – совсем не претензия, а право. Это сладчайшее из всех прав человеческого сердца; это право, возникающее само собой, помимо всяких соображений об его уместности или неуместности.
Но есть обида, которая и доныне дает мне чувствовать себя. Этой обидой я называю ту сердечную робость, ту потребность примирения, которые, как вор, прокрались в мое существование. С той минуты, как я перешел за рубеж, с той минуты, как я в первый раз сказал себе: да! это так! это иначе и не должно быть! – эта мысль с течением времени до того укоренилась во мне, что никакая неожиданность уже не кажется мне неожиданностью и слово «сюрприз» потеряло для меня всякое обаяние. Я сознаю всю тусклость и невразумительность этих немногих слов, и в то же время не могу найти иных, которые полнее объясняли бы то, что подчас кажется человеку непонятным или неудовлетворительным.
Я совсем не хочу сказать этим, что человек имеет право проходить мимо тех или других явлений жизни, не ощутив по поводу их чувства радости или огорчения, чтоб он был прав, ограничиваясь одним объяснением их; я говорю одно: бывают такие печальные моменты в истории личного человеческого развития, когда человек доходит до уразумения целого порядка явлений, которым можно толькоподчиняться, по поводу которых не остается ничего другого, как толькомахнуть рукою.
Очень трудно считать явление неясным или незаслуживающим внимания по одному только, что оно в самом деле неясно и внимания не заслуживает. Бывают истины совершенно невнятные, но по поводу которых в человеческом уме возникает вполне определенное и притом очень рельефное представление. Нам очень часто говорят: «Не твое дело!», и хотя при этом не объясняют или объясняют с значительными недомолвками, почему известное дело не наше, тем не менее мы не можем не понять, что выражение «не твое дело!» совсем не равносильно выражению «твое дело!» и что к исполнению преподается не первое, а второе. И благо нам, если, мы покоримся этой невнятной истине машинально, с зажмуренными глазами; благо нам, если мы не захотим понять более.
Если мы захотим понять более, для нас уже недостаточно будет ломать многострадальные наши головы над тем или другим словом, над тем или другим происшествием. Нам надобно будет вступить в область более обширную, в ту область, из которой источаются все наши жизненные неясности и в которой совершенно естественно укладываются все эти «не твое дело», «не трогай», «не рассуждай», «не моги», подливающие столько горечи в существование человека, застигнутого ими врасплох. Желательно ли было бы для нас слишком беспрепятственное проникновение в эту область?
Прежде всего нельзя сказать, чтоб доступ в эту область сам по себе был легок и чтоб дверь в нее отпиралась настежь перед всяким, кто желает войти в нее. Область, о которой я говорю, – это сама жизнь, не украшенная цветами, не расцвеченная флагами, но жизнь строгая, исторически сложившаяся, спутанная.
Но и помимо той трудности, с которою дается нам эта темная область, спросим себя, что̀, в сущности, мы приобретаем, проникнув в нее? Мы приобретаем убеждение, что в жизни нет того противоречия, которое не было бы строго согласовано с другими противоречиями, нет той горькой неправды, которая не объяснялась бы неправдою еще горчайшею. Наконец, мы приобретаем способность ничем не возмущаться, ни перед чем не раскрывать удивленных глаз. Можно ли, по совести, назвать такие приобретения драгоценными?








