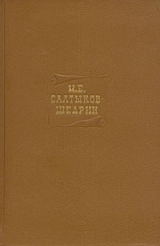
Текст книги "Том 7. Произведения 1863-1871"
Автор книги: Михаил Салтыков-Щедрин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 52 страниц)
Это по части родственных уз.
А вот и по части сословной.
Завелась у нас эта эмансипация. Начальство ее придумало, оно же и приказать изволило – не спорю! Надо, стало быть, исполнять. Кто исполнители? – Пафнутьевы. Каковы исполнители???
Не могу продолжать.
И после таких-то поступков поднимать речь о каких-то якобы правах?!
Сего числа был у меня отец Порфирий, прихода нашего иерей. Разговорились о нынешних обстоятельствах.
– Доложу вам, сударь, вот хоть бы насчет этих самых прав, – сказал мне почтенный иерей. – Сидели мы однажды у господина Дракина за столом, и как была у нас тут изрядная топка * , то я, признаться, за этим самым столом и уснул. И что ж бы, вы думали, господин Дракин надо мной сделали? Припечатали-это к столу мою бороду и в ту ж минуту над самой моей головой из пистолета выстрелили… Так я, сударь, две недели после того собственныя своея слюны не мог глотать!
А прав не было!!
Из-за чего ты бьешься, Пафнутьев? из-за чего целоваться лезешь? – Поистине, это сюжет для меня отменно любопытный!
Поди сюда и давай беседовать.
Станешь ли ты служительские должности исполнять? * – нет, не станешь. Для чего же ты утверждаешь и всенародно говоришь, что служительские должности не суть постыдны? – ты молчишь!
Станешь ли ты с служителями обедать, будешь ли служительскими лакомствами лакомиться, примешь ли участие в служительских удовольствиях, посадишь ли служителя с собой рядом в карету? – нет, не станешь, не будешь, не примешь и не посадишь. Для чего же ты говоришь, что сообщество служительское не есть гнусно? – ты молчишь!
Согласишься ли ты охотой идти в солдаты? чинить мосты и дороги? исправлять подводы? – нет, не согласишься. Для чего же ты твердишь, что это есть всякого прямой долг и обязанность? – ты молчишь!!
От дальнейших вопросов воздержусь.
Но, быть может, ты скажешь: все сие будут исполнять другие, а я только буду направлять?.. Так тебя и пустили!!
Да̀, дети! вы не знаете, какое время, какое ужасное время переживают ваши отцы! Вы даже не поверите, чтобы могло когда-нибудь такое время существовать:
Чтобы дети не уважали своих родителей.
Чтобы служители не слушались господ, а, напротив того, грубили им и даже дразнились.
Чтобы члены одной и той же семьи, вместо того, чтобы подать руку помощи, высовывали друг другу языки.
Чтоб мелких денег не было. *
Чтоб крупных денег не было. *
Чтобы вдруг целая масса людей оказалась ни на что̀ не годною, кроме раскладыванья гранпасьянса. *
Спите, милые! И пусть ангел-хранитель оградит даже сны ваши от представления тех горестей, которые, подобно ядовитейшим насекомым, изъязвляют и поядают отцов ваших.
А все ты, Пафнутьев! ты, ты, ты!
Ты начал с того, что не хотел бочки с водой на доме твоем поставить, – смотри же теперь, любуйся на дела рук твоих! И если бы ты еще доподлинно эту бочку не поставил, а то ведь только накричал, нашумел!.. Что̀ ж вышло? А вот что̀. Первое, служители твои слышали, как ты кричал и шумел, и заключили, что, стало быть, шуметь и кричать можно. Второе, слышавши твои крики, они в то же время видели, что на тебя все-таки никто не посмотрел, а из этого заключили, что ты сечешь, и рубишь, и в полон берешь, а вперед, брат, не подвигаешься! Что малый-то ты, стало быть, дрянь! И первое взяли себе к руководству, а второе к соображению.
Другие-то, другие-то, покорные-то, за что̀ тут страдают?
Верь, Пафнутьев, мне самому тяжело обращаться к тебе с упреком. Я знаю, что ты все-таки Пафнутьев и что твоя бабушка моему дедушке кумой была. Но я вынужден к тому, и вынужден следующим, совершенно несносным обстоятельством.
На днях мы с женой обедаем. Подают суп (стерляжьеи ухи, брат, мы нынче уж не едим: достатки не те), в супе волос.
– Это что̀? – спрашиваю я своего Личарду * .
– Волос-с, – отвечает Личарда, да так ведь, каналья, любезно, как будто бы этому делу так и быть надлежит. Стерпел.
Подают жаркое, к жаркому салат (только сию роскошь себе и позволяем, да и то потому, что свои оранжереи есть), в салате червяк ползет.
– Это что̀? – спрашиваю я опять.
– Червяк-с, – отвечает Личарда.
– Червяк-то червяк, да зачем он сюда попал?
– Попал-с, – отвечает Личарда. Опять стерпел.
Подают пирожное, в пирожном мочалка.
– Это что̀?
– Мочалка-с.
– Зачем мочалка?
– Да что̀ вы ко мне пристали!.. – Не стерпел… *
На другой день следствие. *
И таким образом каждый день. Скажи, Пафнутьев, статочное ли дело так жить?
Я добр; но ежели мне с намерением не дают есть – я свирепею.
Я добр; но ежели встречаю в своей постели битое стекло – я свирепею.
Я добр; но ежели на мое приказание истопить печку отвечают: «поспеешь!» – я свирепею.
Статочное ли дело так жить? – вновь спрашиваю я тебя.
А мы живем. Мы все, потомки бабушки Татьяны Юрьевны, так живем!
И не ропщем, а ждем помилованья. *
Не далее как вчера читал я повесть о многострадальном Иове… * ах, какая это книга! прочти ты ее, Пафнутьев!
Был вечер, на дворе гудела вьюга; сторожа разбежались (да вряд ли, впрочем, и приходили). Я крикнул: «чаю!» – но ответа не получил, ибо лакейская была пуста. Мы ходили с женой по опустелым комнатам нашего старого дома и рассуждали о том, сколько нужно иметь в наше время терпения, снисхождения и кротости; вдали раздавались голоса детей, укладывавшихся спать, и между ними голос старухи няньки, которая, без всякой робости, кричала: «Цыцте вы, пострелята! и то уж из милости паскудникам вашим служу!» В это время взоры наши упали на книгу об Иове.
Результатом этого чтения было то, что мы вдруг как бы помолодели. Откуда взялась бодрость, надежда, уверенность… даже об чае забыли!
– Ты видишь, мой друг, – говорила жена, – если стада отнимаются, то они же и опять посылаются; если рабы разбегаются, то они же и опять возвращаются! Стоит только подождать…
– Стоит только подождать, – повторил я в сладкой задумчивости.
И затем весь остальной вечер мы были веселы, а за ужином даже вспомнили одного веселого соседа, который всякий раз, как что-нибудь ест, предлагает себе вопрос: а ну, Петр Петров, отвечай: подлинно ли ты галантир или битое мясо ешь? И сам же себе отвечает: нет, не галантир и не битое мясо ты ешь, а ешь ты, Петр Петров, последнее свое выкупное свидетельство!
И еще утешило нас с женою вот что̀: Пафнутьев наш хоть о правах и толкует, однако, коли есть в надежде рубль серебра стибрить, так он тоже малый не промах. Вот хоть бы онамеднись: собрались милые люди вкупе (всё для тех же «якобы прав» своих), а об чем же сперва-наперво речь повели? А вот об чем: ты, говорит, получи жалованья тысячу рублев, и мне предоставь тысячу рублев, и ему тысячу рублев… * И так это занятно у них вышло, что даже прохожие и те удивлялись: какие такие земские деятели собрались? Сказывают, иным по пятнадцати целковенькнх отсчитали – и теми не погнушались, взяли… Хвалю!
За что хвалю? за то и хвалю, что, значит, молодцы, – значит, не все еще пропало… Не смотри, дескать, милый человек, что я о правах болтаю, а покажи мне десятирублевенькую…
Хвалю!
Но и за всем тем все-таки грустно. Поймут ли Пафнутьевы или не поймут, а время не ждет. Оно неумолимо посекает и виноватого, и правого, и строптивого, и покорного.
Дети, ужели оно не пощадит и вас?
Новый Нарцисс, или Влюбленный в себя *
Целый месяц город в волнении * , целый месяц нельзя съесть куска, чтобы кусок этот не был отравлен – или «рутинными путями, проложенными себялюбивою и всесосущею бюрократией», или «великим будущим, которое готовят России новые учреждения». Кажется, будто у всякого человека вбит в голову гвоздь. Люди скромные и, по-видимому, порядочные – и у тех глаза горят диким огнем, и те ходят в исступлении. Один говорит о попах, другой – о мостах, третий – о «всеобщем и неслыханном распространении пьянства», четвертый – о наидешевейшем способе изготовления нижнего белья для лиц гражданского ведомства, пользующихся в местной больнице * ; всякий за что-нибудь ухватился, всякий убеждает, угрожает, и так как все говорят вдруг, то никто ничего не понимает, никто никому не внимает и никто никому не отвечает…
Даже лица так называемого «постороннего ведомства» * увлекаются общей тревогой и тоже начинают говорить о мостах, о попах и об изготовлении нижнего белья. Редактор местных ведомостей * выскреб целую статью под названием «Сеятели и деятели», в которой выразил твердую уверенность, что вопрос о снабжении местной больницы новыми и хорошо вылуженными медными рукомойниками получит наконец надлежащее разрешение. Полицеймейстер, который сначала ожидал невесть какого волнения и даже мечтал о том, как он, во главе пожарных, ворвется, рассеет и расточит, теперь этот самый полицеймейстер, узнавши, что дело идет о рукомойниках, охотно пристает к диспутирующим и говорит: «Гм… да… рукомойники… хвалю!» Председатели, заседатели, заведующие отдельными частями, управляющие – все открыто выражают удивление: как это им никогда даже в голову не зашло рассмотреть вопрос о нижнем белье как в его сущности, так и в отношении к тем последствиям, которые из сего проистечь должны. Словом, нет того живого дыхания, которое не принимало бы живейшего участия, не оказывало бы содействия, не удивлялось, не хвалило…
Представьте себе, что вы приглашены на раут, на один из тех раутов, где еще вчера вы были уверены встретить столь известную картину нашего провинциального гостеприимства: столы, покрытые зеленым сукном, и те интимного свойства разговоры, которые в особенности веселят сердца дам. Что сделалось с этим раутом? Где глубокомысленные споры о короле сам-друг и о короле сам-третей, где веселый смех, раздававшийся во всех углах, где интимные разговоры?
– А у нас сегодня «комиссию» выбрали! – говорит полицеймейстеру молоденькая дамочка и вдруг задумывается, как будто нечто ущемило ее ничем дотоле не тревожившееся сердечко. *
Полицеймейстер вздрагивает, ибо все еще опасается волнения. *
– Комиссию-с, какую же это комиссию-с? – ловко выпытывает он, стараясь скрыть подозрительное выражение своих глаз. *
– Мы еще сами… то есть, конечно, мы знаем, но наши messieurs не условились еще, как ее звать… *
– Некоторые из наших messieurs предлагали назвать ее иностранным словом «ревизионная», но мой Alexandre положительно сказал им: messieurs, вы забываете тысяча восемьсот шестьдесят четвертый год! – вмешивается другая дамочка, которой очень хочется показать, что она не чужда «Московских ведомостей». *
Полицеймейстер окончательно убеждается, что тревожить пожарных надобности не предстоит.
– Господа! да скажите же, чем заменить это поганое французское слово «материал»? – мучительно вопиет кто-то из «сеятелей», обращаясь к окружающим.
В ответ вдруг налетает заблудившееся где-то облако исконно русской веселости и разражается ливнем.
– Сапожный товар! – предлагает один.
– Мусор! – остроумничает другой.
– С позволения сказать! – советует третий.
– Никак не называть, а действовать обиняком, – решает четвертый.
– Позвольте, господа, рассказать вам один анекдот насчет этого самого «обиняка»…
Начинается неудобный для печати рассказ, который на минуту успокоивает взволнованные умы. Но это спокойствие кратковременное; чрез мгновенье вновь начинается рознь, раздор и галденье.
– Нет, вы не можете себе представить, что̀ такое эти попы! – говорит один собеседник другому.
– Позвольте! – отвечает другой собеседник, – итак, я им говорю: господа, говорю я, вы не имеете никакой идеи о том, что̀ происходило в нашей больнице, пока мы не приняли ее в свое заведованье! Это, говорю я…
– Я представляю факты; попы, говорю я…
– Вот простой факт, говорю я: однажды вечером я прихожу в больницу, разумеется, секретно, и вижу рукомойники…
– Один поп дошел до такой дерзости…
– Где же вода? – спрашиваю я. – Отчего нет воды?
Сеятели крепко держат друг друга за пуговицы, взаимно обдают себя брызгами, негодуют, волнуются, иронизируют, хохочут и никак не понимают, что каждый из них ораторствует, негодует, иронизирует единственно для самого себя.
– Давеча зашел у нас разговор о мостах, – ораторствует между тем другой сеятель, – предлагаю я, знаете, этот сбор, чтобы с каждого, значит, воза по силе возможности… и вдруг это Петр Иваныч: «А позвольте, говорит, приняли ли вы во внимание, что в сём разе расходы взимания могут превысить доходы поступления?» Я, знаете, туда-сюда – куда тебе, так и сыплет словами! «Вы приняли ли, милостивый государь, во внимание, что при каждом мосте необходимо будет поставить сторожа, что для каждого сторожа необходимо будет выстроить хижину, ибо в нашем климате…» И пошел, и пошел! И так он меня, старика, обидел, что я слова не придумал ему в ответ…
– Хорошо-с, – вступается третий сеятель, – сбор с мостов – это можно. Но приняли ли вы, почтеннейший Николай Степаныч, в соображение вот какую штуку. Теперича, вы едете…
– Еду-с.
– Позвольте, не в том штука, что вы едете, а в том, что у вас в кармане нет денежного знака менее… ну, положим, хоть двугривенного…
Присутствующие начинают смекать, в чем дело, и лица их несколько проясняются.
– Ну-с, приехали вы к мосту, подходит к вам сторож и требует две копейки. Хорошо-с. Вы вынимаете двугривенный, он отвечает, что у него сдачи всего три копейки! Спрашивается: как поступить в этом разе: пропустить ли вас без платежа денег или же заставить возвратиться до ближайшего селения, чтоб разменять ваш двугривенный на менее ценные денежные знаки? А если в ближайшем селении всех капиталов в совокупности три копейки с половиной? а если у вас не двугривенный, а целый рубль?
Сеятель постепенно поднимается, поднимается с места и, наконец, взвивается во весь рост.
– Заставить ли вас, – уже не говорит, а гремит он, – заставить ли вас совершить ваш путь обратно? А если и на обратном пути такой же мост? Заставить ли вас жить между двумя мостами неопределенное время?!
В виду такого множества вопросов присутствующих прошибает пот.
– Нет, вы выслушайте меня, да ради же Христа выслушайте меня! – раздается среди всеобщего хаоса голос еще одного сеятеля, который, по-видимому, до того уж надоел, что все от него убежали.
– Только уж эти мне попы – вот они у меня где сидят!
Хозяин дома только ходит и отдувается. Ему смерть хочется поместить и свою лепточку в общую сокровищницу вопроса о рукомойниках, но он видит, что тут уж не до него, и потому слоняется из угла в угол, как оглашенный, и самым любезным образом всем улыбается. Подойдет к одному – один обрызжет, подойдет к другому – другой обрызжет. «Видно, только в этом и раут весь состоять будет!» – восклицает он мысленно и клянет ту минуту, когда посетила его голову ужасная мысль о созвании сеятелей.
Вот правдивая, хотя и довольно грустная картина нашего современного провинциального существования. Конечно, сеятелям хорошо; они, как молодые рыбки, резво плещутся в безбрежном океане словоизвержений; но каково другим? каково тем, во-первых, кои, за недостатком семян, к сеянию не призываются, и, во-вторых, тем, коим угрожает в ближайшем будущем быстрое обсеменение? Какую роль должны играть эти люди в происходящих перед их глазами словесных турнирах? Должны ли они ожидать предстоящего оплодотворения с смирением и кротостью или обязаны озаботиться приисканием мер, чтобы сделать это оплодотворение взаимным, то есть со временем, в свою очередь, обсеменить самих сеятелей?
Но пуще всего достается тут бюрократам. С ними обходятся или совсем бесцеремонно, то есть напрямки объявляют, что час ликвидации для бюрократии настал, или же пренебрежительно-снисходительно, как будто говорят: «Э, любезные! куда уж вам решать вопросы о рукомойниках!» И никто, положительно-таки никто не хочет признать за бюрократией никаких заслуг… даже в прошедшем; никто не хочет сообразить, что не с неба же свалились все эти вопросы о рукомойниках, а были вызваны на свет, поставлены и разработаны все тою же бюрократией…
И что̀ всего замечательнее, бюрократы не только не протестуют, но, напротив того, понуривают головы и поджимают хвосты, как бы говоря: «Что̀ с нас взять! известно, мы народ отпетый!» Удостоверяются ли они, что время постепенно ощипывает их, провидят ли, что история, в деле ощипыванья, никогда не останавливается на половине пути, но всегда покажет сначала цветочки, а потом уже ягоды и плоды?
Вообще вопросов возникает множество. Признаюсь, однако, что я отнюдь не встречаю затруднений в разрешении их. Я твердо убежден, что в конце концов теория взаимного оплодотворения восторжествует и тогда сразу и сами собой прекратятся все недоумения. Образуются одни обширные объятия, которые заключат в себе и сеятелей, и сеемых, да кстати прихватят и бюрократов. И будет тогда радость великая; бюрократ укажет на сеятеля и скажет: «весь в меня!», сеятель укажет на бюрократа и скажет: «вот моя опора!», сеемые, с своей стороны, будут в умилении приплясывать и приговаривать: «Concordia res parvae crescunt» [3]3
От согласия малые дела растут.
[Закрыть], что в русском переводе означает: «Вот они! вот наши благодетели!» И тогда-то воистину разрешится вопрос о нижнем белье, который ныне лишь бесплодно волнует умы и поселяет в обществе раздор, анархию и чуть не братоубийство.
Не могу сказать, чтоб с моей стороны были какие-нибудь препятствия к появлению сеятелей. Напротив того, я очень рад. Я знаю, что для многих сеятели хуже ножа вострого, но убежден, что мнение это совершенно ошибочно и имеет источником кажущуюся заносчивость некоторых из них. Какой-нибудь алармист, взирая, как у иного сеятеля пена из уст клубится, готов воскликнуть: «Пожар!» Я же, напротив, при этом виде восклицаю: «Плоть от плоти! * кость от костей!» – и затем только утешаюсь и окриляюсь. Я знаю, что пена в этом случае служит сама себе и поводом, и содержанием, и целью, что стоит только обтереть губы сеятеля платком, чтоб увидеть, что, с исчезновением пены, более ничего не осталось. Никаких этаких порывов или поползновений… ей-богу, никаких! Из-за чего же тут волноваться? Из-за чего трепетать? Из-за каких-нибудь «рутинных путей»? Из-за какой-нибудь якобы предстоящей «ликвидации»! * Да боже меня упаси!
Надо же наконец понять, что никакая пена в мире не может обойтись без так называемых ораторских движений и что все эти «рутинные пути» и «ликвидации» не больше как удобная формула, к которой прибегает оратор, дабы выразить в самом лучшем виде парение своей души. Душа парит – кому и когда бывал от того вред? Решительно никому и никогда, а польза, напротив того, большая. Душа парит – следовательно, ораторское искусство неуклонно идет вперед; душа парит – следовательно, отечественная литература ежедневно обогащается новыми терминами; душа парит – следовательно, отечественная история украшается новыми подвигами, отнюдь не уступающими таковым же старым…
Надо смотреть вглубь, милостивые государи! надобно смотреть вглубь!
Смотрю вглубь, и что̀ вижу?
Какой вопрос прежде всего занял умы сеятелей? – Вопрос о снабжении друг друга фондами. * Мне тысячу, тебе тысячу – вот первый вопль, первое движение. Спрашивается: когда и какой бюрократ имел что-нибудь сказать против этого? Когда и какой бюрократ не изнывал при мысли о лишней тысяче? Когда и какой бюрократ не был убежден, что Россия есть пирог, к которому можно свободно подходить и закусывать? – Никакой и никогда.
Каким образом достать эти тысячи? Как устроить, чтоб бумажный дождь падал в изобилии и беспрепятственно? Ответ: сходить в карман своего ближнего * . И практично, и просто. Но спрашивается: когда и какой бюрократ предлагал что-либо иное? – Никакой и никогда. Напротив того, не были ли они все и всегда на сей счет единодушны?
Чем заявить миру о своем существовании? Чем ознаменовать свой въезд в дебри отечественной цивилизации? Ответ: пререканиями по делу о выеденном яйце. Спрашивается: когда и какой бюрократ не облизызал себе губы при слове «пререкания»? Когда и какой заскорузлый повытчик не сгорал жаждой уязвить другого, не менее заскорузлого повытчика? – Никакой и никогда. Помилуйте! да в пререканиях-то именно и таится самая настоящая бюрократическая сласть!
И затем мириадами, как тучи комаров, выступают вперед вопросы о рукомойниках, вопросы о нижнем белье, вопросы о становом приставе, дозволяющем себе ездить на трех лошадях вместо двух… Спрашивается: когда и какой бюрократ не скорбел этими вопросами? Когда и какой не чувствовал священного ужаса при мысли о невычищенной плевальнице, о ненатертых, как зеркало, полах? – Никакой и никогда.
А потому я не только не озлобляюсь и не огорчаюсь, но радуюсь…
Я радуюсь, потому что ничто окрест меня не изменилось, что хотя из всех щелей вылезают запросы, но запросы эти мне словно родные, да и ответы на них тоже словно родные. Выходя из дома, я, как рыбак рыбака, издалека усматриваю моего милого сеятеля и кричу ему: «Ау!» И хотя он ни под каким видом не хочет ответить на мой оклик, но я нимало не обижаюсь этим, ибо знаю, что он, как малый конфузливый, еще не приобык.
Я радуюсь потому, что сеятель не перевернул вверх дном моего отечества, что он сразу понял, что возмущать воду, коей поверхность гладка, не следует, что вызывать наружу раны, кои скрыты, не полезно; что вообще соображать, испытывать, исследовать – голова заболит. Он принял то самое наследство, которое я ему оставил, и лезет из кожи, чтоб сохранить его неприкосновенным и неизменным.
Если он поднял (и именно в укор мне поднял) вопросы о рукомойниках и нижнем белье и если он пользуется этими вопросами, чтобы наглядно показать мою неспособность и поразить меня – я прощаю ему. От него я охотно снесу всевозможные укоризны и поражения и положительно ни одним словом не отвечу на них. «Виноват! недосмотрел!» – вот единственное оправдание, которое я могу допустить в свою пользу на скользком поприще рукомойников. И твердо верю, что сеятель, в свою очередь (хоть и не скоро!), простит меня.
Ты мне мил, сеятель! ты мне родствен, а потому я радуюсь, утешаюсь и надеюсь. Всюду, куда ни обращу свои взоры, я вижу свое собственное отражение, и так как я очень высокого понятия о моей деятельности, то весьма естественно, что мне приходит на мысль: если я один столько дел наделал, то чего не предприму, чего не совершу в согласии с такими ребятами!
И тем не менее, о сеятель! я примечаю в тебе некоторый порок, который может со временем погубить тебя. В чем заключается этот порок – ты увидишь из следующего за сим рассказа.
Вот, наконец, и последний акт драмы * . В городе предсказывают нечто необыкновенное. Выжившая из ума, но все еще принимающая деятельное участие в политических раздорах бабушка Татьяна Юрьевна (она же в просторечии именуется Наиной) торжественно уверяет, что готовится «лекведация». Резвые девицы-внучки подхватывают это выражение и трунят над бабушкой.
– Ка̀к, бабушка, ка̀к? «лекведация»? – пристают они и, обращаясь к одному из вечно слоняющихся франтов-сеятелей, продолжают, – слышите, мсье? бабушка уверяет, что сегодня будет «лекведация»!
– «Лекведация»! charmant! [4]4
очаровательно!
[Закрыть]
– «Лекведация»! impayable! [5]5
неподражаемо!
[Закрыть]
– Да, мои миленькие, «лекведация»! – шамкает бабушка, – сегодня братец Сила Терентьич победит братца Терентья Силыча!
(Несмотря на то что первый – обер-сеятель, а последний – обер-бюрократ, прозорливая бабушка продолжает называть их «братцами».)
С почтительною осторожностью вхожу я на хоры той самой залы, в которой, по словам сеятелей, изготовляется великое будущее России. Тихо. И публика, и сеятели – все смолкло под гнетом впечатления, произведенного заключительною речью одного из ораторов, смелая мысль которого, по поводу вопроса о возобновлении верстовых столбов, успела, в какую-нибудь четверть часа, облететь все страны Европы, сходить в Америку, окунуться в мрак прошедшего и приподнять таинственную завесу будущего. В воздухе колом стоят и «рутинные пути», и «великое будущее», и «твердые упования», и «светлые надежды» – словом, все, чем красна речь всякого благонадежного сеятеля. Сидящие на хорах дамы обмахиваются веерами и встречают мое появление с видимою недоверчивостью, как будто подозревают, что я хочу «смутить веселость их» * . Но так как я ни на чью веселость не посягаю, а хочу только поучиться, то и пробираюсь себе полегоньку вперед, в тот укромный уголок, где привитает добрая бабушка Татьяна Юрьевна, окруженная резвушками-внучками.
– Что, родной, много ли сегодня душ по миру пустил? – спрашивает меня бабушка, как только замечает, что я стремлюсь пристроиться поближе к ней.
В сущности, она любит меня (я знаю довольно много скандалезных анекдотов, которые, по временам, сообщаю ей и до которых она страстная охотница); но с тех пор, как случилась известная «катастрофа» * , милая бабушка глубоко убеждена, что каждый бюрократ поставил себе за правило ежедневно «пускать по миру» по нескольку душ «неповинных», и потому, при всякой встрече, считает полезным напомнить мне об этом.
– Да человека с четыре! – скромно отвечаю я и с удовольствием вижу, что ответ мой производит весьма приятное действие на внучек-вострушек.
Однако внизу что-то позамялось. Слышится шепот, образуются кружкѝ; некоторые из сеятелей спешат сходить в буфет и возвращаются оттуда значительно приободренными. Бабушка впадает в забытье и, словно в бреду, спрашивает, скоро ли будут палить.
– Слышите, мсье? слышите? – подхватывают внучки, – бабушка спрашивает: скоро ли будут палить?
Я начинаю доказывать, что бабушка не совсем неправа и что ежели взглянуть на предмет с точки зрения переносной, то, пожалуй, окажется…
– Шт… – внезапно раздается по зале. Я умолкаю, бабушка просыпается, внучки превращаются в слух. Сеятели скучиваются в одну группу.
Сила Терентьич требует слова. Но, с непривычки, он так сильно сконфужен, что некоторое время только шевелит усами. Он сознает, что ему, как сеятелю из сеятелей, предлежит сказать комплимент, но в седой его голове, кроме «милости просим откушать», ничего не слагается. Наконец чувство долга оказывает свое действие, из уст почтенного старца вылетает ожидаемый комплимент.
– Итак, господа, – говорит он, – слава богу, все кончилось. С божьей помощью, мы наше дело сделали. Во-первых, назначили нашим будущим деятелям приличное содержание; во-вторых, кого следует обложили соответствующими сборами. В эту минуту нет почти ни одного благородного дворянина, который бы не получал содержания, и нам остается только разойтись и принести домой приятные впечатления. Себя не хвалю. Если и есть у меня заслуги, то они не мои, а моих благородных господ сослуживцев. Мне оставалось смотреть и радоваться… и в особенности благодарить. Да-с, благодарить-с (Сила Терентьич низко кланяется, касаясь рукой земли). Я очень понимаю, господа, что труда было довольно, что на нас были обращены взоры целой губернии и что, несмотря на это, мы превозмогли. То есть превозмогли мои благородные сослуживцы, я же, с своей стороны, могу только радоваться и благодарить. Да-с, благодарить-с. Может быть, я не литератор и не все выразил, но скажу: губерния видела, и час этот пробьет в потомстве. Милости просим откушать!
Сила Терентьич обходит сеятелей и поочередно со всеми целуется. «Благодарю!», «Милости просим откушать!» – вот лестные звуки, которые льются из уст его и которые, казалось, должны бы тронуть даже каменные сердца. Но, увы! мельница спущена, затвор потерян, вода бежит – и жернов мотается как угорелый на своей оси, изумляя и огорчая вселенную беспутным досужеством.
На этот раз роль жернова берется выполнить Woldemar Кочкарников. Он лихо выступает на середину, вставляет в глаз стеклышко, выворачивает голову назад и вообще старается придать своему туловищу тот самый вид, который, во дни юности, составил ему репутацию на балах у Кессених. Между сеятелями Кочкарников слывет умником. Он считается специалистом по части железных дорог, потому что езжал по николаевской дороге, специалистом по части кредита, потому что закладывал свои имения в опекунском совете, специалистом по части народной нравственности, потому что держит около десятка кабаков, специалистом по части мостов и перевозов, потому что не далее как прошлой весной единолично и собственноручно разбил наголову целую армию перевозчиков за то, что они замешкались подать ему паром, и наконец специалистом по части больниц, потому что видал-таки на своем веку виды. Поэтому когда, при обсуждении какого-нибудь дела, сеятели становятся в тупик, то обыкновенно кладется резолюция такого рода: «сеятелю Кочкарникову, как специалисту по части такой-то, поручить озаботиться о безотлагательном устройстве в нашей губернии железных дорог и о неотложном усовершенствовании народной нравственности». И затем сеятели успокоиваются, в твердой уверенности, что железные пути будут безотлагательно устроены, а народная нравственность неотложно усовершенствована.
Понятно, что появление такого человека должно произвести некоторый трепет в публике. Дамочки колышутся, демуазельки мечутся и без толку лепечут на все стороны: ах, ma chère, ах, ma chère! [6]6
моя милая!
[Закрыть]Одна барыня на сносях втихомолку молится богу, чтоб будущий плод ее был похож на Кочкарникова; бабушка просыпается и думает, что вокруг нее происходит «воспоминание баталии при Гангеуде» * .
– В мое время тоже в колокола звонили… да! а лгали как… ужасти! – обращается она ко мне и тут же опять засыпает.
– Позвольте мне, господа, сделать небольшую поправку к приветствию нашего почтенного представителя, – начинает Кочкарников среди общего молчания. С свойственною ему скромностью он умолчал о тех трудах, которые подняты им лично на пользу общественного благоустройства, развития и процветания…
Но так как оратор с утра ничего не ел, то в эту минуту перед глазами его внезапно проносятся: майонезы из дичи, майонезы из рыбы, уха из стерлядей, отпоенная добела телятина, одним словом, вся сласть, которую, через какой-нибудь час, ему, вместе с прочими, предстоит обонять, ощущать и смаковать. На душе его становится горько. Зачем он начал болтать? К чему он добровольно отдаляет от себя миг блаженства? На секунду он даже останавливается в нерешимости и думает, не наплевать ли. Прозорливейшие из зрителей начинают беспокоиться, ибо провидят борьбу, которая происходит в ораторе. Но оратор уже сбросил с себя иго кухонного материализма; он вздрагивает и полегоньку трясет головой, как бы освобождая свою мысль от ненужных примесей. Через минуту он по-прежнему свеж и бодр и, как ни в чем не бывало, продолжает выбрасывать из себя потоки.
– Да̀, господа, – говорит он, – это было отрадное и отчасти грустное время. Это было время борьбы с бюрократией и всею ее темною свитой. Окрылялись молодые надежды, развивались молодые упования, росли и крепли в тиши молодые силы. Кровавое знамя социализма пряталось. Чувствовалось жутко и, вместе с тем, легко и отрадно. Как путник, застигнутый в степи бураном, прислушивается, не донесется ли до него звук колокола родной колокольни, так и мы, в нашем святом деле, среди тех великих задач молодого возрождения, которые нам предстояли, прислушивались… чутко прислушивались…








